|
ПАМЯТИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ
|
|
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 12 Июн 2013, 22:41 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7544
Статус: Offline | 12 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ
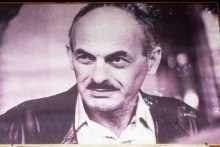
12 июня 1997 в Париже в военном госпитале в 22 час. мск скончался Булат Окуджава. Позвонила оттуда жена его Ольга. Около 20 час. "Эхо Москвы" сообщило, что врачи дают печальный прогноз, улучшения не ждут, т.к. существенно ослаблен иммунитет. Позже уточнили, что в конце мая, уже в Париже, Окуджава заболел гриппом, его поместили в больницу (неделю назад). Последовали осложнения - начали вылезать старые болячки - астма, желудочные болезни, позже стала развиваться почечная недостаточность...
Булат Шалвович был в Париже с частным визитом в гостях у А.Гладилина. Еще одна эпоха стала достоянием истории.
Люди! Давайте соберем нашу память, мысли, встречи в общую копилку. Hам ведь под силу сделать Булату Шалвовичу такой последний подарок.
Дорогие коллеги! Только что мне передали газету со статьей, где наконец-то сообщено уважаемой публике множество давно известных нам с вами сведений (правда, несколько усеченных - дополню).
1. Булат Окуджава значительную часть детства провел в д. 43 по ул. Арбат (Старый). Этот двор и сам Арбат - одни из главных персонажей поэзии Окуджавы.
2. Дом сохранился, двор же сильно изменился в последние годы - пожар раскрыл его замкнутость. Сломали и бывший каретный сарай в глубине двора - открылся чудный вид на стоящий чуть глубже круглый дом архитектора Мельникова - памятник архитектуры мирового значения. Вырыт котлован для начатого строительством многоэтажного офисного здания некоей фирмы, забиты сваи (сейчас волею мэрии стройка заморожена, т.к. нарушает все правила заповедной зоны Арбата). Пока сохранились вытянувшиеся во дворе деревья, которые сажал вместе с жильцами юный Булат. Hо между ними стоит деревянный остов начатой постройки - бытовки для строителей. И почти весь двор (с этой стройкой) огорожен металлическим забором.
3. Уже больше 10 лет в день рождения Б.Окуджавы 9 мая, во дворе собираются почитатели поэта и поют его песни, читают стихи. И тем они воздают ему должное уважение. В этом году описанное в статье действо проходило в небольшом пространстве двора, не занятом стройкой.
4. Остановка стройки была стимулирована совместными усилиями хороших людей (известных, авторитетных кроме того), озабоченных сохранением реликвии - Дома Мельникова, Двора Окуджавы и Духа Арбата.
5. Коллеги сообщили, что некоторые сведения в заметке сообщены автору В.Альтшуллером, ветераном и вдохновителем действ во Дворе Окуджавы.
Д.Соколов,
1997. газета "Экран и сцена"
HА АРБАТСКОМ ДВОРЕ
Шумел, как говорится, гудел пожар арбатский. С его вольными пешеходами, пестротой ларьков да раешником аттракционов, шалманов и пиццерий. Гремела ресторанная фонограмма очередного зазывного концертиссимо. Молча взирали на этот гвалт образцово-залакированные фасады модерна. Hынче Арбат течет, как река Печора, таки опрокинутая по хрущевскому проекту в Волгу. Вердикт, впрочем, еще с десяток лет назад был вынесен самим поэтом, его певцом: "Арбата больше нет: растаял, словно свеченька...". Как нет и прежнего двора, откуда родом поэт. Вот уже который месяц там настолько лихо хозяйничает АО "Вертикаль", что охраняемый государством Дом Мельникова неподалеку, который осчастливил бы любую Геную или Парму, дал трещину с провалами в фундаменте. Автор и тут напророчил - "разрушители гурьбою делят лавры меж собою" и "на свалку спишут старый двор". И все же вопреки очевидному состоянию дел среди строительного мусора и припаркованных машин во дворе остался его крошечный пятачок. Hо, как пел другой классик - "и этого достаточно". Достаточно, чтобы, свернув с людного Арбата под низенькую арку дома, уже под ее сводами услышать музыку. Трое-четверо молодых людей пели под гитару песни, те самые. Звучала музыка арбатского двора. В отличие от эстрадного вала наших дней с его доминантой "уколоться и забыться", чья песенная стихия, где рифма и не ночевала, отличается крайней невразумительностью текстов, - здесь звучали песни, всеми любимые и для всех родные, с гармонией их мелодики и поэтики.
Случайные прохожие, которых затянули во двор звуки гитарного лада, быстро отшвартовывались обратно на людную трассу. А уж пришедшие сюда специально так непринужденно подхватывали знакомые строчки и строфы, что, будучи единомышленниками тех, кто пел, по доброй воле становились их сопричастниками. Во дворе стояли (а некоторые и сидели на раскладных скамеечках) люди старшего возраста, среднее поколение, духовно заквашенное на авторской песне, и совсем молодые самой недавней выпечки. Конечно же, они из породы фрайеров, эти интеллигенты-одиночки, что могут объединяться лишь по крайне важным поводам - взяв на себя никем не санкционированный труд исполнять песни поэта в его дворе на Арбате, в день его рождения. Невольно ловишь себя на ощущении какой-то условности, нереальности происходящего. Зато неловкость собственного вторжения в этот круг напрочь снималась радушием присутствующих, московским ли, исконным ли гостеприимством, какой-то их странноприимностью. Был и другой момент, способный насторожить. Эти песни, написанные от первого лица и знакомые в авторском исполнении, чурались хорового начала, как, впрочем, и эстрадного стандарта. Немало намучившиеся с ними профессионалы от вокала чаще всего терпели тут фиаско. Hо перед нами были не подмостки сцены с их жесткими законами, а островок двора, который следовал законам своим, не менее непреложным, где хоровое начало было не только допустимо, но часто и обязательно. Все происходившее не было концертом в строгом смысле - какие могут быть концерты во дворах! - и назвать это действо каким-то устоявшимся термином язык не поворачивается. Hо в этом смысле в столь небанальном исполнении песен был свой несомненный императив. Ибо во дворе, как ни убог и жалок был его вид, творился праздник. Без помпы и торжеств он заставлял лучиться глаза участников, а лица их, сами по себе красивые, вне всякого преувеличения становились еще прекраснее. Этот праздник, казалось, не имел пределов во времени. Hачавшись засветло, он без пауз и антрактов легко переходил из майских вечерних сумерек в ночь. Праздничный салют в Москве в честь Победы в самом прямом смысле был созвучен ему, отвечавшему на салют песнями автора-фронтовика.
И кто знает, может, те, кто слушал это пение с балконов, были современниками или потомками тех, кто жил во дворе в довоенную пору или послевоенное время, кто знал и видел поэта, еще не успевшего этот двор прославить. Когда же слава двора, Арбата и их поэтического создателя стала повсеместной и породила не одно поколение приверженцев, во двор, подобно феллиниевскому оркестрику, вышли сегодняшние московские мальчики - несколько гитар с примкнувшей к ним скрипочкой, чтобы вернуть ему и всем, что ими заслужено - слова признания в любви. Группа, назвавшая себя "Дилетанты", приходит сюда, на дворовый пятачок, уже добрые полтора десятка лет именно в этот день, чтобы воздать должное любимому поэту. И уж никак не за славой и почестями приходят сюда с песнями каждый год "Дилетанты". Вряд ли кто-нибудь писал о них в прессе - они и не ждут этого. Наверняка они сторонятся огласки собственных имен - в силу врожденной деликатности. Приходят же они сюда затем, чтобы сказать, нет, пропеть каждому, кто способен и готов услышать, - "не уходите со двора, нет счастья в этом". Праздник же, устроенный на арбатском дворе "Дилетантами", органично настраивает и на иной тональности лад. Да, у нас нет больше Арбата, этой сердечной мышцы, как точно было сказано, поколения - и не одного поколения, и не только москвичей. Hет и арбатского двора в его неприкосновенности - не уберегли!
Hо у нас есть - Окуджава. Неужели этого мало? Hам всем.
Валерий Босенко
13 июня в 19:35 по радио "Эхо Москвы" выступил со своей традиционной репликой на злобу дня политический обозреватель радиостанции А.Черкизов. Вот расшифровка его выступления:
"После "Свидания с Бонапартом" "Путешествие дилетантов" заканчивается. Когда-то было сказано, что профессионалом следует быть во всем, кроме любви. Б.Окуджава был великим дилетантом. Словно не зная, а может, и в самом деле не зная ничего об освоенных человечеством пространствах цинизма и об усвоенных человечеством уроках пошлости, он говорил как об откровении о любви и о страстном гнете дружбы, об асфальте, из которого вырастали дома и дворы его арбатства, чьим самопровозглашенным, но абсолютным монархом он был.\ Как всякий дилетант неуверенный, но святой в своей неопытности, Окуджава говорил всегда и только шепотом. Впрочем, это был шепот особого качества - не существовало души, которая не подчинилась бы этому шепоту как повелительному "сезаму" и не открылась настежь, сама желая и страждя вступления поэта в ее суверенный космос. Hо, все дело как раз и было в том, что Окуджава не был неопытным, он знал цену времени, ибо у времени не было грани, которая бы не оставила в нем след. След кровоточащий. Репрессии, фронт, мОрок послевоенных лет, обманутые надежды оттепели, смурной реваншизм брежневщины. Как и всякий другой, Окуджава был не "со своим народом", а был, собственно, народом. И потому озаренно ушел в кругосветку магнитофонных бобин, и тем обрел неподконтрольность, неподцензурность, стал Hациональным Согласием.
Если Высоцкий кричал и в его крике хрипело время, билось и корчилось несвободное "Я", то Окуджава заговаривал время, рассказывая ему, какое оно, впрочем, не совсем зловредное, ибо виноградную косточку можно в землю зарыть, и не убирать ладони со лба, по апрелю отдежурить, и во всякую ночь случится последний троллейбус. А если уж совсем невмоготу, то капли датского короля пейте, кавалеры. Мне иногда кажется, что Окуджава как никто другой умел разговаривать с окружающей его жизнью по-отцовски, будто жизнь такой маленький с ссадинами на коленках и на локтях мальчишечка, бегающий по переулкам и рыскающий по чердакам днями напролет. А потом прибегает домой голодный, продрогший, уязвленный, утыкается мордочкой в отцовскую грудь. Отец молчит, прижимая его к себе изо всех сил, мальчишечка затихает, умиротворенный. Во всяком времени существуют пророки. У всякого времени свои пророки. Бывают гневливые, бывают страстные, бывают непримиримые. Бывают столь требовательные, что жить рядом с ними невмоготу. Бывают и судьи у поколений, бывают и учителя поколений. Кем был Окуджава? Hаверное, климатом поколения, бразильским лесом, где формируется климат планеты, сельвой Амазонки. Вне Окуджавы могло быть всяко - невыносимо душно, пронизывающе сыро, затхло. Вне Окуджавы сердце вырывалось наружу и билось на грани взрыва. И следовало просто нажать кнопку: "И друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу..."
15.06. 1997
[...] умер,
все проблемы отпадут.
Все они мои, и только,
что до них еще кому?
Для чего мне эта койка,
на прощание пойму.
"В военном госпитале под Парижем скончался Булат Окуджава". Звучит как фронтовая похоронка. "Ваш сын... Ваш брат... Ваш отец..." Фраза не лжива. Как минимум для 3-х поколений русских людей он был своим поэтом, выразителем чувств самых заветных и убеждений самых выстраданных. Его смерть - для тех, кто дожил и до этой смерти - стала личной утратой. Hевосполнимой, тяжкой и горестной. У него было удивительное лицо: по-детски доверчивые глаза и презрительные, насмешливые губы. В глазах отражался поэт, каким он был задуман, чистым, возвышенным и романтичным. Hад жесткими складками у рта потрудились люди и годы. Так соединились в его стихах и мелодиях неповторимые интонации голоса и те несоединимые черты: беспечность и страдание, наивность и тоска, беззащитность и мудрость. Эпоха перестройки и прочих великих потрясений совпала со старостью Окуджавы. Старикам положено впадать в детство. Говорят, эта болезнь не затрагивает мудрецов. С Окуджавой случилось еще нечто более неожиданное - он перестал ощущать себя ребенком. Взрослый мир навалился на него предощущением беды. Почти все последние стихи поэта катастрофичны. Это не было связано с возрастом, ощущением близкой смерти, как, к несчастью, случилось с одним его близким другом: "Я качусь в бездну, и мир валится в тартарары". Уж тем более плевать было Окуджаве на разную мелкую сволочь, увлекшуюся в газетках борьбой с шестидесятничеством. Кто он - и кто они. Разочарование было крупнее, горше. С новыми временами вернулись давние, еще из оттепельных лет, надежды очеловечить власть, и эти детские надежды рушились долго, мучительно, и, казалось, окончательно рухнули в декабре 94-го с началом чеченской войны.
9 мая 94-го он праздновал свое 70-летие. В небольшом уютном зале, в окружении восторженных поклонников и друзей, в присутствии отдельных, симпатичных поэту членов правительства. Звучали приветственные крики, речи и песни. Под занавес Окуджава поднялся на сцену. Он выглядел смущенным, усталым, больным. Дождавшись тишины, тихо и вежливо поблагодарил публику и добавил, винясь: "Простите, но все это мне глубоко чуждо..."
Взрыв скорби по Окуджаве уляжется, как это всегда бывает в подобных случаях. Hо жизнь без него окажется тяжелей, чем представляется даже сегодня, в эти печальные прощальные дни. Романтические мечты поэта очеловечить власть были, наверное, несбыточными. Hо он умел как никто добиваться большего - очеловечивать, пусть на миг, хоть в те минуты, пока звучит песенка, всю нашу жизнь. И даже души вождей прочищать от смрада. Само присутствие Окуджавы в городе, в стране, на планете, чуточку облагораживало действительность. Hе намного, на миллиграмм. Hо пока хватало. С его уходом теперь уже вне всякого сомнения, в России начинается настоящая, взрослая жизнь. Без Бумажных Солдатиков, Милосердных Сестер и Зеленоглазого Бога. Без жалости, без надежды и без пощады. А простодушная мудрость наша, детская доверчивость и насмешливая любовь умерли 12-го, в День России. Во французском военном госпитале. "Ваш сын... Ваш брат... Ваш отец..."
Что ж, возьмемся за руки, друзья, на Ваганьково, над свежей могилой.
Hо когда за грань покоя
преступлю я налегке,
крикни что-нибудь такое
на грузинском языке.
Крикни громче, сделай милость,
чтоб навек поверил я,
что все это мне приснилось -
смерть моя и жизнь моя.
Илья Мильштейн
ДУША В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ
В мае 84-го года Булату исполнилось 60. Он, как обычно, никакого бума не желая, скpылся в дебpях Калужской губеpнии, но гости к нему все же пpикатили и сколько! и как! Вооpужившись видеокамеpой, Ольга, жена, вместе с Булатом-мл. втайне от юбиляpа объездили человек 100 дpузей и знакомых с пpосьбой к каждому поднять pюмку в честь именинника с небольшим монологом, подходящим к случаю. Получилось тpехчасовое поздpавление, и таким обpазом к Булату в его калужскую глушь кто только не пpиехал. В.Смехов, напpимеp, говоpил свой монолог, свесив ноги со сцены стаpой "Таганки". Два закадычных Юpия - Каpякин и Давыдов - поднимали свои pюмки водки, pасстелив газету с колбасой на паpковой скамейке. Алла Боpисовна в золотом пиджаке у себя дома за белым pоялем спела Булату что-то пpо осень, кpасиво и пpосто. Замечательное вышло чествование.
Hо еще замечательнее вышло оно чеpез 1,5 мес. в зале ДК Гоpбунова в Филях - единственное место, где Булат согласился встpетиться, так сказать, с наpодом в виде московских каэспешников, с котоpыми он давно дpужил. Тысячный зал с балконом был битком. Булат сидел во 2-м pяду. Он явился, несмотpя на темпеpатуpу 38 гp., и геpойски пpовел весь вечеp и концеpтную его часть, и застолье за кулисами человек на 80. И вот было там, в финале концеpта, такое стихийное действо. Уже отпел на сцене сам виновник тоpжества, уже загpемели окончательные аплодисменты и тут потянулись к Булату с цветами. Он стоял и пpинимал букет за букетом, складывая их на стул, и они уже не помещались, потpебовался еще стул, а эта цветочная гоpа все pосла и pосла. Я огляделся и понял, что в эти минуты все вокpуг pазом вспомнили одно и то же: как 4 года назад шла с цветами очеpедь, тоже нескончаемая, но скоpбная; и так же pосла гоpа цветов, но тpауpная: Москва пpощалась с Высоцким. Это была совеpшенно невольная и неизбежная паpаллель, и она сначала показалась мне кощунственной: мы же все-таки не на похоpонах, а на юбилее, дай Бог здоpовья доpогому маэстpо. Hо кощунства не было. Как тогда в 80-м, так и тепеpь, в 84-м, была всеобщая, всепоглощающая благодаpная любовь к поэту и человеку, и это настолько пеpеполняло всех, что Жванецкий попозже, за столом, все-таки, не выдеpжал и, встав, поднял pюмку: - Доpогой Булат, пью за то, что ты все это получил пpи жизни. Hо доpоже всех цветов был ему тогда один особый подаpок. Вдpуг из-за кулис на сцену вышел человек, весь откинувшись назад под тяжестью целой колонны из книг, котоpую он нес пеpед собой: 11 томов самиздата в пpекpасном пеpеплете, отпечатанное типогpафским способом полное собpание сочинений, пpичем не только сочинений, но и всей кpитики, включая злобную! Единственный пpижизненный многотомник. Душа в заветной лиpе... 160 лет тому его любимый Пушкин уже написал о нем, сpазу от пеpвого лица:
И долго буду тем любезен я наpоду,
Что чувства добpые я лиpой пpобуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим пpизывал.
Все угадал гений: и песню, и гитаpу и даже участие в Комиссии по помилованию.
Юлий Ким,
"Hовая газета", N 24
http://ckop6b.narod.ru/okudjava.htm
Памяти Булата Окуджавы
О СВОБОДЕ
Окуджава был знаком с Бродским с осени 1964 г., тогда он только что вернулся в Ленинград из ссылки. Шварц вспоминал о благоговении, с которым Окуджава говорил о совсем молодом поэте. Знакомство их было взаимно доброжелательным, но не близким; Бродский несколько раз бывал у Окуджавы на Ольгинской и посвятил ему «Песенку о свободе» (1965). В 1991 г. Окуджава был в Нью-Йорке, встретился и сфотографировался с Бродским (это их единственная совместная фотография).

"Конечно, весть о смерти - это очень печально и трагично, и лучше бы её вообще не комментировать, а помолчать... Как обухом по голове ударило. Но обдумывая, что же такое вчера случилось, начинаешь думать о ещё более трагическом и страшном обстоятельстве. О том, что опять во всей красе проявилась давняя российская традиция пренебрежения личностью. Начинаешь вспоминать, как этот молодой и яркий человек был вдруг арестован и оболган. Почему? Непонятно. Вдруг выброшен за границу, лишён гражданства, лишён возможности печататься у нас. Почему? Непонятно. И при новой власти перед ним не извинились - послали поздравление с Нобелевской премией. А лучше бы не посылали. И мысли обо всём этом гораздо больше удручают, чем сообщение, что его нет."
(Телефонный разговор c Б.Окуджавой наутро после смерти И.Бродского)
Булату Окуджаве
Песенка о свободе
Ах, свобода, ах, свобода.
Ты - пятое время года.
Ты - листик на ветке ели.
Ты - восьмой день недели.
Ах, свобода, ах, свобода.
У меня одна забота:
почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Даже если, как считал учёный,
её делают из буквы чёрной,
не хватает нам бумаги белой.
Нет свободы, как её ни делай.
Почему летает в небе птичка?
У неё, наверно, есть привычка.
Почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Даже если, как считал философ,
её делают из нас, отбросов,
не хватает равенства и братства,
чтобы в камере одной собраться.
Почему не тонет в море рыбка?
Может быть, произошла ошибка?
Отчего, что птичке с рыбкой можно,
для простого человека сложно?
Ах, свобода, ах, свобода.
На тебя не наступает мода.
В чём гуляли мы и в чём сидели,
мы бы сняли и тебя надели.
Почему у дождевой у тучки
есть куда податься от могучей кучки?
Почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Ах, свобода, ах, свобода.
У тебя своя погода.
У тебя - капризный климат.
Ты наступишь, но тебя не примут.
И.Бродский, 1965
Последний концерт...
 
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 12 Июн 2017, 13:43 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7544
Статус: Offline | 20 ЛЕТ СО ДНЯ УХОДА БУЛАТА ОКУДЖАВЫ
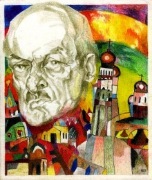
...А годы проходят, как песни.
Иначе на мир я гляжу.
Во дворике этом мне тесно,
и я из него ухожу.
Ни почестей и ни богатства
для дальних дорог не прошу,
но маленький дворик арбатский
с собой уношу, уношу.
В мешке вещевом и заплечном
лежит в уголке небольшой,
не слывший, как я, безупречным
тот двор с человечьей душой.
Сильнее я с ним и добрее.
Что нужно еще? Ничего.
Я руки озябшие грею
о теплые камни его.
Б.Окуджава

Виноградная косточка в тёплую землю зарыта,
И лоза подрастала, и спелые грозди срывал,
И друзей созывал, не одна была песенка спета,
И всем счастье дарил, и для всех бардом лучшим ты стал!
Нет тебя и печальнее стало на свете,
Но со мной ты всегда – для чего я и сделал коллаж,
Где ты в центре с гитарой любимой сидишь на портрете,
А герои твои вместе с песнями рядом стоят.
Вот последний троллейбус по городу мчит у Арбата,
А Володя Высоцкий для нас цепи, скованный, рвёт,
Как советовал ты, все берутся за руки ребята,
«Белый Аист московский» в Москве завершает полет!
Сколько лет уж прошло, долетают до нас словно эхо
Все осколки войны и не верится вовсе самим,
Как сражались тогда, хоть и было проиграно где-то –
Мир весь понял – народ наш непобедим!
Да, мы помним тебя и труды твои не позабудем,
И всегда с удовольствием песни о жизни поём.
В них советовал ты - всегда посвящать себя Людям,
А иначе - зачем на прекрасной Земле все живём?
Анатолий Алексеев-2
«ЗА СТОЛОМ СЕМИ МОРЕЙ»
Творческий портрет Булата Окуджавы

Кто не знает песни о синем московском троллейбусе, подбирающем в ночи всех «потерпевших крушенье».
Последний троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры, матросы твои
приходят на помощь...
С этих строк, исполненных под гитару, и начался Окуджава - поэт, композитор и исполнитель - словом, бард, стоявший у истоков авторской песни в России 2-й половины XX в. Известно, что всякий поэтический образ строится на сопоставлении разных понятии и представлений. Одно из любимых его сопоставлении - уподобление окружающего мира и морской стихии. Троллейбус «плывет по Москве», как доброе спасательное судно, его пассажиры превращаются в матросов, черты городского пейзажа постепенно наполняются водным колоритом.
Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода...
Это сказано об Арбате, старой московской улице с переулками и двориками, воспетой поэтом. В таком контексте не кажется чем-то из ряда вон выходящим и образ «за столом семи морей». В нем есть и фольклорное начало, и нечто фантастическое, небывалое, и в то же время такое понятное психологическое содержание для человека, сидящего за столом. Раздвигаются стены московской квартиры, синь неба переходит в водную гладь, и вот уже сама душа сливается с безбрежной, вольной, живой природой.
Окуджава - поэт-романтик Это значит, что обычная, реальная повседневность, попадая в поле его зрения, приобретает неожиданные очертания, переключается в план возвышенных, романтических представлений. Так, обычный черный молоток в руках «сапожника ласкового», «как ласточка, хвостом своим раздвоенным качает» (стих. «Сапожник»), а трамваи сходят с рельс и, «словно жаворонки, влетают в старые дворы» («Трамваи») И если говорить честно, то в этом мире, исполненном внезапных превращений, живется не только интереснее, чем в обычном, но и проще, естественнее, спокойнее.
«Сто раз я нажимал курок винтовки, а вылетали только соловьи, то падая, то снова нарастая.»). Не пули, а соловьи вместо пуль- разве не доброта продиктовала этот образ? Доброта - это и есть, пожалуй, главное определение поэзии Б.Окуджавы. «А иначе зачем на земле этой вечной живу?» - резонно звучит вопрос, на который сам поэт отвечает определенно и однозначно.
Сосуд добра до дна не исчерпать
Я чувствую себя последним богом,
Единственным умеющим прощать...
Однако было бы неверным представлять себе Окуджаву, полностью оторванным от жестокой реальности. Тема войны для него, ушедшего добровольцем на фронт в 1942 г., занимает особое место. Сам поэт неоднократно заявлял, что война для него еще не кончилась, так как до сих пор ее жертвы - перед глазами. Об этом говорится и поется в стихотворении-песне «Король», рассказывающем о дворовом «царствовании» московского «короля» Леньки и его гибели.
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая» - так начинается спор поэта с войной в стихотворении «До свидания, мальчики». Заключительные фразы его - «Мальчики, постарайтесь вернуться назад» - звучат искренней и горькой просьбой. В известной же песне «А мы с тобой, брат, из пехоты» просьба переходит в заклинание.
А ты с закрытыми очами
спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин,
бери шинель, пошли домой.
Стихи Окуджавы невозможно не петь, даже если бы поэт не был музыкантом, его строки нашли бы себе другого композитора. В них звучит скрытая музыка, содержится уже заданная ритмом, рифмами, повторами мелодия. Он воспринимает действительность музыкально, как гармоническое единство звуков, слов, смысла.
«Продолжается музыка возле меня. Я играть не умею. Я слушаю только» или: «И ветры с грустною истомой. все дуют в дудочку души». Цитировать можно бесконечно, но главное, что поэт слышит не просто напевы дождя или звон весенней капели. «Надежды маленький оркестрик под управлением любви» - вот во что выливаются эти нестройные звуки, вот что томит и волнует душу, наполняя ее верой в то, что «главная песенка,«самая лучшая на этой земной стороне», все-таки будет спета.
Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.
Умение прощать, «тихая щедрость», грусть, всегда соседствующая с любовью, а главное - атмосфера сердечности и теплоты, которая разлита во всех стихах и песнях, - будь они о мире или о войне, о живых или мертвых, о взрослых или детях, - окрашивают творческий портрет Булата Шалвовича в неповторимо светлые тона.
http://www.za4et.net.ru/referat/qssss
..Я ПЛАЧУ, МОЛЮСЬ И СПАСАЮСЬ!

Его нет сегодня снами, но остались песни, книги и стихи. Каким же был великий Бард, Поэт, Писатель, Человек, Б.Окуджава?
Нескончаемый поток печальных, плачущих людей (некоторые из них крестили Булата, проходя мимо гроба) казался необычайным зрелищем. На сцене, неподалёку от гроба, сидели близкие, а в зрительном зале - те, кто хотел после прощания с Булатом побыть с ним подольше - в последний раз. Его привезли из Парижа, он скончался на чужбине, но и там у его творчества было множество поклонников...
Я сидела в 3-ем ряду партера и смотрела на лица людей, поднимавшихся на подмостки. Растерянные, печальные, они были красивы, эти лица. Красивы и благородны. Это была та часть России, для которой писал и пел Булат долгие годы. Я подумала, что эти люди наверняка были у Белого дома в августе 1991-го, собирались на многолюдные митинги, которые в то время так радовали Булата. Ведь нам казалось, что время плена, гнёта и лжи невозвратимо. Прощание с Булатом сопровождалось его тихим пением, видимо, за кулисами стоял магнитофон...
Он любил подшучивать над собой и никогда не обижался, если кто-либо из друзей или близких подшучивал над ним. Самоирония не умолкала в нём. Но однажды я увидела его плачущим. В то лето, как обычно, я жила в переделкинском Доме творчества, и, как обычно, Булат или его жена Ольга приезжали за мной и везли меня к ним на дачу. Но в тот день - это было примерно за год до смерти Булата - мы оказались с ним вдвоём в его кабинете, где теперь расположен Музей Окуджавы. Я вспомнила, что как раз в это время должен быть показан по телевидению фильм «Список Шиндлера». Булат включил телевизор. В тот вечер мы ни о чём не говорили, мы сидели в полутёмной комнате, смотрели фильм и плакали...
Его концерты сопровождались бурными аплодисментами, он был нужен нам, а мы - ему. Там, на концертах, и возникало единство меж поэтом и аудиторией, знавшей наизусть многие его песни и заказывавшей поэту их исполнение. Но был, был один-единственный концерт, который оставил после себя горечь. Это было в самом начале концертной жизни Булата: в Дом кино пригласили начинающего поэта. Пригласили и не признали. А он пришёл с мамой, хотел обрадовать суровую, пережившую много горя Ашхен Степановну. Булата не приняла, не поняла та «сытая» аудитория. Больше он никогда не пел в таких аудиториях. Почему «сытая»? Потому что богатая. Дом кино посещала, как правило, особая публика, хорошо прижившаяся к власти. Это была советская элита. Но Окуджава никогда не сочинял для элиты. В ту пору он писал сентиментальные стихи, где напоминал слушателям о том, «как много, представьте себе, доброты в молчанье»...
Вскоре Булат стал писать песни для фильмов. Он дружил и работал с кинорежиссёром В.Мотылём. Окуджава писал песни для его фильмов «Белое солнце пустыни» и «Женя, Женечка и “катюша”» и даже снялся в нем. Написал он песню и для режиссёра А.Смирнова, прозвучавшую в его фильме «Белорусский вокзал». Время диктовало не только содержание новых стихов, но и необходимость сочинения новых мелодий. И если в раннем периоде творчества появилась шуточная песенка о бумажном солдатике, то в 60-е годы, уже в конце их, родилась песня «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Песни о любви к друзьям («Виноградную косточку в тёплую землю зарою...») сменялись шуточными песнями или романсами.
Семью Окуджавы «выкашивал» террор 30-х годов. И, словно бы вопреки этой трагедии, в подростке, а затем юноше Булате рождаются жажда добра и надежда. Это была милость Божия, конечно же, незаметная и не до конца осознанная. Бог действует в мире и в каждом человеке, если Он посеял в нём жажду добра и сострадания. Перечитывая написанное Окуджавой уже теперь, после его кончины, прослушивая плёнки с записями песен, вспоминая наши с ним разговоры о христианстве, о Боге, я услышала в его творчестве веру, в которой он никогда не признавался. Возможно, это была вера неосознанная, тайная, называемая другими именами, но ощущаемая в том свете, что изливается из творчества. Возможно, он не знал, что такое Церковь, но знал Бога и не случайно писал:
Вот комната эта - храни её Бог! -
Мой дом, мою крепость и волю.
Четыре стены, потолок и порог,
И тень моя с хлебом и солью.
И в комнате этой ночною порой
Я к жизни иной прикасаюсь.
Но в комнате этой, отнюдь не герой,
Я плачу, молюсь и спасаюсь.
В ней всё соразмерно желаньям моим -
То облик берлоги, то храма, -
В ней жизнь моя тает, густая, как дым,
Короткая, как телеграмма.
Пока вы возносите небу хвалу,
Пока ускоряете время,
Меня приглашает фортуна к столу
Нести своё сладкое бремя...
Покуда по свету разносит молва,
Что будто я зло низвергаю,
Я просто слагаю слова и слова
И чувства свои излагаю.
Судьба и перо, по бумаге шурша,
Стараются, лезут из кожи.
Растрачены силы, сгорает душа,
А там, за окошком, всё то же.
Он был крещён перед смертью по благословению одного из старцев Псково-Печерской лавры. Его нарекли Иоанном, а отпевали в московском храме святых бессребреников Космы и Дамиана в Столешниковом пер.
Зоя Крахмальникова,
«Истина и Жизнь», 12/1999.
СОВРЕМЕННИКИ О БУЛАТЕ ОКУДЖАВЕ:
Виктор Астафьев: Я не очень коротко знал Булата, был вместе с ним в одной творческой поездке по Болгарии, в Москве мимоходом встречался. Он был ко мне приветлив, обнимет, лбом в лоб, накоротко ткнётся: «Жив? Ну и слава Богу! А о здоровье не спрашиваю. Наше здоровье не в наших руках». Однажды прислал мне большую, хорошо изданную книгу со своими песнями и нотами к ним. Я был не только удивлён, но и потрясён тем, что половина песен из этой книжки уже считается народными. Его проводили и оплакали многие друзья, товарищи, почитатели таланта. Но более всех, искреннее всех горевала о нём провинциальная интеллигенция - учителя, врачи сельские, газетчики, жители и служители городских окраин, которые чтут и помнят не только родство, но и певца, посланного Богом для утешения и просветления вечно тоскующей о чём-то русской души.
Фазиль Искандер: До Б.Окуджавы усилиями нашего офиц. искусства частная жизнь человека рассматривалась как нечто мелкое и даже несколько постыдное. И вдруг пришёл человек, который своими песнями доказал, что всё, о чём наши люди говорят на кухнях, говорят в узком кругу или думают во время ночной бессонницы, и есть самое главное. Его песням свойственна такая высочайшая лирическая интимность, что, даже когда он исполнял их в переполненном зале, казалось, он напевает тебе лично. Как где-то сказано у Достоевского, у человека всегда должен быть дом, куда можно пойти. В самые безнадёжные времена таким домом для нас были песни Булата. Печаль в искусстве, которая понимает и отражает нашу жизненную печаль, есть бодрящая печаль. В этом смысле Окуджава был нашим великим общенародным утешителем. Цель искусства в конечном итоге - утешение.
Владимир Войнович: Окуджава не был пламенным борцом или потрясателем основ, и не будем приписывать ему лишнего. Но почему-то его песни очень беспокоили коммунистических идеологов. На закате своего владычества советские власти, не сумев справиться с магнитофонным бумом, вынужденно признали или полупризнали его и Высоцкого (Кима и Галича позже) и даже выпускали время от времени на Запад как конвертируемый валютный товар. Но всем было понятно, что песни Окуджавы мало совместимы с режимом. Больше того, они разрушали режим гораздо серьёзнее, чем многие самые гневные и прямые разоблачения... А всё началось с того, что когда-то вышел к публике с гитарой и, перебирая струны, заговорил простым человеческим языком: за что ж вы Ваньку-то Морозова? Тогда власти сразу забеспокоились: что это за вопросы и почему в такой форме?
Василий Аксёнов: Творчество Булата заполнено религиозными символами, поющими его голосом на разные голоса. С религиозной, церковной стороны это может казаться косноязычием, но ведь и Моисей был косноязычен. Самое же главное состоит в том, что с артистической стороны эти символы звучат чистым серебром. Он, в отличие от мрачных ортодоксов, полагающих искусство ересью, считал свою игру, как и всякую игру со словом, с красками и всем прочим, промыслом Божьим, считал, что он должен до конца играть в своём искусстве, зарывать свою виноградную косточку, прививать лозу, «а иначе зачем на земле этой вечной живу?»...
Священник Георгий Чистяков: Как Вергилий в «Божественной комедии» у Данте, он, язычник, провёл нас через ад и подвёл почти что к тому порогу, где ждёт нас Христос. Его «Молитву» повторяли тысячи людей, никогда не умевших молиться и не открывавших Евангелие. «Одна морковь с заброшенного огорода» - так называется лучшее, быть может, стихотворение Б.Окуджавы о войне. Здесь говорится о том, как пехотные ребята нашли у разрушенной хаты всего лишь одну морковку - «на сто ртов одна морковь - пустяк»... Но что было дальше?
Мы морковь по-братски разделили,
И она кричала на зубах...
Шла война, и кровь лилась рекою.
В грозной битве рота полегла.
О природа, ты ж одной морковью,
Как Христос, насытить нас смогла!
И наверно, уцелела б рота,
Если в тот последний смертный час
Ты одной любовью, о природа,
Как Христос, насытила бы нас!
Мне слышится в этих стихах тоска по Евхаристии, о которой ни сам поэт, ни его герои ничего не знают и, скорее всего, никогда не слыхали. И не только тоска, но и какое-то парадоксальное прикосновение к таинству в условиях, когда это, казалось бы, невозможно. Христос входит в нашу жизнь не благодаря, а... вопреки обстоятельствам. В Себе Он соединяет людей не в тех случаях, когда это возможно, а - если у них есть жажда этого. Не зная и даже не догадываясь об этом, Б.Окуджава стал свидетелем того, как действует в нас Христос.
март, 2001. газета "Вечный зов"
http://www.vzov.ru/2001/03/article03.shtml
Памяти Булата Окуджавы
СОБЕСЕДНИК

Б.Окуджава сам был истолкователем своего творчества. Во всяком случае, феномена своего начального успеха в 50-е годы. Вот как он написал об этом в автобиографическом рассказе «Подозрительный инструмент», прозрачно зашифровав себя под именем Ивана Иваныча, который на самом деле был Отаром Отарычем: «Ивану Иванычу было уже за 30, когда его жизнь резко переменилась. Дело в том, что Иван Иваныч запел. То есть не просто запел, а стал придумывать мелодии к собственным стихам. Должен заметить, нисколько не пытаясь унизить достоинство Ивана Иваныча, что eгo некоторый успех был вызван не столько, может быть, его творческими данными, сколько ситуацией, которая господствовала в стране в то время, то есть в 56 – 57 гг.
А было вот что: после ХХ съезда общество вдруг раскололось, все начали ощущать себя людьми, начали скорбеть об ушедшем, задумались о душе, ну просто обезумели от всяких разоблачений, от понимания собственного рабства. Цепи лопались со звоном... И хотя в обществе произошел такой переворот, официальные песни оставались старые, из прежних времен, а Иван Иваныч, во-первых, запел о себе, просто о себе, а во-вторых, грустно и откровенно, ибо поводов для грусти было множество – такая уж была в стране ситуация. Короче говоря, он задел какие-то струны интеллигентов, и они жадно откликнулись».
В этом анализе – энтомологическая беспристрастность, холодная несуетность очень трезвого, порядком «глаженного» жизнью человека, принижающая ироничность: как бы вы, господа читатели, не подумали обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Что ж, писатель волен смотреть на себя так, как велит ему собственная натура и жизненный опыт, оценивать сделанное им высокопарно и чванно или же с последним самоунижением. Правда, тут есть одна закономерность. Чем значительнее писатель, тем чаще он непомерно суров к своей работе, критичен и внутренне скромен. Вспомним, как пренебрежительно высказывался о своей гениальной «Анне Карениной» Л.Толстой. А Чехов полагал, что после смерти его будут читать 5-6 лет, а потом забудут. Вот и Окуджава, когда говорит, что его успех был вызван не столько его творческими данными, сколько ситуацией, господствовавшей в стране, атмосферой ее жизни, безусловно, самоумаляется. Конечно, совпадение со временем – великая вещь, и для любого творчества это уже немало, но сколько мы знаем примеров, когда писатель (драматург, режиссер, художник), однажды совпав со временем, так в нем и остается. хоть проживи он после того еще век. Совпадать с любым временем, какое ни будь на дворе, оказаться нужным и в 60-е, и в 70-е, и 80-е, и даже в 90-е – это уж никак не случайность, не прихоть судьбы, не счастливый лотерейный билет, действие которого, как правило, ограничено указанной на нем суммой; закончилась сумма – и снова в карманах ветер.
Б.Окуджава, совпав с «оттепельным» временем 50-х – начала 60-х, в дальнейшем как творец сам сделался временем – вот разгадка его совпадения и с 60-ми, и 70-ми, и пр., пр. Ему оказалось дано не просто жить в определенную эпоху, а формировать ее, создавать ее дух, ее атмосферу. Он стал ее сущностью. Ее плотью и кровью. Почему? Что за странность? Не перечисляя, скажем, что не он один писал мелодии к своим стихам и пел их, не он один был так талантлив и изящен в этом – отчего же другим не выпало такой чести, не досталось этой роли – стать лепщиком времени? Ответ на прозвучавший вопрос нужно искать в самом Окуджаве. Вернее, в его творчестве. Да, безусловно, Окуджава был в высшей степени искренен и ненапыщен, удивительно естествен даже в своей романтичности, но этого, конечно же, недостало бы для того, чтобы время избрало его в свои лепщики.
У него был редкий, необыкновенный дар, дар собеседничества – вот в чем дело. Пел ли он со сцены, с магнитофонной катушки, а позднее кассеты, с экрана телевизора или из динамика радио, это собеседничество одинаково звучало в его голосе. Он вас не развлекал, он не являл себя вам в своей виртуозной, блестящей артистической сути, чтобы вы полюбовались, насладились его обществом, – он беседовал. Делился своими воспоминаниями о Леньке Королеве, царствовавшем во дворе, ушедшем на войну и не вернувшемся. Обращался к вам под камуфляжем «Старинной студенческой песни» с трогательно-доверчивой просьбой-приказом: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». И, как бы отвечая на заданный вoпрос, открывался в сокровенном: «А душа, уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней она».
Умение быть собеседником – великий поэтическо-писательский дар, отпускаемый Небом немногим. А между тем именно собеседничества и ждут читатели от писателя. Ну да, учительство, проповедничество, откровение о мире и слове, развлечение, наконец, – всё необходимые составные части писательского дела, но что они стоят, если читателю с тобой не интересно, а то и откровенно скучно,а если все же и интересно, и не скучно, то долго ли он выдержит учительство, не покажется ли ему твое откровение старой, избитой истиной, не надоест ли в конце концов хохотать над твоими клоунскими ужимками – ведь делу время, потехе час? Если писателю не дано быть собеседником, читатель, даже и ценя его, рано или поздно переметнется от этого писателя своим интересом к другому. Не найдя собеседника в этом другом, отдаст свою любовь третьему. Да, история может быть рассказана писателем с блеском, стихи – поражать виртуозной техникой, но если читатель чувствует, что все это – с холодком и равнодушием, ради ублаготворения собственного писательского тщеславия, и никакого интереса к нему, читателю, как личности, то и ответно – холодок и равнодушие, благодарность без любви и особого желания встретиться вновь. В интонационном строе стихов-песен
Окуджавы, в обнаженной доверчивости ero речи, в невысокопарной романтичности лексики было нечто такое, что читатель тотчас ощущал писателя, который разговаривает с ним, а не поучает, беседует, изливая свою душу, а не пророчествует.
И вот, кстати: как по-другому передать эту тонкую субстанцию, создающую ауру поэтической речи, кроме как словом "нечто" Слушатель-читатель не мог не отплатить поэту любовью. Другое дело, что раньше той самой середины 50-х Булат Окуджава просто не мог появиться. Во-первых, нужно было общее воодушевление времени той поры, весенняя капель, чтоб «Иван Иваныч запел». А во-вторых, пусть противу всех внешних обстоятельств он бы запел в конце 40-х или начале 50-х – что бы с ним сталось? Понятно что. И не надо в том сомневаться. А ко всему тому еще и магнитофонов тогда не было, так бы и умерли 3-4 его первые песенки среди узкого круга его первых слушателей, которые в большинстве своем разделили бы печальную судьбу соловья.
Но случилось то, что случилось. Оттепель, весна, капель, свежий ветер, всеобщее воодушевление – и 30 с небольшим лет, молодой еще возраст для человека романтического склада. А разлюбить слушатель-читатель своего соловья мог уже в одном случае: начни тот высокомерничать и упиваться своей обретенной над собеседником властью, примись пророчествовать, учительствовать, витийствовать, потеряй естественность своих чувств, прямодушие интонации, глубину переживаний. Ничего этого с Окуджавой не произошло. Мудрея с годами и становясь устaлее, он оставался все тем же замечательным, чудным собеседником – доверяющимся, открытым и равно желающим вашего ответного доверия, – как же можно было отшатнуться от него, потерять возможность общения с ним? Вот так и оказалось, что голос его вплелся цветной яркой нитью в тот суровый канат, что представляла из себя эпоха, последовавшая за «оттепелью», и без этой нити представление о ней никогда не будет полным. Ко всему тому Окуджава начал писать и прозу. То есть он начал писать ее вскоре после того, как запел.
Повесть «Будь здоров, школяр» датирована 1960-1961 годами, но тогда, да и позднее, в конце 60-х, когда в серии «Пламенные революционеры» вышла его повесть о Пестеле «Глоток свободы», казалось, что проза для него – нечто вроде отхожего промысла, ремесла на стороне, которым занялся в свободное от главных занятия время. Однако подобное впечатление было обманчивым. Проза оказалась для него таким же серьезным занятием, как и поэзия. И – удивительное дело! – мало-помалу открылось, что и в прозе он такой же замечательный собеседник, как в своих стихах-песнях. То есть собеседничество действительно было дано ему как Дар, который он сумел не протранжирить зазря и попусту, а, храня его в себе, как бы пересесть с уже освоенного места за одним столиком, на одном диване, за другой столик, на другой диван.
«Когда я очнулся, никого рядом не было. Крови натекло с полведра, ей-бory. Откуда взялись силы приподняться, не знаю. Но приподнялся и пополз вдоль сарая, покуда не поравнялся с дверью. Внутри никого не было, но соломы и сена хоть отбавляй, и треногий стол у стенки, а на нем, ей-бory, полкаравая хлеба, бутыль с водой и кружка; все свежее, видно, хозяева ушли недавно, так все и бросили. Я кое-как перевязал себе рану, зарылся в сено и не то уснул, не то потерял сознание, и слава Богу, потому что рану начало сильно жечь».
Я взял для цитирования буквально первое место, которое произвольно открылось в верхней из его книг, лежащих сейчас передо мной. Это – из романа «Свидание с Бонапартом». Совершенно очевидно: никаких профессиональных, существующих в прозе приемов, чтобы расположить к себе читателя, заинтересовать его, приковать к рассказу его внимание, – а между тем текст и располагает, и заинтересовывает, и приковывает. Окуджава и в прозе оказался тем же самым собеседником, каким был в стихах-песнях. И – что также весьма существенно для собеседничества – самоироничным. Эта самоирония особенно замечательно работает в его автобиографических вещах. Кажется, Окуджава даже и выбирает для рассказа истории своей жизни, где можно посмеяться над собой, осудить себя, а то и горько вздохнуть: братцы, вот таким был, сожалею – но это я, а не кто другой. В этом отношении в высшей степени характерен рассказ «Около Риволи, или Капризы фортуны». Окуджава описывает в нем свое первое пребывание в Париже в далеком 1968-м. (Ну, то есть в рассказе действует тот самый Иван Иваныч, который на деле Отар Отарыч, но истинное имя героя нам прекрасно известно). Герой рассказа, приехавший в Париж как в мировой заповедник всего запретного в Советском Союзе, жадно пытается приникнуть к этому источнику запретного – и вот на площади перед Нотр-Дамом соблазняется покупкой у артистичного молодого человека, как ему кажется, порнографических открыток, потратив едва не треть всех имеющихся у него франков, едет в автобусе, не смея открыть пакетик, до отеля, а когда в одиночестве нoмера открывает его, то оказывается, что приобрел скверного качества черно-белые фотографические снимки с полотен великих мастеров прошлого.
А вот герой рассказа после триумфа выступления перед русским Парижем, после записи на студии, что сделало его обладателем весьма приличной для советского человека суммы во франках, оказывается в магазине, где лихорадочно принимается набирать в громадную сумку все, что попадается под руку. Стыдится сам себя – но набирает. Апофеозом этого стыда становится история с магнитофоном, который, едва герой выходит из магазина, падает и перестает работать. Сгорая от стыда, герой уговаривает гида-француза пойти, обменять магнитофон, понимает, что это скверно, и ничего не может с собой поделать: ему так хотелось такой магнитофон, а денег купить новый больше нет – все потрачено. Поменять магнитофон герою удается. А дальше – еще большая удача: оказывается, в Париже, о чем герой не имел и понятия, вышла его книга, издатель оплачивает двухнедельное пребывание героя в Париже сверх того срока, что он уже здесь пробыл, и вновь гонорар – фортуна улыбается герою во все лицо! С карманом, полным денег, герой бродит по Парижу, наслаждается его видами и набредает, как ему представляется, на кинотеатр порнофильмов. Первая его попытка приобщения к запретному была неудачна, теперь ему должно повезти. Он заходит в «кинотеатр», на лестнице его встречает прекрасная женщина. И вот он наконец, спустя недолгое время, вновь оказывается на улице, но уже без гроша в кармане: то был вовсе не кинотеатр, как герою приснилось по рекламе, а ресторан со стриптизом, где все устроено так. чтобы ободрать посетителя как липку.
Надо непременно отметить, что помимо замечательной собеседнической интонации рассказ еще и восхитительно выстроен – с тем новеллистическим тщанием, с каким невольно выстраивает свою историю в застольном разговоре любой рассказчик, если хочет, чтобы его выслушали. «Не заносись, не гордись, не попустительствуй низкому в себе», – непроизнесенное, звучит голосом уже не Ивана Иваныча, а самого Окуджавы за пределами рассказа, когда дочитана последняя фраза. Мораль в настоящем произведении слова не должна быть высказана. Она должна итогом его прозвучать в читательском сознании помимо читательской воли. Но, конечно же, и туг ничего не поделаешь, так есть, и это неизбежно, прежде всего Б.Окуджава для культуры – поэт, певший свои стихи. Бард. «Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова»; «Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе. Девять граммов в сердце постой – не зови... Не везет мне в смерти, повезет в любви», – эти и другие строки долго еще будут звучать в нас голосом ушедшего поэта. Долго ли они будут звучать после того, как уйдем мы, знавшие его, слышавшие его вживе и в записях?
Знать подобное не дано никому. Вспомним уже помянутого здесь Чехова: он полагал, что его забудут вскоре после смерти. Как нам известно, не забыли. Читают и будут читать. И вот мне кажется: если мы и сейчас поем романсы столетней и даже полуторастолетней давности, то почему не петь через новые 100 лет «По смоленской дороге», «Опустите, пожaлуйста, синие шторы», «Песенку о ночной Москве»? А будут петь – будут и читать. Наслаждаясь беседой с незаурядным ироничным собеседником из 2-й половины ХХ в.
Анатолий Курчаткин,
«Русская мысль», № 4183, 17 – 23 июля 1997.
http://kurchatkinanato.livejournal.com/107070.html

В перекроенном сердце Арбата
Я стоял возле гроба Булата,
Возле самых булатовых ног,
С нарукавным жгутом красно-чёрным,
В карауле недолгом почётном,
Что ещё никого не сберег.
Под негромкие всхлипы и вздохи
Я стоял возле гроба эпохи
В середине российской земли.
Две прозрачных арбатских старушки,
Ковылять помогая друг дружке,
По гвоздичке неспешно несли.
И под сводом витающий голос,
Что отличен всегда от другого,
Возникал, повторяясь в конце.
Над цветами заваленной рампой,
Над портрет освещающей лампой
Нескончаемый длился концерт.
Изгибаясь в пространстве упруго,
Песни шли, словно солнце по кругу,
И опять свой полёт начинали
После паузы небольшой,
Демонстрируя этим в финале
Разобщение тела с душой.
И косой, как арбатский художник,
Неожиданно хлынувший дождик
За толпою усердно стирал
Все приметы двадцатого века,
Где вначале фонарь и аптека,
А в конце этот сумрачный зал.
И как слезы глотая слова,
Нескончаема и необъятна,
Проходила у гроба Москва,
Чтоб уже не вернуться обратно.
А.Городницкий, 19971.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 12 Июн 2020, 15:05 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7544
Статус: Offline | 23 ГОДА БЕЗ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ
Воспоминания С.В. Сидоровой, вдовы известного патролога А.И. Сидорова, профессора МДА, с Б.Ш. Окуджавой

- В следующий номер нужен Окуджава, его песни в кинофильмах. Окуджаву все знают, поэтому никаких Америк открывать не надо, – сказал нам редактор журнала «Советский экран» и, давая понять, что мы его больше не интересуем, открыл записную книжку и потянулся к телефону. Людочка тогда собиралась во ВГИК на киноведческий факультет, потому и устроилась в «Советский экран» внештатным корреспондентом, и я тоже вместе с ней.
– Ты же знаешь, как мне все это трудно, – говорила Людочка .К телефонному звонку готовились, то есть переживали будущий разговор, целый день (не потому, что первое интервью, а потому что Окуджава). С чего начать и о чем спрашивать, если все вопросы ему уже давно заданы, а если какие и остались, то ответы на них – в его стихах, прозе, песнях. И мы решили не обдумывать беседу заранее, рассчитывая на то, что разговор сложится сам собой. К вечеру Людочка позвонила.
– Мы представляем «Советский экран», – сказала она, когда Окуджава подошел к телефону.
– Что, что?!
– Нет, конечно, не советский экран, а журнал «Советский экран», – пугается Людочка.
– А, журнал знаю, но от «Советского экрана» у меня вчера уже были: Саша Д., представился поэтом, но это ничего не значит, приходите, пожалуйста.…
И вот уже непоправимо нажата кнопка звонка (хоть бы не было дома!), соединяющая неуловимой ниточкой с тем, кто находится за дверью, в единое целое. Окуджава был для нас… как это обозначить, чтобы не сбиться на шаблон, – спасательным кругом в мире, где, казалось, не было никакой возможности освободить наш «пленный дух». Его имя вселяло надежду на полноценную жизнь души. Оно было символом той так нами ценимой душевной жизни, в которой мы целиком отдавались желанию жертвенности, любви, дружбы. Понятно, всегда всего этого было мало, ведь дух-то все равно оставался «пленным». Одним словом, Окуджава просто был необходим нам, «чтоб не пропасть поодиночке…». А тут какой-то «Советский экран», какие-то внешкоры, с которыми почему-то не хотелось отождествлять себя. Кто бы мог предположить, что это «интервью» продлится целый год, хотя встреч было не так уж и много.
– Только кормить вас нечем, разве что хлеб с маслом, – сказал он после того, как мы благополучно завершили нашу первую встречу. Правда, надо сказать, что свое первое задание мы чуть не завалили.
– Как же так, Саша Д.? – спросила Людочка, когда мы, заставив себя преодолеть смущение, устроились в предложенных нам креслах.
– Да, и я тоже удивился. Он себя довольно странно вел, вопросов не подготовил, спросил только, каких я режиссеров люблю. Поговорили о том о сем. Я и говорю ему: «У вас вряд ли что получится, молодой человек…». Он ответил: «Да, скорее всего ничего не получится», – и ушел. Вот, и авторучку забыл.
Но ведь и мы не подготовились, и собирались начать беседу с такого же вопроса, с вопроса о режиссерах! Поэтому, чтобы спасти положение, нам ничего не оставалось, как срочно признаваться, что в роли корреспондентов впервые.
– Ну, ничего, – сказал он на это, – давайте попробуем вместе. Например, вы меня спрашиваете, пишу ли я песни по заказу или используются уже написанные? Может, это и не очень интересно, но предположим, что интересно. А я отвечаю: «Писать песни по заказу не люблю». А вы спрашиваете: «А почему?» Ну, спрашивайте, спрашивайте.
– А почему?
– Песня, написанная для сюжета, направлена на его внешнюю сторону, она третьестепенна. Нужна же песня, раскрывающая психологическую подоплеку фильма. Для этого не нужно писать, нужно брать знакомые вещи, тогда они работают ассоциативно, неодносложно. Но два «попадания» все же были. На мой взгляд, одна из удачных – песня, написанная для «Белого солнца пустыни». И еще, наверное, «Мы за ценой не постоим» к кинофильму «Белорусский вокзал»… А вы тоже думайте, думайте над вопросом.
И Людочка отваживается, утешенная его доброжелательностью:
– Булат Шалвович, когда читаешь вашу повесть «Похождение Шипова», невольно задумываешься о мультипликационном фильме. Ведь мультипликация располагает неисчерпаемыми возможностями пластического воплощения материала.
– Впервые от вас это слышу. Но теперь и я начинаю думать, что это и впрямь удачный материал для мультипликации, но согласны ли с моей точкой зрения мультипликаторы? Вот в чем вопрос…
Мы просим его рассказать о первых работах в кино.
– В 1964-м или в 63-м году, ну это не важно, пришел ко мне, я тогда жил в Ленинграде, неизвестный мне режиссер и предложил сделать вместе с ним картину, военную комедию. Он так увлеченно говорил, что очень мне понравился, и мы подружились. Работали мы в Ялте, в Доме творчества. В.Мотыль давал мне отдельные эпизоды, а я писал. Так появилась «Женя, Женечка и ‟катюша”». Пока писали сценарий, было смешно. А потом перечитывали и ничего смешного не находили, приходилось переделывать. Написать военную комедию оказалось очень сложной задачей, ведь предстояло показать способность человека остаться таковым в нечеловеческих условиях…
Мягкий свет торшера настраивает на неспешную созерцательность и успокаивает. Скованность исчезает, Людочка придумывает все новые и новые вопросы, а я позволяю себе лишь изредка включаться в разговор, довольствуясь ролью наблюдателя: в конце концов, ей поступать во ВГИК, а не мне… И ничто мне не мешает остаться один на один и с ним, и с его комнатой. Хлеб с маслом был очень кстати, ведь пообедать нам удавалось не всегда. Я тогда работала инженером-сметчиком в строительном управлении, и мне часто приходилось целый день ездить по объектам, находящимся в основном за пределами Москвы. А про Людочку и говорить нечего: санитарка, койко-место в общежитии, суп из свежемороженой селедки (тогда это была самая доступная рыба), которую Людочка, пока не ушла из общаги, нередко варила с такими же, как она, девчонками на кухне, где тесно стояли облупившиеся тумбочки, а на подоконнике выживали как могли забытые растения. И вдруг на столе появилось что-то невообразимое: дорогая рыба, икра, зелень, и еще, и еще. Весь стол уставил, да так быстро. И ведь все было постное! Это даже нам удалось заметить и оценить. И вот что удивительно: нам это почему-то понравилось. Неужели верующий?! А что, вполне может быть: вот и икона висит. А мы – мы так от всего этого далеки! И мы приходим в восторг, не от икры, конечно, а от игры («хлеб с маслом!»). Было такое чувство, что без нас он только сидел и скучал, пребывая в каком-то безнадежном одиночестве. И это его одиночество мы ощущали почти всегда, когда встречались с ним. Но ведь все было совсем не так.
- Однажды облачком проплыла вдалеке белая голубушка. Моя мама, – сказал он. И жена доброжелательно сказала как-то:
– Проходите, ради Бога.
И разные люди постоянно заходили. И были, несомненно, близкие друзья. Например, З.Гердт, Зяма, с которым ему так приятно было посидеть наедине, без суетной дамы, то есть без женщин. Но приглашал он нас чаще всего, когда был один. Поэтому-то и чувство такое было, что ждал целыми днями только нас и что только мы и были у него: так умел дарить радость встреч, устраивать настоящий праздник, обладая даром общения, даром простоты и искренности:Умел дарить радость встреч, обладая даром общения, даром простоты и искренности
– Я люблю вести разговор на равных, – сказал он однажды.
Щедрость нескольких вечеров. Поистине бесценный тогда для нас дар. Как яблоко под яблоней, как кружка молока, Красивый день, как капелька, пролитая в века...
Приближались экзамены во ВГИК, и Людочке пришлось писать конкурсные работы, как всегда, срочно: через неделю экзамен, а работ (их нужно было сдать, кажется, 4) еще нет. Вот и пришлось мне ей помогать, и я написала рецензию на фильм Тарковского, который тогда тоже давал нам возможность выживать. И когда работы были готовы, мы решили показать ему те, которые считали лучшими. А он, слегка пробежав их глазами:
- «Стремление к христианству не есть ли поиск поддержки во времени? Неторопливость интонаций первых кадров, одухотворенность пейзажа, мастерски переданного через серебристо-голубоватые оттенки зеленого, благородные серые тона, скрупулезно выстроенные композиции... драматургия цвета... счастье – понятие, а не ощущение, постигаемое не чувствами, а интеллектом, способность осознания рассудком единственно возможной данности...» – как всегда, прямо сказал: – Да не могу я уже это читать, мне бы что-нибудь попроще!
А разве нам не хотелось простоты?! Да только не давалась она, эта простота. Ведь, по сути, мы были первым послевоенным по-настоящему больным поколением, предоставленным практически самим себе, поколением, стремившимся как раз от простого к сложному, считавшим состояние шизофрении чуть ли не признаком индивидуальности, убежищем от всего серого, невыразительного, безликого. И можно ли было разглядеть тогда ту простоту, где печаль светла, а страдание радостно, потому что созидает? Как знать, не с этого ли начался наш путь к исцелению, путь к простоте, найти которую не так-то просто.
***
Работы были сданы вовремя, и мы случайно узнали, что на преподавателей ВГИКа они произвели неожиданное впечатление, особенно на мастера, который должен был вести будущий курс. Когда наш знакомый, который когда-то тоже заканчивал ВГИК, встретил мастера на улице, то на вопрос: «Как дела в институте?» – сразу же услышал: – Есть интересные работы, какая-то санитарка подала. Мы до ночи о них проговорили.
Знакомый, конечно, тут же сообщил об этом нам, а мы скорее удивились, чем обрадовались: все, что мы писали тогда, нами почти не ценилось. И вот мы с Людочкой стоим перед дверью, в которую не то что войти, – к ней и приблизиться-то страшно…
– Ну, что? – все бросаются к только что сдавшему экзамен.
– Что-что… двойку поставили, вот что! – коренастый парень в махровой бежевой рубашке возмущенно повел плечом.
– Да они просто зверствуют! Всё о полит. событиях спрашивают, дотошные такие!
– О каких событиях? Тебя-то о чем спросили?
– Да обо всем! Там политику только и спрашивают: и о положении в Бангладеш, и о неграх. Они вообще только тройки и двойки ставят, будто других оценок нет!
– А где, где этот Бангладеш? – волнуюсь я.
– Ну, знаете… – парень скашивает на нас пренебрежительный взгляд, – зачем вы только сюда пришли? На что вы, собственно, надеетесь, девушки?
– Да мы не знали, что политика нужна!
– Странно, как это «не знали»? Да об этом везде спрашивают. Всё надо знать!
- «Всё», – упало Людочкино сердце. Как раз к этому «всё» она даже и не пыталась подступиться. Разве поймешь, что сегодня творится в мире? Через сто лет, может, что и прояснится, а пока, что ни шаг – засасывает трясина непонимания, а главное, бессмысленно силиться проникнуть на этот тонущий корабль мировых событий, готовый залечь где-то в необозримой глубине напластований судеб, с их переживаниями, радостями, болью. Ничего там не поймешь и не увидишь.
Я заглядываю в дверь и скороговоркой сообщаю Людочке:
– Справа шкаф, слева стол, они за столом все сидят, прямо окно. Сразу налево поворачивай, поняла?
Парень смотрит на нас насмешливо и чуть ли не крутит у виска пальцем: все, мол, с вами понятно, – и приглашает других присоединиться к нему. А мне все равно, что они подумают: сейчас Людочкина очередь.
– Сразу налево, – еще раз говорю я Людочке, прикрывая за ней дверь. И самое забавное, что это предупреждение не было лишним.
Она, конечно же, сначала шагнула к шкафу, потом все-таки повернула налево, но стала зачем-то совать членам комиссии свой паспорт.
– Да вы не волнуйтесь, садитесь, пожалуйста.
И Людочка начала (это с ее-то ростом?!) протискиваться к свободному стулу между сидящими экзаменаторами. Мастер не знала, куда деться от недоумевающих взглядов,
– и это ваша хваленая Ткаченко?
– А скажите, пожалуйста…
Нет, нет, слава Богу, не про Бангладеш, хотя я почему-то не сомневаюсь, что Людочка и на этот вопрос сумела бы каким-то образом ответить. Ее стали спрашивать о современном кино, о судьбе Гурченко, которая долгое время не появлялась на экране, о композиторах, еще о чем-то. И Людочку «понесло» по изящным коридорам мысли, где она с легкостью отыскивала словесные диковинки.
– А что вы скажете по поводу? А почему, а как вы думаете?..
Комиссии явно не хотелось расставаться с Людочкой: Бангладеш им уже порядком поднадоел. Экзамен постепенно превращается в оживленную беседу, которая захватывает всех преподавателей. И мастер торжествующе поглядывает на них: ну, что я вам говорила?..
– Пять, – растерянно отвечает Людочка жаждущим услышать подробности об экзамене (как потом выяснилось, это была единственная пятерка, поставленная в тот день.) Я многозначительно смотрю на парня в махровой рубашке: «А ты как думал?..»
***
Почему он вдруг решил открыться совсем неожиданной стороной? Почему впервые пригласил в гости неофициально, накрыв для нас роскошный стол на лоджии, который вместе и сервировали? Поначалу он очень ревниво относился к нашим попыткам помочь ему: «Нет, нет. Я сам», – пока не стал доверять: там, в холодильнике, зелень, там еще что-то. Поразила огромная ваза с листьями базилика. Выложили на стол, а мыть-то не стали. Попросил достать из холодильника – вот и достали, и никакой самодеятельности: послал – принесли. Так потом и похрустывал изредка песочек. Даже допустил до салата из помидоров.
– А как нарезать?
– Да как хотите.
Но стоило только прикоснуться ножом, как он метнулся ко мне:
– Да разве можно так резать? Вот как надо!
(Так я и знала: сначала «как хотите», а потом – «как надо»). Из лоджии вели двери и на кухню, и в комнату. И мы радостно бегали по этому кругу. И вскоре стол уже поражал обилием... но чего? Конечно, припомнить трудно. Да и какое это имело значение! Изысканная еда, бутылка вина, зелень. Было и коронное блюдо, по тем временам совсем немыслимое: коньяк «Наполеон». Так и сказал:
– А это коньяк «Наполеон». Вы понимаете, какой это коньяк? Мне его подарили, а вам только попробовать дам… А вот там живет мой приятель, я к нему в тапочках хожу.
И стал рассказывать о том, как он встречался со своим бывшим довоенным седьмым «В»: сам всех разыскал и пригласил к себе. И в назначенное время в дверях стали появляться какие-то толстые тети, лысеющие дяди.
– А она еще спрашивает: «Вы меня узнали? Кто я?» То есть кто она, эта тетенька с кудельками? Что может быть общего между ней и той девочкой с белым воротничком и черными нарукавниками?.. Но ведь все мы ощущали себя тогда семиклассниками!И как же было уютно им за этим столом, в эти теплые сумерки!
Долгий звонок соловьем пропоет в тишине,
Всем школярам перемену в судьбе обещая.
Может, затем, чтоб напомнить тебе обо мне,
Перемена приходит большая…
А потом нас усадили в кресла слушать музыку (была какая-то классика). И не просто слушать, а наслаждаться ей! Так вот зачем существуют наушники: ты один на один с музыкой, растворяешься в ней и желаешь, чтобы это продолжалось и продолжалось, неизвестно, правда, кто радовался больше, мы или он – нашей радости.
– А сколько стоит такой?
– Ну, дорого!
– А все-таки?
– Но я ведь так давно об этом мечтал!
– А кем вы мечтали быть в детстве?
– Уже хорошо не помню, но, кажется, пограничной собакой, – улыбается он.
А потом он открыл свой заветный шкафчик со стеклянными дверцами. А там настоящие сокровища: малюсенькие кораблики со всего света, крохотные медные точилочки для карандашей: старинный кассовый аппарат, патефончик («Это я из Франции привез»). Тогда нам казалось, что он не всем открывает этот шкафчик, да что там «не всем» – просто никому не открывает, только нам и для нас. Но ведь в тот вечер все было действительно только для нас. Мы так радовались вместе этой детской легкости, поистине детскому доверию, возникшему между нами. Так редко кто... да никто так просто и не доверит себя, так просто не откроет в себе того, кто может жить, хотя бы иногда, без необходимых условностей взрослой жизни...
«А откуда же зелень-то, сударь, – спросил ротмистр.
– В январе!»
– «Да я так увидел, – сказал наш герой.
– А что?»
Я пытаюсь составить мозаику воспоминаний об Окуджаве из эпизодов наших встреч, из подаренных вечеров, из обрывков разговоров, запомнившихся нам. Но у меня мало что получается. Не так-то просто, оказывается, передать то, что было так важно и значительно для нас в те дни. Это как, истомившись от жажды, припасть к горному ручью, которым невозможно насытиться. А потом, прихватив с собой пару фляг, одну выпить по дороге, а другую припасти для подходящего момента. И лет через 20 собрать друзей и пустить ее по кругу, ожидая восторгов. Все распадается на какие-то, казалось бы, несущественные детали. Вот он достает большой кожаный альбом и показывает фотографии давно ушедших людей старинного грузинского рода. На их лицах умиротворение и значимость происходящего, сквозь которые светится легкость души, живущей Православием.
Хочу воскресить своих предков,
Хоть что-нибудь в сердце сберечь,
Они словно птицы на ветках,
И мне непонятна их речь.
Живут в небесах мои бабки
И ангелов кормят с руки.
На райское пение падки,
На доброе слово легки…
– Посмотрите, какие красивые, благородные лица, – говорит он. И все. Но ведь именно тогда мы вдруг начинаем понимать, хотя еще и смутно, что такое красота и благородство, как будто возвращаемся в родной дом после долгой разлуки. Запоминают слова моих трагедий легко: как воду пьют.
– Вот, подпишите, пожалуйста, эта книжечка одного нашего знакомого.
Привычный самиздат. Ранние стихи Окуджавы со старыми фотографиями, его первые выступления. Но с какой любовью сделана! Он удивился: – А у меня нет такой. Можно, я оставлю себе?
– Конечно, можно! (Ой, что скажет наш знакомый?!!) Интересно, сохранилась ли она, эта книжечка?
– Не хотим больше, не хотим жить здесь, в этой стране! Уехать бы куда-нибудь! – проговариваем мы (неожиданно для себя) то, что, оказывается, так долго и мучительно назревало. От чего и куда? Но кто из нас тогда понимал это? Нам казалось, что только там и может начаться настоящая жизнь. А он (почти горячо): – Нет, нет, девочки, не надо никуда уезжать! Вот, пишите, – и протягивает мне кусок картона, который я сохранила: он оказался (действительно, это так!) нашим обратным билетом на Родину. Все встало на свои места раз и навсегда:
Среди стерни и незабудок не нами выбрана стезя.
И Родина есть предрассудок, который побороть нельзя…
– А как вам фильм Иоселиани «Пастораль»?
Мы его несколько раз смотрели. На наш взгляд, это вершина советского кинематографа.
– Моей жене он тоже понравился, но я ничего не понимаю в таких фильмах. Когда жена уезжает, я с антресолей выбрасываю весь хлам. Да нет, она даже не замечает… Эту киноповесть мы писали вместе с женой. Лучшие куски – ее. А когда я говорю об этом, мне не верят...
Можно еще вспомнить, как он подробно рассказывал, как сумел остроумно обустроить прихожую, выкроить шкафчик для одежды. На самом-то деле там ничего особенного и не было: выгадал площадь – получилась кладовочка. Но по тому времени это было событие, и мы всё, конечно же, оценили.
– Булат Шалвович, а с чего начиналась ваша трудовая жизнь?
– После возвращения с фронта я работал в Тбилиси токарем и учился в 10 классе вечерней школы. А когда окончил университет, стал работать учителем литературы в деревне Шамордино Калужской обл., поселившись в бывшей келлии монастыря, где в то время находилась школа…
Знаменитое Шамордино, куда так стремился Толстой, совершая свое предсмертное путешествие! Оплакали ли его те, кого он в течение 5-ти лет учил любить родное слово, помолились ли о его душе в восстановленной Шамординской женской обители?
Чем дальше от Москвы, тем чище дух крестьянства,
Тем голубей вода, тем ближе к небесам.
Разве не может быть так, что тот, кто стал тебе таким родным и близким, пока ты встречался с ним как читатель или как зритель, при знакомстве больно ранит отчужденностью, равнодушием, замкнутостью? Да и смешно ведь рассчитывать на дружбу диктора, даже если он и обращается к тебе каждый вечер со словами: – Дорогой друг! И призыв «взяться за руки» вовсе не означает, что поэт собирается протянуть руку именно тебе, как бы тебе не хотелось этого. Но ведь его рука была протянута. Почему доверился нам? Ответил на нашу искренность? Да нет, скорее всего, потому, что так жил:
Пускай моя любовь как мир стара,
Лишь ей одной служил и доверялся.
(«Люблю мыть посуду. Я иногда думаю: сколько же народу занимается сейчас тем же? И все мы вместе».) Что же так тянуло к нему? То, что он спешил поддержать словом одного и ответить улыбкой или глазами другому? Свежесть каждого чувства, каждого обращенного к собеседнику слова? Желание радовать, дарить внимательное тепло, украшать маленькими сюрпризами наши встречи, при внешней сдержанной строгости и немногословности? Нет, пожалуй, самое главное, что было в нем и что так привлекало и привязывало к нему, – это доброта, которую не так-то просто было скрыть. И каким нелепым выглядел рядом с этим человеком привычный «друг семьи» – телевизор, этот «удел мещанства», всегда презираемый нами за то, что посягал на наше время, грозил забрать у нас наши стихи, выставки, театры, встречи с друзьями. А он, перехватывая наш взгляд, говорил:
– Я его смотрю из мазохизма. Правда, кроме футбола. Футбол люблю. Не могу равнодушно пройти мимо мальчишек, гоняющих жестянку, обязательно остановлюсь, как бы ни спешил.
***
– Все перекромсали, ничего живого не осталось! – спешим мы поделиться последними впечатлениями от встречи с редакцией.
– Так вы все еще для «Экрана»? Забыли, где живете? Да я прекрасно знаю, этот Даль меня терпеть не может, я ведь для вас старался. Мне сейчас это не так уж и нужно... Зачем унижаться? Подберем что-нибудь поспокойнее...
На длинном стебле – красный, одинокий заморский цветок.
***
Мы встретились на изломе, когда душевная жизнь, жадно впитав тепло дружеского общения, бесконечную палитру запахов и красок, закатов и рассветов, хитросплетений человеческой мысли, которая, кажется, только для того и окунает «свои кисти в суету дворов арбатских и зарю», чтобы представить человечеству исповедь изболевшейся души в надежде получить оправдание и прощение, отмирала, и дух отчаянно вырывался из плена. Он принадлежал времени нашего духовного становления, встречи с ним были самым лучшим из всего приобретенного тогда. Как же мучительно проживалась юность, у которой было украдено право на духовную жизнь! Особенно 14-летие. Смутные предчувствия того, что существует некая полнота Знаний, которой обязан обладать, существует некая вселенская Любовь, без которой умираешь. Ежедневные терзания, и ведь ни с кем не поделишься, ни у кого не спросишь, да и что спрашивать, если слова еще не вызрели?
– Мы ничего не знаем, ничего не знаем! – тоскливо повторяла я подруге, а она потом делилась со своей мамой, учительницей химии, и мама успокаивала нас: – Закончите институт – узнаете...
Эти слова лишали меня последней надежды: не смогу же я закончить все институты и прочитать все книги?! А мне нужно было только полное Знание, жалкие отблески его меня не устраивали...Вот тогда-то и врачевали его песни. Конечно, они не указывали прямую дорогу к этому Знанию, но нянчили, жалели, утешали, заставляли душу встрепенуться, раскрыться навстречу этой жалости - доброте, жалости-любви, хотя бы как-то соприкоснуться с ней. Заставляли захотеть отдавать больше, чем получать, хотеть стать добрыми и заботливыми. А значит, готовили к долгому, нескончаемому труду, плодом которого должна явиться вечная радость.
Он обладал тогда редким даром, чутьем Вечности, что ли? Потому-то и пелось радостно, что песни не терзали, не усугубляли болезнь, а вступали в союз с лучшим, что было в нашей душе, помогая ей пробиться, подобно зерну, сквозь толщу земных напластований, укрепляли, терпеливо взращивали. Однажды мы задумали пригласить Булата Шалвовича к нам (то есть к Людочке). А почему не ко мне? Ведь у меня к тому времени была уже большая квартира, дружная семья, добрый, гостеприимный муж. Нет, нет, только к Людочке, конечно. Она тогда жила в маленьком домике у м. «Щукинская». «На Щуке», – как говорил ее будущий муж Лёня, который любил рисовать подробности ее комнат-пеналов, домов-однодневок, где Людочка обустраивалась каждый раз основательно и надолго. Одну из своих работ он так и назвал: «Людочкин интерьер». Кружение света и теней, проявляющие часть стола с какой-то замысловатой кружкой и редкостной тарелочкой с тонким синим орнаментом из старинного сервиза, которая досталась Людочке от нашего друга-физика, вечного сторожа Валентина (сейчас он иеросхимонах большого монастыря), эта тарелочка была у него одна («Бери, бери, если понравилась!»), ажурный фикус во все окно... Людочка умела так набросить плед, так расставить и случайно купленные в комиссионке медные подсвечники, и самые простые чашки, которые назывались «белыми» (на них-то и была наша надежда: именно из этих чашек мы и собирались поить его чаем), и картинки развесить, и стул («венский») подвинуть к столу с раскатившимися золотистыми луковицами, и сшить гобеленовые чехлы на подушки из маминых гардин, – что любое убогое ее жилье сразу же превращалось в самое уютное место на свете. Не говоря уже о банке с постоянными букетами. Банка была необычная: приземистая, толстого стекла, с широким горлом, такую только в аптеках или химических лабораториях можно найти. И так она мне нравилась, эта банка, что Людочка в конце концов при переезде на новую квартиру мне ее подарила. Только банка мне так и не пригодилась: она тут же потеряла свою привлекательность и была водворена в кладовку. Да и белые чашки, наше утешение (я потом купила такие же), были заставлены вглубь буфета. Что случилось с ними потом: разбились, раздарила? Нет, мы не пригласили его к себе (да и не дерзнули бы на это!) – так только, помечтали один раз, и все. Зачем? Разве мало нам было вечеров в Безбожном (а теперь Протопоповском) переулке?
Пейте чай, мой друг старинный,
забывая бег минут.
Желтой свечкой стеариновой
я украшу ваш уют.
Не грустите о поленьях,
о камине и огне…
Плед шотландский на коленях,
занавеска на окне.
Самовар, как бас из хора,
напевает в вашу честь.
Даже чашка из фарфора
у меня, представьте, есть…
Я клянусь вам, друг мой давний,
не случайны с древних лет
эти чашки, эти ставни,
полумрак и старый плед…
Тогда мы только что прочитали его повесть «Путешествие дилетантов»: «А мы не едем, мы живем вне времени и вне пространства, без имен и обязанностей, лишенные друзей и врагов», – и были полны впечатлений, которые сейчас и обрушивали на него. Все, о чем он писал, было про нас и для нас: «Служение общественному благу? Но все благодающие миру – гонимые или анахореты», – а он очень внимательно, даже, можно сказать, напряженно слушал. И мы заговорили о том, для чего нужны критики. Правда, говорили в основном мы, – ну, а где еще можно было вот так, без оглядки и безнаказанно (неужели не понимали: между нами – пропасть: «Вы извиняетесь больше, чем надо», – сказал он нам, когда мы пришли к нему в первый раз), перекидывать тоненькие мостки, не опасаясь, что они будут разрушены? Говорили о том, что часто писатели (особенно поэты это остро чувствуют), когда им вдруг случается прорваться в мир духовный (или миру духовному проявиться, заявить о себе через поэта), приходят в изумление. Они ведь знают, что не могли бы сами придумать такое, понимают, что, собственно, их-то заслуги в этом и нет, что они выступают лишь как проводники. И разуму не так-то просто распознать, что почувствовала душа, заглянув в этот таинственный мир. Вот почему поэту далеко не безразлично читательское мнение: он слушает в надежде получить объяснение, что же родилось под его рукой и, оторвавшись от своего создателя, начало жить совершенно самостоятельно. Лишь бы только послужить Творцу, а не быть игрушкой темной стихии... И ничего из сказанного не было тогда еще выстрадано, как и многое другое, мы двигались на ощупь, интуитивно, также удивляясь своим маленьким открытиям…
Несколько лет спустя он напишет стихи о тех, кто не умеет приспосабливаться к толпе, кто не продает свои идеалы за сладкие пряники, кто не любит кичиться своими знаниями, всегда оставаясь дилетантом, над которым так легко посмеяться.
Они сидят в кружок, под низким потолком,
освистаны их речи и манеры,
но вечные стихи затвержены тайком,
и сундучок сколочен из фанеры.
Наверно, есть резон в исписанных листах,
затверженных местах и в горстке пепла.
О, как они сидят, с улыбкой на устах,
прислушиваясь к выкрикам из пекла.
Пока не замело следы на их крыльце
и ложь не посмеялась над судьбою,
я написал роман о них, но в их лице о нас,
ведь все о нас, мой друг, о нас с тобою.
Моя пометка в блокноте после очередной встречи с ним: «Мудрость покоя, но не успокоенности». А однажды что-то случилось со временем («Булат Шалвович, моя жена у вас?» – бедный мой муж, звонок которого и заставил нас обратить внимание на часы!), и мы с Людочкой опоздали на последний поезд метро. И ушли от него с розами (в утешение), не дожидаясь первого. Мы долго бродили по старым улочкам и говорили, говорили (почти одновременно) на одном дыхании: так мучительно давалась истина. Мы и стихи тогда умудрялись писать одновременно. Например, я в метро, перемещаясь с одного строительного объекта на другой, записывала, пристроив на коленях блокнотик:
В начале было Слово – не слова.
Зачем сшибаться лбами оголтело?
Есть белый свет и снег покойно-белый,
и усмирится белизной трава...
Но издает гортанный крик трамвай,
надламывая поворотом тело...
А в это время еще одна моя подруга Катя (давно уже игуменья сказочного монастыря с белым храмом, который стоит на слиянии 2-х рек) в своем ВНИИТЭ, куда я тоже через некоторое время пришла работать, продолжала:
Все поздно, словно не было и нет.
Поэтому забудем, и не стоит
вытаскивать из памяти на свет
цвет осени, пусть будет перегноем.
Авось родится что-нибудь еще,
само придет – через года – по следу...
Сотри слезу, румянец этих щек
из пораженья сделает победу…
Хотелось есть, и мы попросили у рабочих, разгружавших фургон возле булочной, хлеба («Что вы, девочки, какие могут быть деньги в пять утра!»). Решившись все-таки написать обо всем этом (в то время исполнялось 7 лет со дня кончины и его, и Любушки; 7 лет – время подведения итогов), я вдруг нашла клочок бумаги со строчками:
В Колокольном переулке
раздают бесплатно булки,
только в пять часов утра,
только розы, только булки,
только двое в переулке
и асфальт под утро гулкий.
– До свиданья, нам пора.
Неужели это я написала? Застучали ли каблучки по тому асфальту? Или так и не удалось оживить это легкое, прозрачное утро? И большую глянцевую фотографию нашла, которую мы у него выпросили (вот уж не думала, что она у меня есть), и даже (совсем немыслимо!) мое неотправленное, забытое письмо (15-летней давности!) откуда-то выпало: «Дорогой Булат Шалвович!..» И все это в один день!
***
Он ждал нас, как мы и договорились, в 7 час. И не дано уже узнать, что подумал, когда мы так и не пришли, так и не позвонили ему в тот вечер. И никогда больше не пришли и не позвонили. Сейчас, четверть века спустя, мы иногда задаем себе вопрос: почему? И не находим ответа. Может быть, боязнь разрушить красоту тех высот, на которые сумели взойти и которые представляли для нас тогда единственную ценность? Нет, было еще что-то. Ведь именно этим летом завершались наши метания от одного тупика к другому, куда всякий раз загоняли себя, тщетно стараясь найти выход. И был удивительно теплый, солнечный сентябрь (или таким только остался в памяти?), когда душа наполнилась нежданным светом и потряслась увиденным, и появилась надежда. И дальше состоялось то, о чем не принято писать наспех. «И открылись глаза у них, и узнали они, что наги» (Быт. 3, 7). И мы увидели вдруг эту безобразную наготу и возжелали благодатного покрова. И это желание было настолько велико, что поглотило жизнь целиком. И уже невозможно было возвращение назад. И, видимо, чувствовали, что теперь уже ничего не получится. А может быть, все-таки все было гораздо проще, и мы просто боялись не вытянуть больше праздник наших встреч? И настолько не ценили себя (несмотря ни на что!), что даже не смогли предположить, что наше исчезновение будет хоть как-то замечено. И было внутреннее оправдание тому: мы искренне считали, что лишали всего не его, а только себя.
***
Той же осенью Людочка перебралась на очередную квартиру, которая оказалась (но ведь почти бесплатно, как отказаться?) в доме по соседству с ним (не тут ли жил его приятель, к которому он ходил в тапочках?). И как-то, возвращаясь домой, увидела его. (Пройти мимо, просто кивнуть, как малознакомому, почти чужому человеку, – после всего, пережитого вместе? Остановиться, что-то сказать? Это тоже было не меньшей трагедией.) И рядом с ним какие-то люди (и что, собственно, сказать?), а у нее в руках огромная тыква, и мама теребит: пошли скорее, опаздываем. Может, не заметит? Заметил.
– Это такой ужас! Представляешь? А я с тыквой в обнимку. Нет, нет, совершенно невозможно было. Я слишком поздно поняла, что он смотрит. А он что понял?
Письмо я все-таки написала. Однажды пришел к нам один московский батюшка, бывший студент моего мужа, взял с полки первую попавшуюся книгу, увидел дарственную надпись:– Вы знакомы с Окуджавой? Хотелось бы узнать, крещен он или нет, можно ли за него молиться, он много сделал для меня хорошего.
Письмо, правда, так и не было отправлено, не по небрежности, конечно, а все по той же причине: что для него, человека-легенды, моя благодарность и любовь? Как же я жалею сейчас об этом, как и о том, что так мало сохранилось подробностей этих вечеров, что все безвозвратно утеряно и забыто: мы больше доверяли сердцу, чем бумаге.
‟Завтра”. Какое ехидное понятие, переполненное пустотой. Зачем? Зачем? Уж если доверять, то лишь нынешнему дню, а не призрачным фантазиям, чтобы потом не плакать горько, не раскаиваться. Неужели прошлое ничему нас не учит?»
Пришлось позвонить. Ответила (слава Богу!) его жена Ольга Владимировна, неожиданно обрадовалась:– Квартиру освятили, когда его дома не было. Но мы с сыном молимся, очень надеемся, что покрестится...
***
Нередко судьба постоянно сводит тебя с каким-то человеком в течение всей твоей жизни. Нет-нет, да и напоминает он о себе. Первая встреча с ним (ностальгия по детству) – у всех примерно одно и то же, кто из нашего поколения не вспоминает это? Первый магнитофон, увиденный у одноклассницы в 14 лет:
– Чьи это песни?
– Окуджавы.
И долго потом хранилась тетрадка со старательно переписанными стихами. Почему-то я не сомневалась, что его фамилия начинается с буквы «А». Так и написала: «Акуджава». А потом мы с мужем узнали, что Окуджава живет совсем близко – всего-то каких-нибудь 2-3 троллейбусных остановки от нашего дома. И мало того, его дом построили на месте барака, в котором мы с родителями стали жить, когда приехали из Загорска, и где я провела последние годы своего детства! И дети наши – его сын и наша дочь – пошли в одну спецшколу (Булат и Лада. Совсем другие имена теперь. И все совсем другое...), и его друг, З.Гердт, жил по соседству с нами, в одном доме, где во всю его большую комнату простирался необъятный стол (но это был уже другой дом, в который мы переехали спустя 10 лет). Даже О.Пучков (редактор издательства «Прогресс») со своей женой – поэтом-переводчиком И.Озеровой – пришли к нам в гости именно в тот день, когда вопрос об его отчислении из партии разбирался на партсобрании СП.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 12 Июн 2020, 15:43 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7544
Статус: Offline | Не ходить на собрание – это единственное, что они могли тогда (в начале 1970-х) для него сделать, и этот поступок по тем временам можно было назвать смелым, об остальном не было и речи: все должно было приниматься единогласно. Это нам удавалось, по милости Божией, сохранять внутреннюю свободу: «Нет – не был – не состоял – не привлекался».
Когда пройдет нужда за жизнь свою бояться,
тогда мои друзья с прогулки возвратятся,
и расцветет Москва, от погребов до крыш.
Тогда опустеет Париж.
Я иду от станции м. «Комсомольская», которая стала для меня уже такой близкой, к Ленинградскому вокзалу, чтобы сесть в самую раннюю электричку и доехать до Твери, а потом – автобусом или местным поездом – до села, где служит в разрушенном храме уже 5 лет мой зять (а сколько же лет прошло с тех наших вечеров: 18? 20?). В переходе моя давняя знакомая, которая продает теперь газеты (помню, она сказала однажды: «У меня нет духовника, у меня – духовная мать» – тогда сусанинская Любушка еще была жива), держит «Комсомольскую правду». И вижу заголовок статьи, набранный огромными буквами: «Его любили миллионы, а он умер от одиночества». И его портрет на весь газетный лист… Сколько раз я готовилась к этому, представляла, как сердце будет безнадежно выкрикивать: все, не вернуть, опоздала, не сумела; все уже, все, «шарик улетел», поздно хватать воздух руками, не дотянуться до веревочки. Сколько раз все это уже было, чтобы теперь, кивнув своей знакомой, купить газету, а потом, не разворачивая ее, сесть в поезд и привычно провожать глазами уплывающие деревья...
То ли мед, то ли горькая чаша,
То ли адский огонь, то ли храм.
Все, что было его, нынче ваше,
все для вас, посвящается вам.
Позвонила моя подруга Елена, которая живет по соседству:
– Приходи, если сможешь: сейчас будут показывать похороны Окуджавы. Слышала, что он перед смертью покрестился (Господи, неужели?).
Всматриваюсь в лица толпы, надеясь найти ответ, вижу священника. Неужели, неужели правда? Но голос за кадром лишает надежды :
– Он всегда был атеистом и умер как атеист.
Тогда почему священник? А, вот оно что: это же отец Георгий! Тогда все понятно. Ведь говорят, что он может и после смерти окрестить. Даже новый чин такой выдуман: отпевание тех, кто так и не успел (или не захотел?) стать христианином. «Значит, пустая болтовня. А мы ничего даже не попытались сделать!» – снова мучаю я себя. Но перед тем, как закроют за мной дверь, вдруг та самая, уже не однажды испытанная мною радость (всегда неожиданная!), которая вспыхивает в сердце, когда прощаешься с тем, кто сподобился «христианской кончины живота, безболезненной, непостыдной, мирной», и которая «не отнимется от нас» никогда.

– Ты знаешь, он крещен, крещен, не сомневайся в этом! – горячо говорю я ничего еще не понимающей подруге…
По какой реке твой корабль плывет
до последних дней, из последних сил?
Когда главный час мою жизнь прервет,
вы же спросите, для чего я жил?
Буду я стоять перед тем судом,
голова в огне, а душа в дыму.
Моя Родина, мой последний дом,
все грехи твои на себя приму.
Средь стерни и роз, среди войн и слез
все грехи твои на себе я нес.
Может, жизнь моя и была смешна,
но кому-нибудь и она нужна.
Его любили миллионы – значит, и молились тысячи. И блаженная Любушка тоже молилась. Сколько спасенных ею, сколько сохранившихся семей, исцелений, обретений смысла жизни. Любушка стоит, слегка согнувшись, опираясь на стул. А я уже не знаю, что спрашивать: молитв за дочь (она вынашивает еще одно наше долгожданное дитя, которое родится через 2 месяца, на Пасху, под красный перезвон колоколов), о муже? И вдруг – неожиданно для себя :– Помолитесь за некрещеного раба Божия Булата! И Любушка записывает его имя в свой дивный помянник.
В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
сойдет однажды ангел черный
и крикнет, что надежды нет.
Но, простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идущий следом Ангел белый
прошепчет, что надежда есть.
– В свой день рождения, 9 мая, я всегда уезжаю из Москвы. Не люблю, когда меня поздравляют. С утра одни звонки... – выплывают из тех, таких уже далеких лет его слова. Через несколько лет после того, как мы были у него в последний раз, моя дочь примет 9 мая первые роды у своей подруги. Родится девочка, и нарекут ее Глафирой, в честь святой, память которой празднуется в этот день. А в мае 1997 г. (Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами!) друзья, провожая его вместе с женой за границу, скажут у поезда :– Не возвращайтесь назад, там так хорошо! А он протянет им (на память) крестик:
Время идет, хоть шути – не шути,
как морская волна вдруг нахлынет и скроет...
Но погоди, это все впереди,
дай надышаться Москвою.
Мало прошел я дорогой земной. Что же рвешь
Ты не в срок пополам мое сердце?
Ну не спеши, это будет со мной,
ведь никуда мне не деться.
Видишь тот дом? Там не гасят огня,
там друзья меня ждут не больным, не отпетым...
Да не спеши! Как же им без меня?
Надо ведь думать об этом.
Дай мне напиться воды голубой,
придержи до поры и тоску, и усталость...
Ну, потерпи, разочтемся с Тобой –
Я должником не останусь.
И вскоре, уже во Франции, под Парижем (последние его желания: оказаться в московской больнице, и: «Окрести меня, я готов к этому!»), жена (только бы не перепутать, все сделать правильно!) произнесет над ним: – Крещается раб Божий Иоанн...
Иоанн – благодать Божия – имя, которое он изберет себе сам. И жена вдруг вспомнит, что именно это имя и называл несколько лет назад печерский старец Иоанн, когда благословлял ее окрестить мужа самой.
– А какое же ему имя дать? – спросила она тогда старца.
– Назови его, как и меня, Иваном, – ответил старец.
«Прощай, прощай…»
Да я и так прощаю
все, что простить возможно, обещаю
и то простить, чего нельзя простить, –
великодушным мне нельзя не быть.
Прощаю всех, что не были убиты
тогда, перед лицом грехов своих.
«Прощай, прощай…»
Прощаю все обиды,
обеды у обидчиков моих…
«Прощай, прощай…»
Старания упрямы
(пусть мне лишь не простится одному),
но горести моей прекрасной мамы
прощаю я неведомо кому...
В московском храме 19 июня священник В.Вигилянский совершит чин отпевания.
И потом без лишнего слова,
дней последних не торопя,
мы откроем нашу Родину снова,
но уже для самих себя…
И по синим горам, пусть не плавное,
будет длиться через мир и войну
путешествие наше самое главное
в ту неведомую страну…
Через 2 месяца, 11 сентября, уйдет и блаженная Любушка, в день памяти св. пророка Иоанна Крестителя.
Друзья, не надейтесь на чудо,
не верьте в заморский Сезам,
нам плакать и плакать, покуда
Москва не поверит слезам.
***
Могла ли я предположить, что я скоро снова встречусь с Окуджавой, и что встреча эта произойдет в Англии? Я писала о нем зимой 2004 г., а в мае, когда отмечали 80-летие со дня его рождения, мы с мужем оказались в Лондоне, где в русском храме познакомились с молодой семьей, которая живет здесь уже около 10 лет. Юрий с Верой пригласили нас к себе домой, хотя в гости здесь приглашают редко. Редко кто захочет, чтобы проникли в тайну его английской жизни, увидели нечто сокрытое от посторонних глаз: небольшой ухоженный садик – зеленую лужайку, окаймленную цветущими кустами, которую нелегко обнаружить с улицы («О, у них кусок сада! Не каждый может себе позволить дом с садом…»), фотографии на стене, говорящие о жизни обитателей дома, картины и другие мелочи интерьера, которые не ускользнут от внимательного, пристрастного взора («Сколько у них спальных комнат? Три?!! Ну, знаете, такой дом…»).Но с Юрой и Верочкой нам было просто и легко. Молодые, думающие, читающие, с богатой родословной: среди их ближайших родственников и художники, и пушкинисты, и актеры. Мы сидели в саду за большим круглым столом и пили чай вместе с милыми детьми и чудесными интеллигентными родственницами, Вериной мамой и тетей – Варварой Львовной и Марией Львовной, которые приезжают из Риги ухаживать за их девочками…
– Эти воспоминания написала наша двоюродная сестра, – Мария Львовна протянула нам изящную, хорошо изданную книгу.

Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы оценить и язык, и душевную чуткость, и ту щедрость, с которой человек делился увиденным и пережитым за долгую жизнь.
– Но вы бы тоже могли немало написать. Ведь столько интересного мы услышали за сегодняшний вечер! – сказал мой муж Марии Львовне.
– Всегда жаль, что вместе с людьми уходит огромный мир, уходят их переживания, скорби, радости.
– Да, – подхватила Верочка, которая до этого слушала молча (Верочка обладает даром молчания, она не спешит высказывать свое мнение или поддерживать необязательные фразы), – вот я сейчас разбираю письма моего дедушки с фронта. Как же это интересно! Правда, я боюсь их брать в руки, они такие ветхие, думаю, вдруг рассыплются?
– Ну что ж, может быть, и напишем… очень может быть, нам действительно есть чем поделиться, – улыбнулась Мария Львовна.
– А у меня тоже есть воспоминания о человеке, с которым я встретилась в детстве, – сказала Верочка. – Вы знаете, я часто думаю о том, что каждая встреча неслучайна. Иногда сразу понимаешь, почему она происходит, а иногда, чтобы понять, требуются годы… Если хотите, я расскажу вам о женщине, которая много лет переписывалась с Окуджавой.
Хотела ли я услышать об этом?!! Но Юра опередил меня, предложив немного погулять: – Покажем наш парк, а по дороге Вера расскажет вам об Аусме.
– Об Аусме?
– Да, это имя той женщины, которую Окуджава называл своим другом.
Девочки разъехались по лужайке на велосипедах («Папа позволил нам покататься!» – радостно сообщили они), мужчины ушли вперед, а мы с Марией Львовной и Верой медленно брели по парку с яркой травой, мимо маленького пруда, к которому крался по кустам рыжий, в крупную полоску кот, надеясь поймать рыбку. Знаменитые английские лужайки, огромные деревья, сказочные коты из детских иллюстрированных книжек, лисы, которые по утрам греются на солнышке, а ночами пронзительно кричат вместе со своей добычей – так, что не сомкнешь глаз, и, конечно же, множество белочек: они летают по заборам и крышам, сотрясают деревья, перебегают улицу, прячась под стоящей машиной. И все – это в твоем саду, или под окнами твоего дома, или у твоего парадного. Но вскоре ты уже почти не замечаешь ни белочек, ни лис, ни больших красных рыб в прозрачной воде пруда, ни важных диковинных котов. Они уже не так отвлекают тебя от твоего внутреннего мира, от твоих забот, переживаний, радостей. Тот мир, который в тебе и в тех, кто рядом с тобой, гораздо ярче этого феерического многообразия.И разве не чудо: приехать в Лондон и услышать продолжение своего рассказа, вернее, даже не продолжение, а завершение, с теми необходимыми последними строчками, которых, оказывается, так не хватало мне? Для этого и оказалась там? Не только, конечно, но и для этого тоже.
– Когда я была маленькой, – начала Вера, тщательно подбирая слова (боялась что-нибудь пропустить или исказить?), – меня отвозили на все лето на дачу, недалеко от Риги, в местечко с легким поющим названием Цекуле – так на латышском языке называются птички с хохолками, живущие на болотах, их там предостаточно. В то лето, о котором я хочу рассказать, мне было 10 лет. Двое моих приятелей, Лёня и Илюша (мой крестный отец дядя Володя называл их общим именем «Леонид Ильич»), были чуть помладше меня, поэтому я могла слегка командовать ими. С утра мы отправлялись на речку или на поляну. На поляне рос большой дуб: это был наш штаб. Мы забирались на дерево и играли в войну. И нам совсем не мешало то, что наши пистолеты были сделаны из кривых веток, а враги в основном сидели в кустах, и их нужно было постоянно окружать. Во что же еще играть детям, если все окрестные леса были изрыты окопами, сохранившимися еще со времен Первой мировой войны? А в доме, напротив дуба, жила Аусма и ее муж Женя. Аусма была латышкой, а Женя – русским. Она сидела в кресле с большими колесами и обычно читала. Ей было лет сорок: красивое лицо и ласковый голос. Аусма была навсегда прикована к креслу после неврологического заболевания, а Женя работал в Риге и приезжал домой только под вечер и тогда уже все время был рядом с ней.
Каждый день он вывозил Аусму на прогулку: катил коляску к речке через весь дачный поселок. Как получилось, что мы подружились, уже не помню. Но, видимо, война с немцами действовала соседям на нервы, и Аусма однажды предложила нам вместо этого устроить концерт. Мы сразу же загорелись этой идеей, нашлись и другие «артисты», и почти целый месяц мы репетировали. Концерт, конечно, был на той же поляне, а зрителями были наши соседи, очень довольные тем, что мы больше не окружаем врагов с диким ревом. Помню, что самым трудным и ответственным было рисование билетов и распределение мест. Концерт нам удался. Только перед началом я пребольно проколола руку веткой алычи. На следующий год Аусма и Женя в Цекуле не приехали. Мы все ждали их и ходили около ворот их дома, но в доме было пусто. Потом мы узнали, что врачи посоветовали Аусме пожить около моря. Больше я ее никогда не видела, но вспоминала о ней всю жизнь. С годами я поняла, почему встреча с ней произвела на меня тогда такое впечатление. Поражало, конечно же, ее умение жить настоящей, полноценной жизнью, дарить столько радости и оставаться милой и привлекательной женщиной, хотя с каждым годом она все больше и больше теряла возможность общения с людьми.
Я ничего не знала о ее судьбе и очень жалела, что у меня не осталось от нее ничего на память.И вот два года назад я получила чудесный подарок. Русских газет я давно не читаю (как, впрочем, и английских), не до них. А тут вдруг мне попалась на кухне рижская «Комсомолка» (не знаю даже, откуда она взялась), и мне почему-то захотелось развернуть ее. Я не поверила своим глазам: Аусма мне прислала весточку! Это был рассказ о ней, о ее переписке с Окуджавой. Теперь я вспомнила, что Аусма тем летом (это было задолго до того, как она написала ему первое письмо) слушала песни Окуджавы и рассказывала нам, как она познакомилась с Женей, спускаясь на плотах по реке в компании студентов. А какие же вечера обходились в те годы без костра, гитары и его песен? Как жаль, что я тогда была страшно стеснительной и не сделала ничего, чтобы разыскать Аусму, хотя мне этого очень хотелось… А теперь Аусмы уже нет, и Женя ушел вскоре после ее кончины. И у меня нет даже ее фотографии.

Мы долго шли молча, радуясь тому, что никто из нас не мешает другому побыть наедине… На прощание Вера подарила мне газету с рассказом о переписке двух людей, между которыми возникла душевная близость, случающаяся так редко. Обычные письма, они, конечно же, не были рассчитаны на публикацию. Просто каждый из них знал, что можно рассказать другому то, чего не доверишь почти никому (Аусма не все письма захотела обнародовать): «Сударыня! Для меня большая честь – Ваше письмо и добрые слова… Имени Вы не пишете, а я забыл. Спасибо Вам за письмо. Приятно не то, что ‟Путешествие” показалось Вам интересным, а то, что Вы увидели в нем больше, нежели любовную историю. Ролей я, к сожалению, не распределял, т.к. роман боятся экранизировать…».
«Спасибо за письмо и поздравления. Я, как обычно, в этот день ускользнул из Москвы со своими немногочисленными друзьями…».
«Должен Вам признаться, что давно уже не носился по стране столь стремительно и легкомысленно. Из Москвы в Ленинград, чтобы участвовать в каких-то неправдоподобных телепередачах, затем – в Ригу. По дороге прихватил грипп. Никогда бы не стал выступать в таком состоянии, но дал обещание Белле Ахмадулиной помочь ей. Три раза выходил с температурой 38. Остальное время отлеживался в гостинице. Не успев прийти в себя, помчался в Ленинград, потому что обещал ‟Литературной газете” принять участие в ее выездном вечере. Выступил и вернулся в Москву. Пришел в себя, оглянулся и подумал: а нужно ли было все это? Ничего не видел, ни с кем не общался, скорей-скорей. Для чего? Жена говорит многозначительно: ‟Что-то ты суетишься. Это на тебя не похоже”. Теперь оттаиваю…».
«Дорогая Аусма! Бог наградит Вас за прекрасный подарок: за фотографию и начало автобиографии… Надеюсь на продолжение. Читал с интересом…».
«Теперь, действительно, приближается мой день, но я и на этот раз исчезаю из Москвы с целым отрядом старых друзей, ибо категорически отказался от всяких юбилейных вечеров и официальных чествований. Обычно мы смываемся под Калугу и живем там два-три дня в маленьком и не очень презентабельном отельчике, где в другие дни живут спортсмены и тренируются. Но мы там уже десять лет, и нас там знают и лелеют, так что это дороже, чем любые европейские изыски…».
«Юбилей мой должен был превратиться в довольно шумную историю, но я вовремя предупредил, отказавшись от ордена. На меня очень разгневались, но санкций, кажется, не последовало…». «Лежу в жестокой ангине. Пишу стихи. Пушкин говорит: ‟Если бы не болел, когда бы и писал”…».
«Вместо Прибалтики провалялся в больнице август-сентябрь, т.к. у меня вдруг обнаружили большую язву. Лежал, лежал, пока не зарубцевалась, и теперь живу очень осторожно, так как снова туда не хочется…».
«Дорогая Аусма! Мне отрадно узнать, что Вы живы-здоровы. Испытываю некоторую неловкость оттого, что бегаю, разъезжаю, а у вас была больница. Сейчас вернулся из Америки, выступал там, смотрел, ахал и охал. Теперь хочу немного прийти в себя: устал, все-таки уже приходится говорить о возрасте, хоть Вы и пишете, что на ТВ я выгляжу бодро. Посылаю Вам свою самую первую прозу, повесть ‟Будь здоров, школяр!”, которую 30 лет не печатали, а теперь вот издали…».
«Мы долгое время жили в страшном болоте, теперь его понемногу разворошили, и все полезло наружу. Что будет дальше, трудно предугадать. Будем надеяться, что общество сможет начать выздоравливать…».
«Дорогая Аусма! Дай Вам Бог здоровья. Чего же можно желать ныне еще? Все так смутно и безнадежно. Как-то я перегорел. Было, зажегся, надеялся, а сейчас что-то сломалось, и музыка разуверившегося общества стала мне близка… Сейчас живу в Переделкино на даче и пишу, и никуда не лезу…».
«Дорогая Аусма! Я прекрасно разобрал Ваш почерк. Вы пишите о лекарствах. Может быть, я смогу что-нибудь достать. Шестого марта лечу в Америку. Можно попробовать там. Сообщите срочно. Ситуация сейчас весьма противная, но я все-таки не теряю надежду…».
«Вы вспомнили о Кирилле Померанцеве. А ведь я близко знал его. Познакомились с ним в Париже. Он умер лет пять назад. Замечательный был человек! Больной, одинокий, гордый, и верный, и талантливый. Так и не увидел своей родины…».
«Недавно я был в Таллине, рядом с Вами, один день. Грустно было. Уже чужой мир. Был вместе с нашим чиновником Козыревым, и мы встречались с русской публикой. Это были старые пенсионеры, в основном отставники КГБ. Очень ожесточенные и неистовые. Я их понимаю. Ситуация сложная. Но пришлось встречаться с русской молодежью. Они, напротив, язык знают, работу по сердцу имеют, и хотя со многим не согласны, но чувствуют себя дома. Сложная ситуация. Юбилей очень нашумел, что мне теперь совершенно не интересно…».
«Меня занесло в больницу в декабре, и мне вшили сердечный стимулятор. Это было неожиданно и довольно противно, но ничего не поделаешь…».
«У меня некоторые сложности со здоровьем, поэтому отвечаю с опозданием…».
«Дорогая Аусма! Посылаю Вам немного денежек, может быть, пригодятся…».
«У меня очень сложная ситуация: неожиданно заболел, прохожу обследование, надеюсь, что все обойдется. Ограбили дачу. Замечательные времена! Теперь сижу в Москве. Стараюсь не падать духом…»
Статья, из которой я взяла эти строчки, называется «Музыка души». Но она имеет еще и подзаголовок: «Поэт Булат Окуджава 14 лет переписывался с простой рижской библиотекаршей». С простой библиотекаршей? Так почему же он после последнего концерта в Риге сказал со сцены, что поедет сейчас к своему большому другу, который тяжело болен? («Я уже привык к Вашим письмам, Вы умеете писать так, что проявляется человек. У других это бывает редко».) Но разве не это умение «проявиться», которое называется талантом, выделяет человека из толпы, делая его замечательным? Шумные юбилейные вечера с наградами, офиц. признаниями в любви, чествованиями. А ему так хотелось человеческого тепла, он так нуждался в том, кто сумел бы увидеть в нем человека без хрестоматийного глянца, от кого можно было бы не скрывать свои слабости и кто захотел бы понести их, не осуждая и не рассуждая. Я вдруг вспомнила, как после первой встречи с ним, уже собираясь уходить, мы задали ему вопрос :
– У нас много друзей. И все они будут спрашивать о вас. Что им сказать?
– Скажите, – он обвел рукой прихожую и едва заметно улыбнулся, – я живу хорошо.
А что еще скажешь малознакомым людям? О «жестокой ангине» и о том, что «перегорел» и в душе «что-то сломалось», сможешь сказать только человеку, близкому по духу. («В самую тяжелую минуту в Риге я получил Вашу телеграмму. Она меня очень поддержала».) Но, пожалуй, самое главное, что он увидел в Аусме, – это та высота духовного подвига, которая дарит простоту. Аусме было неважно, ответят ей или нет. Просто она захотела поблагодарить и поблагодарила, просто поспешила на помощь тому, кто так ждал (разве можно было предположить это?!), чтобы ему протянул руку хоть кто-нибудь из тех миллионов, которые его так любили и которых он так любил. Простота любящего сердца, которая дается терпением и скорбями.
Человек стремится в простоту через высоту.
12.06. 2020. Православие.ру
https://pravoslavie.ru/131804.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 15 Июн 2022, 17:16 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7544
Статус: Offline | К 25-летию со дня смерти
«ГДЕ ТЫ, БУЛАТ?..»
Впервые после смерти Б.Окуджавы Б.Ахмадулина согласилась говорить с корреспондентом о своем близком друге…

В последние годы он любил жить на даче в Переделкино. Его загородная жизнь - желание проводить время более спокойно и уединенно. Он вообще никогда не суетился, не любил этого и избегал. Известно, что он болел, некоторое время назад перенес операцию, Само здоровье его как бы просило покоя, негородской, нешумной жизни. В прошлом году праздновали день моего рождения. Вспоминаю это к тому, что Булат чувствовал себя плохо, но пришел поздравить меня - это было при публике, на сцене Художественного театра. Я очень дорожила его присутствием и особенно всматривалась в него: хотела понять, как он себя чувствует, настолько ли бодр, настолько ли прочен еще. Когда он дал мне крестик, мы еще пошутили и я сказала со сцены: «Зато Булат, зато сейчас, зато мне крестик подарил». Мы обнялись, и я вновь ощутила его пугающую хрупкость. Она всегда была ему свойственна. Он имел тончайший силуэт (Булат бы засмеялся, если бы это услышал.) Силуэт Булата - силуэт очень худого, очень тонкого человека. Наши объятия на сцене Художественного театра мне запомнились: что-то во мне насторожилось, родилось какое-то ощущение опасности.
Недавно среди бумаг нашла надпись на книге - мою, маленькую, шуточную. Она была связана с тем, что Булат в своей домашней жизни иногда сам себе готовил. Как-то позвонила ему на дачу, а он сказал: «Позвони мне через некоторое время, я не могу говорить. Я варю суп». И вот я написала на книжке: «Булат суров. На ласку скуп. Несмело я звоню Булату. Звоню. Булату. «Варю я Суп! - «Варите!» Дарить коня улану! Но по Тверскому по бульвару когда я крадучись иду, лицо у многих глаз краду. Лицо посвящено Булату. И знаю - выше есть любовь любви. Читатель ужаснется! Но только пусть, твоя ладонь, твоя, а не моя ладонь лба охладевшего коснется».
Из этого шуточного посвящения можно сделать печальный вывод: за несколько лет до 1997 г. я опасалась и тревожилась - предпочитала, чтобы его ладонь коснулась моего хладного лба. А не наоборот. Но вышло не по-моему. То, что в этой шутке упоминается суровость Булата, его скупость на ласку, то в этом больше шутки, чем серьезного. А может быть, напротив - хвалы.
Однажды в Грузии я встретила человека очень симпатичного и что-то мне напоминающего, услышала от него: «А я ведь прихожусь Булату Шалвовичу двоюродным братом». Тогда я сказала: «А я родной брат вашего двоюродного брата». Мое ощущение дружбы можно было бы приравнять к родству - близкому, обожающему, трепещущему, - но это не значило, что мы говорили друг другу любезности. Булат не любил подобного. Он всегда был благородно сдержан. И всякая фамильярность или излишняя резвость со стороны тех, кто с ним общался, - она молча, скромно, но отвергалась. Однажды я видела по телевидению передачу, где с Булатом разговаривал молодой человек. Окуджава меня потом спросил: «А ты видела передачу?» - «Видела». В передаче молодой человек все время говорил сам, говорил, что думает о времени, о власти, о Булате и т.д. Булат, по-моему, не сказал ни слова, просто сидел. Его сдержанность…Но при всем при том он был очень добр, очень многим людям помогал и никогда об этом не говорил - помогал и деньгами, и любым способом. Всегда! Он был сдержан и мог показаться замкнутым. Никогда не подавал себя собеседнику на ладони, не вел себя так, как будто находится на исповеди. Конечно, он мог поговорить о своих мыслях и чувствах, но в этом случае все было сопряжено с шуткой. Булат любил пошутить. У него был чудный смех. Иногда сам что-нибудь расскажет и очень, очень смеется. Я всегда дорожила подобными счастливыми мгновениями.
Объяснение в любви

- Белла - мой давний друг. В таких случаях говорят «старый друг», но это не про Беллу. Этот человек очень близок мне по духу и мировоззрению, по самому направлению своего таланта. Это любимый мною человек. Я отношусь к ней с восхищением и горжусь ею как поэтом. Мне трудно о ней писать потому, что ее стихи вросли в меня, стали частью моей собственной души. Но главная Беллина черта - удивительная ее органичность, отсутствие всякой претензии, всякой искусственности. В Ахмадулиной мне дорога гармония смыслов, звуков, красок и мироощущения. Как дышит, так и пишет. Это редкое качество, и говорит оно о подлинности горения. В этом смысле стихи Ахмадулиной - дар природы. И еще мне дорога в ней бескрайность сострадания к ближнему, слабому, гонимому. И это в наш жестокий век! И, наконец, это возвышенное существо, готовое понять и простить, может быть стойким, сильным и непреклонным, если дело касается дорогих принципов. Счастья тебе, Белла!
Булат Окуджава
У нас с Булатом была договоренность: если меня кто-то о чем-то попросит и надо будет подписать письмо в чью-то защиту, то он мне разрешил, раз и навсегда ставить под своей его подпись, подделывать под Булата - когда человек действительно нуждается в защите или в помощи. Я этим не злоупотребляла, но такие случаи были, и под своей подписью ставила его. Это действовало, помогало, потому что он был любим многими людьми. Он никогда не заигрывал с публикой, никогда не лукавил, но это не значит, что он мог говорить что-то лишнее. Конечно, в этом был способ его поведения на сцене. Булату очень часто кричали «Бис!» «Браво!», аплодировали. Он принимал публику к сведению и дорожил внимательным отношением к себе людей.И теперь около дома, где жил Булат, всегда лежат цветы, все время приходят какие-то люди совершенно разных возрастов. И молодые. Есть такая мода говорить, что шестидесятники надоели, в том числе и Булат. Кстати, Булата это всегда задевало. Говорила ему: «Неужели тебе не все равно? Пусть говорят что хотят». А он обращал на это внимание и как-то сказал кому-то: «Я ухожу. Я не занимаю ничье место. Делайте все что угодно».
Первой встречи с ним я вспомнить не смогу. Мне же не вспомнить, например, как я родилась. Я сразу поняла, что Булат - это большая драгоценность. Офиц. круги Булата не поощряли. Я сама никогда не была любимцем начальства, но однажды мне пришлось вступиться за Булата. В ответ на какие-то разоблачения Окуджавы в прессе я напечатала небольшую заметку в его защиту. Теперь учреждена Госпремия им. Б.Окуджавы. Она будет вручаться за поэзию и авторскую песню. Хорошо бы, чтобы эта премия присуждалась людям чистого таланта и чистого поведения, - это было бы продолжением отношения Булата к нам.
Он никогда не отвечал на вопросы «Что такое любовь, что такое жизнь?» Действительно, эти вопросы были излишними. Он всегда пренебрегал пустословием, Я не пожалела бы себя, чтобы он жил, но я не стала бы ему говорить: «Булат, я отдам за тебя жизнь», - тогда бы он был смущен и просто во мне разочарован. Хотя это он прекрасно знал. В стихах у меня есть: «Когда тебя вижу, Булат, два зрачка от чрезмерности зренья болят, беспорядок любви в моем разуме свищет…» Если бы я сказала это ему при встрече, то он бы ужаснулся.

Я немного содействовала соединению Ольги Владимировны и Булата: прекрасно помню случай, когда до их женитьбы Булат попросил меня позвонить Ольге домой. Наверное, нужно было, чтобы по телефону прозвучал женский голос. Как я уже говорила, Булат мог запросто заняться варкой супа. Наверное, потому, что был грузин. У Окуджавы в доме был пудель по прозвищу Тяпа. Он прожил очень долго, но Булат никогда с ним не любезничал, не сюсюкал. Он как-то раз сказал, что хотел бы иметь большую собаку, видимо, Тяпа казался ему слишком дамским. Потом Тяпа умер и взяли другого пуделя и тоже назвали его Тяпой. Как-то раз мы были у них в гостях и Тяпа начал ластиться к Булату. Тогда я спросила: «Булат, неужели ты никогда не играешь с Тяпой?» Я помню его чудное лицо - мягкое, со сдержанной улыбкой, - когда он пошутил в ответ: «Не чаще одного раза в неделю».
Когда он дал мне на сцене крестик, то сказал очень тихо: «Он освящен. Он из Святой земли». О вере он никогда не говорил, но то, что о ней он думал, сомнений нет. Всякий думающий человек избежать этой мысли не может.
Булату врачи запретили курить, и он как бы бросил. Тогда я курила, но при Булате старалась этого не делать. Ольга заметила и сказала: «Ты при Булате стараешься не курить?» И тогда я узнала, что Булат курит. Но теперь он делал это изредка. Брал сигарету, делал одну-две затяжки и тут же ее тушил. Часа через 2 все повторялось... У Булата был знаменитый замшевый пиджак, который ему подарили в Париже. В нем он выступал около 15 лет. И замечательно рассказывал, как в Польше он отдал его в чистку и - о ужас! - случилось окончательная гибель пиджака. Такие короткие истории, которые рассказывал о себе Булат (в них он всегда оказывался «Дураком»), были очень милы и очень веселы. Хотя то, что случилось с пиджаком, очень его расстроило.
Когда он еще учительствовал в Калуге, то ужасно бедствовал, снимал какой-то угол. В то время, чтобы выйти со школьниками на демонстрацию, Булат сам состригал с брюк бахрому и подшивал их. И вот тут каким-то чудом в лотерею он выиграл маленький приемник. То, что случилось с Булатом дальше, он никак не связывал с этим приемником, который показался ему целым имуществом. Жилось ему тогда очень тяжело, он был сыном врагом народа. Он не мог об этом не думать. По этому приемнику он слушал траурный марш 53-го года. Позже у Булата была возможность покупать для сына Були любую технику, связанную с музыкой. Когда в первый раз оказался в Париже, то неожиданно для себя получил какие-то деньги и пошел в магазин, чтобы купить на них магнитофон. В магазине он выбрал то, что ему понравилось (был в восхищении), а когда направился к выходу, то уронил магнитофон - и тот разбился вдребезги. Но, к счастью, парижский магазин был так великодушен (тогда Булат был совершенно неизвестен), что продавец, увидев потрясенного покупателя, склонившегося над разбитым магнитофоном, дал ему другой, совершенно новый и попросил его беречь. Так вот, тот маленький приемник, который Булат выиграл в лотерею, и был его путь к Парижу, к успеху...
Мы приехали в Рязань по приглашению филармонии за очень малые гонорары. Жили в гостинице, в соседних номерах. И вот тут к нам стал ломиться как-то мальчик - молодой человек, бывший чуть-чуть во хмелю. Он вошел к Булату и сказал: «Я забыл Ваше отчество». Я подсказала: «Булат Шалвович». - «Нет, я разволновался, я сейчас выйду и опять зайду».
Так продолжалось несколько раз. Наконец он прочел нам свои стихи. К тому времени я уже разозлилась и сказала: «Если вы пишете хуже чем Данте и Оливье, то я вас попрошу выйти вон». Молодой человек читал стихи, сбивался и опять читал. Они были, как и подобает рязанскому мальчику в есенинском духе. Булат и я отнеслись к молодому человеку очень радужно, сказали ему добрые слова и то, что надо писать несмотря ни на что. Вечером, после выступления, мы с Булатом пошли в ресторан и вдруг увидели, что этот мальчик сидит за столом с двумя людьми очень мрачного и опасного вида, несколько уголовного. Этот мальчик, увидев нас начал во всеуслышание жаловаться, что вот из Москвы приехали поэты, они печатаются, они и потому известны, что живут в Москве, и т.д. Громилы пили вместе с ним и тут посмотрели на нас, на Булата - «московскую штучку в брючках».
«Мы сейчас ему покажем», - сказали они мальчику. Я приготовилась держать оборону. Они двинулись к нашему столу, подошли к Булату. И тут, когда они попытались как-то его взять, он не прирожденный для кулачных боев, неожиданно отшвырнул их. Они удивились, потому что им казалось, что Булата можно просто сдуть. При это он сказал громилам несколько слов, в которых не было совершенно угрозы. И те тут же решили с ним больше не связываться. Это осталось для меня необъяснимым. Булат ни на секунду не испугался, не терял достоинства. Он просто дал им отпор духа. Смысл его слов был: «Пошли вон!» И они ушли.
…Ну а теперь, конечно… я никогда не оправлюсь от этого. Я писала недавно стихи… И все спрашиваю: «Булат, где ты?» Но есть еще Ольга, есть Буля, так что же мое горе, что же его описывать? И это даже не горе, а что-то другое…
Материал был опубликован в газете 27.02. 1998 г.
Аркадий Бачинский
21.12. 2021. журнал "Столица"
КАЛУЖСКИЕ ВСТРЕЧИ С БУЛАТОМ ОКУДЖАВОЙ
В моих руках книжка в голубоватой мягкой обложке с надписью большими белыми буквами: «Булат Окуджава. Девушка моей мечты, Автобиографические повествования». И ниже: «Ире и Володе - сердечно Б.Окуджава. 27.5.88».
Встречу в тот яркий майский день в квартире «Окуджав» я помню в подробностях, как, впрочем, и все остальные встречи с Булатом Шалвовичем, его друзьями и близкими. Саму книжицу, в силу того, что она воспроизводит, пусть в художественно измененном виде, калужское прошлое Булата Шалвовича, я, «калужанин-москвич», сознаюсь, «проглотил» неоднократно, да и ныне, нет-нет, листаю, сидя одиноко в уютнейшем уголке нашей квартиры, освященной пребыванием стольких незабвенных друзей, и великого Окуджавы, прежде всего. Сам рассказ “Девушка моей мечты”, воспроизводивший события далекого 1947 г., когда студент Тбилисского университета им. Сталина Окуджава встречал прибывшую из сталинских лагерей мать Ашхен Степановну, многострадальную армянку, давший название сборнику, был написан Булатом Шалвовичем в декабре 1985 г. По времени это совпало с памятным для меня событием - нашей с ним и женой его Ольгой Владимировной поездка из Москвы в Калугу на празднование 125-летия 5-й калужской школы, в которой я еще в феврале 1952 г. я впервые повстречался с Окуджавой. Случилось это так.
Однажды классный руководитель Анна Карповна привела с собой странного и удивительного мужчину: молодой кавказец, одетый в черное, волосы на голове вьющиеся, копна волос, лицо бледное, сосредоточенное, усы "малой формы", лет 26, в общем, мы, перешептываясь, решили, что он похож на Ч.Чаплина. "Булат Шалвович Окуджава, новый учитель в школе и попросил у меня разрешения посетить наш урок". – произнесла Анна Карповна. Мы, не сговариваясь, прошептали: "Булат", и эта кличка осталась на многие месяцы наших встреч в школе. Была и жена его Галина Васильевна Окуджава, она работала у нас в школе. О том, что Булат писал стихи, мы убедились однажды, когда наш школьный хор запел "Улица Дзержинского, трехэтажный дом". Слова были Б.Окуджавы, а музыку написал Ю.Чупров, наставник хора, представитель древнейшей калужской фамилии, ярый преферансист. В 1953 г. Булат Шалвович ушел на другую работу, а мы в 1954-м уехали из Калуги поступать в разные институты, и имя Окуджавы как -то стало забываться, когда вдруг в 60-х годах это имя всплыло и зашагало вровень с уже знаменитыми именами Галича, Визбора и др.

Б.Окуджава, Н.Панченко, Просвирнов. 1956
Прошло много лет, и в 1985 г., мне, калужскому радиожурналисту, было предложено взять интервью у Окуджавы в связи с юбилеем школы, где он работал, а я учился. И вот я поехал в Москву в ноябре, оказался, на Безбожном пер., поднялся на 13-й этаж и вошел в 60-ю квартиру. Булат Шалвович был один. Он был очень расстроен: позавчера прилетел из Италии, выиграл там в Сан-Рэмо Золотую гитару, а партийная печать не посвятила ни строчки этой его победе. А ведь гонорары от его зарубежных выступлений, как сказал он, идут в партийную кассу. Я тут же спохватился:
- "Так я возьму у Вас интервью, и вся Калуга узнает про Вашу победу!"
– "Да?"- сказал Булат Шалвович, - Ну что же, приступим!".
Когда мы поговорили о победе в Италии, я осторожно коснулся юбилея 5-й школы. Сегодня у меня запись этого первого интервью с Булатом Шалвовичем. Воспроизвожу её, чтобы сохранить колорит нашей беседы.
- Булат Шалвович, расскажите, пожалуйста, как Вам запомнилась наша 5-я школа, что она Вам дала. Известно, что школы дают много не только ученикам, но , говорят, и учителям.
- С пребыванием в 5-й школе у меня связано очень много – и печального, и смешного, и очень поучительного. Это произошло в феврале 52-го года. Я попал в калужскую 5-ю школу из Высокиничей, там у меня были неприятности, и я вынужден был приехать сюда. Знаете, в середине года приходить в новую школу всегда очень сложно, тем более, что что я пришел в класс, где до меня работала замечательная учительница. И я пришел в осиротевший класс. Пришел я – молодой человек, с усиками, такой подозрительной внешности. Приняли меня ученики очень холодно. Я сам был потерян. У меня обстоятельства были очень сложные. И у нас отношения не сложились. Началось с большого скандала. У меня с этим связана большая реприза. Я даже об этом написал, но не опубликовал. Я написал эту историю о том, как я входил в этот класс, как я постепенно стал тем, кем впоследствии был. Мне нужно было переломать этот класс, нужно было сломать их упорство в отношении меня и предвзятость, нужно было их победить как-то. Это длинная история.
- Окончилась она победой?
- Да, она окончилась моей победой, и у меня завязались с учащимися замечательные отношения. И благодаря этому я многих помню до сих пор, и некоторые мне пишут. И хотя я работал там сравнительно недолго – года два, отношения у меня были очень хорошие. Для меня это была большая школа прежде всего, потому что 5-я школа была тогда по моим представлениям школой очень сильной. На ней не было налета провинциальщины, отдаленности от столицы. Это была сильная столичная школа с традициями, с сильным коллективом, с взаимным уважением внутри – для школы это было большая редкость, потому что школа обладает такой спецификой, что там идет всё время такое соревнование, которое травмирует людей, вызывает к деятельности не самые лучшие черты характера, может быть..А тут коллектив был сильный, сплоченный, строгий, и как-то он меня захватил и в трудную минуту он мне помог. В общем я стал на ноги, почувствовал себя человеком, да еще способным преподавать. Это для меня было важно в те годы.
- Булат Шалвович, как у Вас сложились отношения с педколлективом, кого Вы больше помните?
- Многих я не помню уже, потому что коллектив был большой и каждый занимался своим делом, но было несколько преподавателей, с которыми я дружил. Так как я был человеком почти одиноким, то для меня это было важно. Чужой город, одиночество, и вдруг – появились люди вокруг меня, которые меня поддержали, которые были ко мне искренне расположены, которым и я чем-то был симпатичен и приятен. И сложилась у нас, ну как это говорят кампания что ли. Ну, кого я помню? Помню преподавательницу немецкого языка Г.Н. Никитину, М.И. Буйнову (правда, не помню, что она преподавала, как -то странно), затем А.Г. Больгинов, он физкультуру преподавал, я его Сашей звал. Потом у нас завуч был замечательный А.А. Федоров – тоже в нашей кампании. Затем И.А. Копылова, Т.А. Манкевич, Г.Живутцкий, потом Коля - он там завучем сейчас – Н.Ф. Симонов.
- Вы знаете, что он прекрасно поет?
- Ну как же! Мы вместе с ним пели на 2 голоса "Не искушай меня без нужды" М.И. Глинки
- А кто верхнюю партию пел – он?
- Он – верхнюю, главную вел, а я вторил. Потому что у него был замечательный голос, а я так подголоском был у него. Я с ним виделся год тому назад на Пушкинских днях в Полотняном Заводе. Ну вот такой был коллектив. Я помню школа была такая сильная и в спортивном отношении. И так как я был тогда болельщик спорта, для меня это было очень важно, я всегда переживал. Часто устраивались такие соревнования по городу, эстафеты всякие. 5-я школа всегда побеждала, и это было замечательно! Мы очень гордились всегда этим! Это тоже сплачивало! Понимаете, это тоже сплачивало!
- А как сложились у Вас отношения с А.К. Федоровой, которая вела у нас класс? Кстати, а что Вы там писали в блокнот на задней парте, когда были в нашем классе?
- Так! Так ты – Соловьев! – и сидел на первой парте с Исей Шейнисом? И ты все знаешь? Так что же ты мучаешь меня уже полчаса? Ну здравствуй 5-я школа! (Мы обнялись!). А Анна Карповна была удивительным человеком! Она была значительно старше меня и была единственным человеком, которая помогала мне, консультировала меня. А А.А. Федоров, хотя и был литератор, но он был занят своим "завучеством", ему было некогда. А она практически помогала мне каждый день: что сказать, как ответить, где смолчать, понимаете. В общем учила меня азам. Анна Карповна была для меня одним из моих "внутренних" учителей!....

В.Соловьев в гостях у Б.Окуджавы. 1985
Эта беседа запомнилась мне навсегда! После интервью мы попили чайку, а потом сфотографировались. Булат Шалвович был уже настроен радостно, воспоминания о 5-й школе доставили ему удовольствие. Потом я съездил в Калугу и подготовил передачу, которая должна выйти в эфир 30 ноября, в день 125-летнего юбилея школы. Но 29 ноября я поехал снова в Москву по делам основной службы (во ВНИИдреве в Балобанове) и заработался. Спохватился поздно, последняя электричка в Калугу уже ушла. И тут я вспомнил, что завтра будет юбилей школы. Что делать? Оставалось одно: попроситься у четы Окуджав подвезти меня завтра утром на машине в Калугу. Я позвонил Булату Шалвовичу и объяснил трагизм своего положения
- Ну что же? Придется тебя брать. Но где? – спросил Окуджава.
- Я на А.Толстого у дядьки, я подойду к храму, где венчался Пушкин, там есть светофор, и буду Вас ждать!
- Хорошо! Но ты должен стоять ужу в 6 часов!
- Договорились!"
Я стоял уже в 6 час. у светофора! Прошло 20 мин., машины не было. И вот, когда я уже впал в отчаяние, из-за храма показался "Жигуленок". Булат Шалвович вышел из машины и выразительно покрутил пальцем у виска! "Володя! Мы с 6 часов стоим у светофора, но с другой стороны храма, и тут я вспомнил, что ты должен был идти со стороны ул. А.Толстого. Мы поехали вокруг храма и нашли тебя!"
Мы расхохотались, а затем было 3,5 час. беседы с Б.Окуджавой не только о жизни , но и о смерти, не только о мире, но и о Боге! Это была беседа о жизни, о тайнах жизни Булата Шалвовича, Ольги и меня.
Приехав в гостиницу "Калуга", мы позвонили по телефону в штаб мероприятия, оставалось несколько минут. И вдруг я убедился в удивительном организационном таланте Булата Шалвовича: "Володя! Мы складываемся по десятке, ты дашь десятку, потом в Концертном зале, где будет проходить мероприятие, ты отберешь по десятке со знакомых учителей и своих сверстников, и мы вечером все вместе соберемся и справим этот юбилей!"
А почему бы нет? И я стал собирать деньги у близких знакомых, предчувствуя, что из этого выйдет великолепно! Когда я заканчивал сбор денег у моих знакомых учителей и друзей, подошел ко мне А.Г. Больгинов и объявляет: "Вечер состоится у нас дома на Луначарского, с Булатом мы всё решили! Так что, я теперь казначей!"
Боже мой! Что это был за вечер! На ул. Луначарского, в доме Больгинова всё было готово! Дуся, жена его, и дочка Наташа потрудились на славу! Стол ломился от блюд и спиртного. Была еще семиструнная гитара, одолженная у моего брата Бориса, и 2 магнитофона на случай, если будет концерт или диковинные рассказы. Было всё! И концерт под гитару, в котором принимал участие Булат Шалвович и Ися Шейнис, и рассказы, которые мы записывали на магнитофон. Но вдруг Булат Шавлович сказал: "Вообще-то, почти все участники событий, о которых я хочу рассказать, здесь. Выключите магнитофоны, я буду рассказывать, но так правдиво, что может быть, записанные на магнитофон рассказы потом будут чуть-чуть неприличны для слушателей".
И он начал рассказ, а я изо всех сил старался не пропустить ни одного слова и включил свою память, и вот этот рассказ:
"Когда в 50-м году я приехал из Тбилиси в Калугу по распределению Тбилисского университета имени Сталина, мне казалось, что Калуга и Москва почти что рядом, и я могу спокойно на выходные поехать в Москву, на родину, на Арбат. Но начальник облоно И.И. Сочилин сказал, что в области нужны специалисты со значками Тбилисского университета им. Сталина, и я направился в Шамординскую среднюю школу. Тем паче, что у меня родители репрессированные. Я и поехал. Когда я отказался совершать подлог и ставить четверки вместо колов, директор собрал педсовет и меня начали выгонять из школы. потому что и родители репрессированные, и я не умел работать. Спас меня П.И. Типикин зав.районного отдела образования. При свете керосиновых лампочек он как дал по столу кулаком и стал меня защищать! Понимаете! Вот это было невероятно, в 50-м году! Директора сняли с работы. А я в следующем году уехал из Шамордино в Высокиничи. Но тоже директор попался подлец. Я по заявлению должен был поехать в Москву, а когда вернулся из Москвы, заявления уже не было, и с позором как прогульщик должен был уйти с работы. Комиссия приехала из Калуги, во всем разобралась. Директора сняли. А я попал в Калугу, и наконец, мне нашли работу в 5-й школе в феврале 1952 г. Класс после смерти классного руководителя стал разболтанный, а я был назначен новым руководителем. На самом деле руководил всем некий "Поперло", переросток года на три, нахальный, всем подсказывал, передразнивал. Ну я, после его подвигов, взял его за воротник и выставил из класса вон.
На следующее утро вызывает меня директор П.И. Четвериков. Оказывается, у "Поперлы" была лохматая рука в обкоме, он нажаловался кому надо, а тот Четверикову. Я вхожу в кабинет: "Здрасьте, Пал Иванович!", а он: "Что же это такое? Может, Вы диктовать не умеете?". Я говорю: "Да, нет!". "Может, у Вас с дикцией плохо? Ну-ка, снова войдите ко мне в кабинет!" Я вышел и вошел: "Здравствуйте, Павел Николаевич!". "Ну, вот так уже лучше! А ученики жалуются - дикции нет, не понимают, а Вы их выгоняете! Если будете так себя вести, мы Вас выгоним! Идите!"
Черный, как туча, я шел по 2-му этажу и думал: "Жить не хотелось. И здесь та же история! Что же делать?". И тут вдруг Сашка Больгинов, мы уже познакомились:
- Булат, ты что такой, что случилось?
- Да вот, с директором скандал, говорит, выгонит!
- Да! Но ты же фронтовик! Это надо обдумать! Для этого надо пойти "под шары!
- А что это такое?- Да столовка за углом! А над входом 2 шара, фонари, значит! А мы "просветимся!
На столе, в это сталинское время, лежал в тарелочке хлеб, горчица, соль, и мы намазывали хлеб и говорили меж собою. Подошел официант, принес по стакану водки, по кружке пива и по холодной котлете с лапшой. Так, без спроса, у них такой ужин. Мы с Сашкой выпили и закусили. И сразу настроение улучшилось!
- Саш, давай еще!
- Давай!
Подошел официант, денег хватало, заказали то самое. И все заботы пропали! Стало весело! Мы пошли через рынок на кладбище, а потом на Колхозный пер., 25 и пели песни. А утром в классе все было по-другому. Почему-то дети здоровались, в классе была тишина, загляденье. Может быть, от меня пахло? В учительской все молодые женщины оказались приветливыми. Может быть, какой шарм появился у меня? Я мучился в раздумьях. В обед я остался один в учительской. Чего-то мне хватало. Тут входит Сашка.
- Саш, слушай, а пойдем "под шары!"
- Булат, а у тебя деньги есть? У меня-то вот нету! Нет денег! Что же делать? Слушай! А пойдем в местком, напишем заявление на помощь, и будут деньги!
Были заявления, были деньги, большая часть оставалась "под шарами". Поскольку на мне ничего не менялось (а заявления были: и на ботинки, на брюки), завуч А.А.Федоров вызвал меня и сказал: "Вы с Сашкой там пропадете! Мы решили вас спасать! Сегодня придете в такой-то дом, пароль, и мы вам откроем!"
В домик на ул. Достоевского мы пришли вовремя, как разведчики произнесли пароль, оказались в прихожей, разделись и вошли в залу. Боже мой! За столом сидела вся учительская во всех красотах во главе с Александром Александровичем, на столе чего только не было – и вина, и закуски! Мы обомлели!
- Так, будем решать, как они пригодятся для нашей кампании. Булат, ты что умеешь?"– сказал А. Александров.
- Я умею немножко играть на гитаре и чуть-чуть петь.
- Вот-вот! Садись-ка к Коле Симонову, он поет, вы будете с ним петь вместе! А ты, Саш, что умеешь?
- А я, с фронтовой разведки, 200 граммов – и не хмелею!
- Вот-вот! Садись ближе ко мне, мне меньше достанется!
(Обращаясь к собравшимся учителям, постаревшим на 30 с лишним лет с 1985 г.)
А ведь чудная была компания! Мы ведь ходили и на спортивные соревнования! И на массовки ездили до темна! Однажды поймали машину в темноте в лесу, доехали до города, а когда попрыгали на дорогу, то оказались черные, как черти: в машине перевозили уголь. А то и "Под шары" заходили, с другими намерениями: повеселиться и даже попеть, тем более, что 5-я школа была совсем рядом. А класс мой выправился! Выпускники класса сегодня ого-го! Вроде бы честные граждане! У меня в 52-м году было трудное положение: родители репрессированные, неприятности на учительской службе, был одинок. А Вы меня поддержали! Сделали человеком! Открыли путь к творчеству! Спасибо Вам за это!
Так уж случилось, что работник Министерства народного образования РСФСР, отличник образования СССР, и притом певица, И.В. Пигарева стала 1986 го. моей женой. И Ольга, и Б.Окуджава, и я, и Ирина стали гостями то у них на Безбожном-Протопоповском пер., то у нас на Бутырской ул. в Москве, а то и в Переделкине, на ул. Довженко, где я с помощью А.И. Цветаевой снимал бесплатно дачу Исаевых в 1988 г., после моей несчастной операции на глазах, совсем рядом от дачи Окуджавы.

Б.Окуджава между В.Соловьевым и его женой Ириной Васильевной во Дворце пионеров
Настал ноябрь 1990 г. Мы получили пригласительный билет на празднование 130-летия нашей 5-й школы. Из Зеленогорска ко мне в Москву приехал мой названный брат Ися Шейнис и с утра, под запись незабвенного магнитофона, под гитару, спел песню, которая впоследствии стала Гимном 5-й Школы: "Пятая Школа!". Некоторые редакторские правки и восхищение этой песней, и песня стала шедевром! И в это время звонит Булат Шалвович: "Володя, я не могу ехать машиной на юбилей! Ольга сидит на телефоне, ждет не дождется звонка от Були, который взялся перегнать автомашину из Мюнхена в Москву. А я здесь."
У меня мелькнула мысль" - Булат Шалвович! А что если мы, то есть Вы, Ися Шейнис и я поедем на дальнем поезде в купе до станции Калуга-2? Все, что надо, гостиницу, перемещения по городу и пищу я беру на себя!"
- Володя, я сейчас переговорю с Ольгой!
Трубку берет Ольга Владимировна:
- Володь, ты это серьезно? Значит, так: будь неотступно при Булате, мало ли что. И чтобы мне звонили!
Три часа до Калуги-2 промчались незаметно! Ну, во-первых, Исе Шейнису, ставшему одним из лучших преподавателей-словесников Зеленогорска, было о чем переговорить с Булатом Шалвовичем, чем паче, что они учились в одно и то же время у гениальной словесницы А.К. Федоровой. Я же не только не мешал разговору, но и слушал его с нескрываемым удивлением. Потом пришла моя очередь, и я высказался:
- Булат Шалвович, а помните, в 1985 г. вы рассказали чудный эпизод из Вашей жизни и жизни учительского коллектива 5-й школы. Мы с В.Евдокимовым были вынуждены выключить магнитофоны, но я включил свою память. Хотите послушать Ваш рассказ? А Ися будет мне помогать?
И получив согласие, я произнес то, что описал выше.
- Слушай, Володя, а я ведь крепко подзабыл этот сюжет, вот ведь чудеса памяти! И в 1988 г. я переиначил и сократил весь сюжет, касавшийся пресловутых "под шарами". А сейчас я всё вспомнил! Слушай, так ты можешь выступать вместо меня с этим рассказом! Ись, как ты думаешь?"
Ися ответил:
- Ну, с памятью, у него блестяще! А вот интонации Вашего голоса – придется поработать! А так, почти не отличишь!
У меня был триумф!

Встреча друзей. Калуга, 1985
1 декабря 1990 г. мы были вместе в 5-й школе, где Булат Шалвович впервые продекламировал свой стих:
"Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство!
Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь!
Лик его высок и удивителен! Посвяти ему свой краткий век!
Может, и не станешь победителем, но зато умрешь, как человек!"
Затем мы собрались в редакции газеты "Молодой ленинец", и при полном собрании редакции, на этот раз при моем включенном магнитофоне и видеокамере жены, прибывшей дневной электричкой, состоялась пресс-конференция Булата Шалвовича по всем аспектам его калужской автобиографии. Мы все интересовались жизнью и творчеством Булата Шалвовича, многое было неясным. Вопросы ссыпались, а он, по счастью, отвечал, как будто это произошло не 30 лет, а только вчера! И это было счастье, что при этом был великолепный магнитофон.
Беседа Б.Ш.Окуджавы 1 декабря 1990 г. в редакции "Молодой ленинец", около 13:00:
Б.О: (В школе) Да, очень много лет прошло. Пришел я сюда молодым, напуганным. Было трудно. В общем, потом отладилось. Я прочту Вам 8 строчек – единственное что я помню из своих стихов наизусть – в честь юбилея!
"Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство!
Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь!
Лик его высок и удивителен! Посвяти ему свой краткий век!
Может, и не станешь победителем, но зато умрешь, как человек!"
- Булат Шалвович, где же Вы жили в Калуге, спор идет?
- В сторону спичечной фабрики, по бульвару, с троллейбусом. А там поля какие, но что это за улица я сейчас не помню.
- Одноэтажный дом?
- Одноэтажный деревянный дом типа деревенского бревенчатого.
- И сколько квадратных метров было?
- Мне досталась площадь в общей комнате. Снимал койку за занавеской.
- А хозяева были?
- Были! Мы каждую субботу ходили в баню!
- В Доминговку?
- Нет, здесь рядом была баня
- А как звали хозяев?
- А это были родители моей первой жены, не помню, кажется, троюродный дядя. Он очень не симпатичный был человек.
- А второй адрес. где у Вас был?
- Это был Колхозный пер., д. 25, за кладбищем.
- А когда случилась Ваша история в Высокиничах, Вы пришли в облоно?
- Я не пришел! Меня выгнали с работы! Я был безработным! Но комиссия, на мое счастье определила, что я не виноват, и стали искать мне место. Ну и нашли в Калуге место. Умерла учительница, и меня приняли вместо ее.
- И Вы жили на Колхозном пер., д. 25? А потом?
- А потом я уехал в 1956 г. в Москву. Нет, я еще жил с художником Никифором Расщектаевым. Мы с ним снимали комнату на ул. Циолковского, около парка Циолковского, где я точно сейчас не знаю, но очень милые были хозяева. Они дали нам маленькую комнату, и мы жили там вдвоем. Остался от Никифора рисунок, он нарисовал себя и меня в этой комнате.
- Это было бы хорошо найти картину! Может, Ольга найдет?
- А я вспомнил, как у нас там пусто было в комнате. А Просвирном подарил нам старый диван. И мы с Никифором этот диван пёрли по всей Калуге, втащили его в эту комнатку. Это было путешествие!
Входит Ирина Васильевна Пигарева:
- Здравствуйте, Булат Шалвович!
- С приездом, с приездом. Я пришел в 5-ю школу при Четверикове! Была очень амбизиозный человек И.Овчинникова. Но у меня был с нею разрав. Она написала обо мне в Известиях, не называя имени. Какого-то поэта, который обманул свою жену. А стихи позже приводились мои. Это было в 62 или 63 году.
Бабичев (редактор газеты "Молодой ленинец"):
- А когда "Ленинец" был из обкома часто захаживали?
- Нет! Нас вызывали ,конечно. Кого звали туда, в эту богодельню. Вызывали на 5 мин.
- Секретарем тогда Сазонова была?
Сазонова, Клавдия! Был и Максаков! Тоже был свинья хороший! А тогда он учил, как нужно стихи писать! Все зависит от настроения этого человека: и он мог смешать Вас с грязью! Цензура! Ну,например, "Мой дяля самых честных правил..." Мы в коллективе живем, а вы "Мой дядя!" И все! и дело! Партийное дело! И все! И ничем не докажешь!
- А с партийцами как у Вас было в "Ленинце"?
- Я вступил в партию в "Ленинце". Полный надежд, вот наконец-то, теперь уже произойдет все это! Через 2 года я понял, что совершил глупость. а тогда этого было нельзя.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 15 Июн 2022, 20:13 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7544
Статус: Offline | - Это было в 54?
- Нет , в 55. Мне было легко вступать в партию. Произошел бум! После того, как на меня смотрели с подозрением,как на сына арестованных, вдруг выяснилось, что аресты производились неправильно. Мне сказали: "Давайте в партию, в партию давай!". "Ну давайте!", - сказал я. И побежал, и вступил, легко очень было. Двое написали мне рекомендацию, и меня приняли, и все.
- И реабилитация произошла в 56-м?
- Нет такой реабилитации там не было. Ну, просто ко мне стали иначе относиться. Благодаря Н.Панченко обстановка в редакции была такая, что у нас не было собраний, и все относились к этому поверхностно. А недавно я вышел из партии. Это же теперь фарс, как я вышел. Я сейчас принес в парторганизацию свой партбилет в конверте. Там секретарша сидит. Я и говорю: " А секретарь парторганизации?" А она говорит: "Его нету!" Я говорю: "Вот, передайте ему!" А она: " Это чё, партбилет?" Я говорю: " Да". Она захихикала, я и ушел! А потом, в 1956 г. мы провели двухдневное совещание. Туда приехали представители из Москвы. Происходило все в гостинице, там же и фестиваль. Мы с Панченко, В.Кобликов и др. принимали участие. В альбоме мне даже удалось опубликовать мою поэму "Циолковский" Кстати, Кауров обложку рисовал. Я тогда в первый раз получил гонорар.
- А какие тогда гонорары был?
- Я написал поэму. По тем временам рублей 200, наверное, было. Но ругались старики на поэму, мол, мы его любили, Циолковского!
-А как Вы начали работать в Шамордино?
- В Шамордино я бывал давно, лет 6 тому назад. Да это была моя первая работа после университета. Я преподавал русский язык и литературу. Это были ученики из 6-го класс, им было по 13 лет. А сейчас они все старички. Приходили все из деревень, некоторые за 12 км. А некоторые жили в Каменках, в Васильевке.
- Для Вас это интересно было?
- Очень! Ну, тяжело было! Конечно, потому что у меня хозяйства своего совсем не было. Получал я гроши, что-то около 54 руб. Магазина не было. Трудно было.Но сначала меня приняли хорошо. а потом было плохо. Разгорелся конфликт с директором из-за подлогов. Директора сняли, но мне надо было уезжать в Высокиничи.
Вот такая запись сохранилась. Это ценная запись! А 1 декабря в зале Дворца Пионеров, где когда-то Гоголь танцевал со своей возлюбленной А.О. Смирновой-Россет, состоялось торжественное заседание, посвященное юбилею школы. Булат Шалвович выступил и преподнес школе книгу своих стихов, а Ися Шейнис исполнил впервые свой Гимн Пятой Школе. А вечером этого дня в маленьком тесном номере гостиницы "Калуга" собрались и ученики и учителя. На столе была тощая бутылочка "Цинандали" и не менее тощая закуска – шел "год антиалкоголизма". В буфетах были только чайные чашки.
- Булат Шалвович, а Вы звонили Ольге?
- Звонил, но не получилось, занято и занято на станции.
- Боже мой! Она же волнуется! Давайте я позвоню.
У меня была на станции знакомая телефонистка, и, узнав в чем дело, немедленно соединила меня с Ольгой Владимировной. - Олечка, ну еле дозвонились! Как у тебя дела?
- Булька нашелся! В Польше, в деревне не было телефона, он переехал и позвонил! Давай Булата!
Скорбное лицо Булата Шалвовича вдруг стало меняться, оно стало игривым, заблестели глаза, весть о том, что сыном все в порядке, привела его в хорошее расположение духа. На столе все также стояло что-то антиалкогольное.
Вдруг Булат Шалвович повернулся к соседу Ю.Бирюкову и спросил:
- Юра, а что это у тебя под стулом, какое-то странное?
Человек, с потрясающей биографией, с которым мы все были дружны, ответил:
- Я так подумал, что год какой-то не такой, и я решил сварить первача-самогона, подкрасив его кофием и разными травами. Но, не знаю, можно ли по случаю юбилея, или нет!
- Юра! Так давай! Юбилей есть юбилей!"
И видеокамера запечатлела выставленные чайные чашки из буфета на стол и налитые до краев стенок благородным напитком.
"Ура!" – сказали мы все! Нашлась еще какая-то закуска. Мы повторили и не раз. Нашелся и "рояль в кустах": гитара Ириного отца под которую они со своим другом В.Я. Дворжецким и П.И. Нечипоренко пели старинные романсы. На этот раз Булат Шаллович деловито осваивал семиструнную гитару.
- Володь, я струну "си" подтягиваю на "до", это обогащает строй. Я слегка вибрирую струнами, получается полнозвучный аккорд. И пою!
Это был чудный концерт для друзей! Благо, он записан на видеомагнитофон, и когда-нибудь, с помощью "Ники", станет достоянием калужан.
Утром 2-го декабря, в дверь номера раздался стук. Вошел Булат Шалвович: "Ира, я думаю, что ты трезвая женщина, не в пример твоему непутевому мужу. Хоть что-нибудь на дне для опохмеления осталось?"
Получив утвердительный ответ, Булат послал меня к директору гостиницы печатать письмо В.В. Сударенкову насчет постановки телефона у его близкой подруги и нашей незабвенной "немки" Г.Н. Никитиной, подписанного тремя подписями. На приеме у Сударенкова Окуджава произнес: "Вы совершенно не похожи на чиновника! Вы очень культурный!". Это прозвучало как напутствие о том, что тот станет руководителем отдела культуры Совета Федерации, которых тогда еще не было.
Мы возвращались из Калуги-1 нетопленной электричкой. Все с первых минут продрогли от холода. Лишь "правая рука М.В. Келдыша" (он же Н.Тесленко) полезла в кейс и извлекла из него 2 бутылки "Столичной". Интеллигент высшей касты, получил по блату за какое-то математическое деяние два драгоценных сосуда! Немедленно нашлась закуска, но не было стакана, и вся компания пила из горла под дрожание мерзнущей публики вагона. На другой день Булат Шалвович позвонил мне и рассказал: "Володя, я вообще-то не должен был ехать на юбилей 5-й школы: у меня была температура. Но юбилей 5-й школы, да твое предложение, слава Богу, мы поехали. Спасибо тебе за это! Но и Колечке Тесленко тоже спасибо! После его 2-х сосудов с нетленной жидкостью у меня сегодня нет температуры! Жду Вас!"
Мы были на 70-летнем юбилее Б.Окуджавы, где Ирина Васильевна под окулярами телекамер вручала ему цветы. Это – отдельный рассказ. А тогда за столом, в честь его 70-летия, в кругу друзей, я сочинил лихие и шутливые строки:
Неверья рухнула держава:
ее разрушил Окуджава!
Там, где бессильны горы злата,
хватило одного Булата!
А ныне – Шалвович - ура! –
Стратег империи Добра!
Поэт ли он, поёт ли он -
весь мир давно в него влюблен!
Так пусть взлетает эта чара
в честь дорогого Юбиляра!
Я был и на сорокадневии Булата Шалвовича в его квартире в 1997 г. И мы вспоминали! А на "даче, что на юге от Калуги, за Окой," я услышал тогда летом 1997 г., будучи попутчиком матери и дочери Бугуславских, рассказ о том, что в Калуге проживает К.М. Скандарова-Сойбель, которая училась в 10 классе тбилисской школы №101 с Булатом Шалвовичем в 1945 г. Я нашел ее, записал ее рассказы, получил от нее копию стихотворения, посвященного ей, узнал, что они оба поступили в Тбилисский университет им. Сталина, но на разные факультеты, и их судьбы разошлись. Но это уже совершенно другая история, и мне придется написать еще одну книгу.
Я дружу с О.Окуджавой, с Булей и с его женой, и внуками Булата Шалвовича. Я до конца его жизни звал его "Булат Шалвович", вспоминая о том, что его и нашу учительницу мы звали "Анна Карповна". Я постарался вспомнить всё, или почти всё, что у меня связано с ним. На память о веселье с ним, и о печали…

Булат Шалвович и Галина Васильевна Окуджавы с друзьями
Владимир Соловьев
01.03. 2014.
http://www.relga.ru/Environ....id=3820
БУЛАТ ОКУДЖАВА: «ПРОКРИЧАТЬ ПРО ЛЮБОВЬ»

Не помню, когда впервые, от родителей, чья юность пришлась на легендарные 60-е, услышала песни Окуджавы. Они просто сопровождают всю жизнь, идут рядом. Какие-то из них стали неотъемлемой частью души, какие-то еще ждут, когда «дорасту» до них. Это потом я прочла об Окуджаве много восторженных откликов и слова «совесть народа», а тогда, в детстве, слышались слова очень простые, но такие искренние, что сжималось сердце: «...и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает...» Я еще ничего не знала про этого «скворчонка», сейчас знаю больше, но в том «синем троллейбусе» уже было «лекарство» - доброта и надежда.
Один Бог знает, чего стоило ему тогда говорить о самом что ни на есть человеческом. Не призывать ни к чему (упаси Бог!), просто раскрыть свою душу перед всеми («Каждый пишет, как он дышит»). Чего стоило «прокричать про любовь», рискуя получить (и получая) ярлык «пошлость». Один Бог знает, чего стоит ему сейчас своим тихим голосом докричаться до нас сквозь оглушающий грохот «массовой культуры». Но очень нужно докричаться, нужно уже не ему - нам! «...И друзей созову, на любовь свое сердце настрою...» Признаёмся ли мы сами себе в редкие минуты тишины, что больше всего на свете нуждаемся в том, о чем как-то не принято сейчас говорить с экранов, - нуждаемся в понимании, доверии, искренности, любви. Скажете - не модно? Да бог с ней, с модой. Речь ведь идет о душе нашей, о том, что остается на всю жизнь, и даже после...
Говорят, его песни - это песни прошлого поколения, молодые их не поют, его эпоха ушла. Я не знаю, будут ли его стихами и романами зачитываться уже наши дети, не берусь спорить, бессмысленное это дело. Время рассудит, оно мудрее и честнее. Я не спорю, я просто очень люблю стихи Б.Окуджавы и пою его песни. Очень хочется вслед за поэтом «прокричать про любовь навсегда, сгоряча...».
***
- Напомню: из своей фантастической популярности он не извлекал практически ничего, я имею в виду в материальном смысле. Может ли кто-нибудь вспомнить афишу, на которой крупными буквами написано его имя? Если такие были, то очень немного. А ведь мог бы при желании всю страну ими оклеить. Получал много лестных и выгодных предложений, но, как правило, отказывался, потому и жил всегда трудно. Как и подобает поэту, который бесконечно любит жизнь, но понимает ее не как удовольствие, а как служение. (Д.С. Лихачев)
***
- После одного из его вечеров смотрю в зал - какие глаза! Совсем другие, чем до! Сказалось даже: «Какие у вас глаза! Носите их подольше!..» (А.Володин)
***
- Булат не был ни опальным, ни правительственным поэтом. Он был одарен не только поэтическим и своеобразным исполнительским талантом, он был отмечен драгоценным даром — больной совестью. При всей ценности этого редкого в наше время дара он бывает почти невыносимым. И потому, когда для Булата было уже невозможно защитить кого-либо из нас от беды и отвлечь от отчаяния гонимых, он отправлялся в дорогу за надеждой. И находил ее, пытаясь разделить на всех...(З.Крахмальникова)
***
- Говорят, нынешняя молодежь почти не знает песен Булата. Возможно. Но это уже не имеет значения. Светлые пророчества поэта прочно вошли не только в сознание, но и в подсознание, в генетический код России, в то, что называется совестью народа. Так ли важно, кто именно в душе человека тихо произносит: «Не убий»? Важно, что — не убьет. (Л.Жуховицкий)
***
- Интеллигентность, я думаю, - это прежде всего способность мыслить самостоятельно и независимо, это жажда знаний и потребность приносить свои знания, как говорится, на алтарь отечества. Вот уже что-то вырисовывается, но этого, конечно, мало. Ведь интеллигентность, кроме того, в моем понимании, — это состояние души. Важны нравственные критерии: уважение к личности, больная совесть, терпимость к инакомыслию, способность сомневаться в собственной правоте и отсюда склонность к самоиронии и, наконец, что крайне важно, неприятие насилия. Что-то, видимо, я упустил и не сомневаюсь, что кому-то эти качества покажутся и неполными, и недостаточными, а кого-то мое мнение, может быть, и покоробит. Я вовсе не претендую на окончательное определение, просто размышляю... Я никогда не утверждал, что я интеллигент. Но мне всегда хотелось быть интеллигентом. Хотя у меня масса недостатков, пороков, но освобождение от них, наверно, и есть приближение к интеллигентности. (Б.Окуджава. Из интервью 1992 г.)
***
- Меня на вечерах, в беседах все время спрашивают: как же жить, что делать? Я отвечаю, что не знаю, я не политик, мне трудно предлагать что-то конкретно. Но по большому счету думаю: каждый должен работать честно, делать то, что он умеет делать, что обязан исполнять как профессионал. Вот и все, такой простой рецепт излечения недуга, поразившего наше общество. (Б.Окуджава. Из интервью 1994 г.)
***
- Умирать не страшно - страшно не жить. (Б.Окуджава)
Надежда Макагон
журнал "Человек без границ"
https://www.manwb.ru/article....Makogon
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 12 Июн 2023, 12:01 | Сообщение # 7 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7544
Статус: Offline | 26 лет без Булата Шалвовича...
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ОКУДЖАВЫ

Некоторое время назад П.Вайль написал замечательную книжку, которая называлась "Стихи про меня". Там было что-то около 60-ти стихотворений 20-тити поэтов. Интересно при этом то, что из этих 20-ти Вайль был знаком лично только с 5-ю: Бродским, Уфляндом, Гандлевским, Рейном и Лосевым. Остальных он не знал, да и они, остальные, его не знали тоже. По естественным причинам. Среди остальных, написавших стихи про Вайля, числились, к примеру, Пастернак и Анненский, Блок и Северянин, Есенин и Мандельштам... Как это возможно: поэты не знали его, однако написали о нем стихи? Правда, это утверждал сам Вайль. Может быть, он ошибся или что-то преувеличил?

Замечательный эссеист ничего не преувеличил и ни в чем не ошибся: он написал то, что знал наверняка. Стихи, которые он отобрал, действительно были про него, даже если родились задолго до появления на свет его самого. Потому что настоящий поэт умеет услышать и высказать то, что чувствует совсем незнакомый ему человек. Чувствует, да сказать не может. Вайль в своей книжке вновь подтвердил предназначение великой поэзии - преодолеть душевную немоту читателя, сказать публично то, что составляет переживание обычного человека, не отягощенного поэтическим даром. Вот, к примеру, он пишет об "Арбатском романсе" Б.Окуджавы. Почему эти стихи про него да и про меня тоже? Потому что в них точно передано мироощущение моей и его юности, полной надежд и добрых предчувствий.
"Из каждого окошка, где музыка слышна,
Какие мне удачи открывались!"
"Мало поэтических строк, которые я повторяю чаще", - пишет Вайль. Потому что музыка из окна в юности всегда манит к себе, как горизонт, увиденный с горы... Однажды со мной случилось то же самое. Студентом я был сокрушительно влюблен в девушку, которая некоторое время спустя стала моей женой. И вот, находясь в этом коматозном состоянии, я слышу песню Окуджавы о московском муравье. Понятно, что ни муравьем, ни тем более московским я в ту пору не был. Так, обычный влюбленный студент в Свердловске. И что же я слышу?
"И в день седьмой в какое-то мгновенье
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было легкое на ней..."
Это были стихи про меня. И я слушал их, потрясенный и счастливый. С тех пор прошло много-много лет. Но когда речь заходит о любви, я верю не романтическим байкам о красивых закатах и лунной дорожке на южном море, не поцелуям на яхте под парусом, не соблазнительным абрисам девичьих прелестей, не белоснежным многообещающим улыбкам, не загадочным и тонким ароматам ухоженных женщин - я верю только в "обветренные руки и старенькие туфельки её". И по сию пору для меня это и есть любовь. Спасибо Булату Шалвовичу, он помог мне запомнить это ощущение. С тех пор я слышал многие из его песен, некоторые пел сам с удовольствием, потому что они тоже были про меня. И вот теперь, когда минуло четверть века после его ухода, я понимаю, что его песни для типичного советского атеиста стали, говоря современным языком, саунд-треком Нового Завета. Это был наш храм и наша молитва. Слава богу, что они живут и сегодня. Я надеюсь, будут жить и еще много-много лет. Вот лишь несколько строк Евангелия от Окуджавы, которым мое поколение пользовалось каждый день несколько десятилетий подряд.

"Когда метель кричит, как зверь -
Протяжно и сердито,
Не запирайте вашу дверь,
Пусть будет дверь открыта..."
"Видно так, генерал: чужой промахнётся,
А уж свой в своего всегда попадет..."
"Но из грехов своей родины вечной
Не сотворить бы кумира себе..."
"Спите себе, братцы, - всё вернется вновь,
Всё должно в природе повториться:
И слова, и пули, и любовь, и кровь...
Времени не будет помириться..."
"Возьмемся за руки, друзья
Чтоб не пропасть поодиночке..."
"Так природа захотела,
Почему - не наше дело,
Для чего - не нам судить...
"И друзей созову, на любовь своё сердце настрою,
А иначе зачем на земле этой вечной живу..."
"Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба то гульба, то пальба...
Не оставляйте стараний, маэстро,
не убирайте ладони со лба..."
"Вселенский опыт говорит,
Что умирают царства
не от того, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А умирают от того
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше..."
"Давно в обиходе у нас ярлыки
по фунту на грошик на медный.
И умным кричат: "Дураки! Дураки!"
А вот дураки незаметны..."
"А всё-таки жаль,
что кумиры нам снятся по-прежнему
и мы до сих пор всё холопами числим себя..."
"Как много, представьте себе, доброты
в молчанье, в молчанье..."
"И вот тогда-то одинокий,
как в зоне вечной мерзлоты,
поймешь, что все, как ты, двуноги,
и все изранены, как ты..."
"Все слабее запах очага и дыма,
молока и хлеба.
Где-то под ногами и над головами
лишь земля и небо..."
Юрий Лепский
01.07. 2022. журнал "Родина"
https://rg.ru/2022/07/01/evangelie-ot-okudzhavy.html
ОКУДЖАВСКИЙ МОТИВ

Его катушечные записи и пластинки, которые мы до сих пор помним и по обложкам, и по интонации поющего поэта – это то, мимо чего почти невозможно было пройти в 1960–80-е. Окуджавская интонация – серьезная, немного кокетливая, грустная, иногда – ироническая – становилась естественным продолжением жизни, её высоким душевным измерением. Трудно было не подпасть под обаяние этого голоса – вовсе не певческого, но поющего. Даже молчание, даже паузы имели значение. Когда-то его считали хулиганом, дерзким возмутителем спокойствия. Блюстители морали встречали его выступление выкриками: «Осторожно, пошлость!», появлялись статьи, в которых Окуджаву называли «Вертинским для неуспевающих студентов». Вся эта катавасия началась прежде всего потому, что он был моден, несколько легкомысленен и почти ни на кого не похож. Некоторые вспоминали «низкопробный» успех поэз И.Северянина, а то и дворовые куплеты, которых принято стесняться. Другие считали его поэзию песенной, но непривычной.
Потом к Окуджаве привыкли. Он стал настоящим вожаком заметной части читателей, любителей поэзии и исторических романов. Не будем стесняться громких слов – стал кумиром. А потом – просто признанным мэтром, вниманием которого дорожили честолюбцы. Увы, обид он не позабыл. Ю.Нагибин в своем далеко не объективном дневнике называл его холодным и проницательным. Некоторым запомнилась обидчивость Окуджавы, которую трудно угадать по его стихам и песням. Но он и не обязан соответствовать тем представлениям о тихом и смиренном «московском муравье», которые сложились у поклонников поющего поэта. Он производит сильное впечатление на контрасте с современниками – это азбука.
В 20-е годы громко заявили о себе экспериментаторы, мастера революционного искусства с громкими трубными голосами. И для знатоков этот стиль – усложненный, прихотливый, цирковой – оставался главным, как минимум, до 50-х. И вот возникли простые песни, в которых слышались отзвуки городских романсов столетней давности и в то же время звучали, посверкивали самые узнаваемые, повседневные слова и чувства. Синие троллейбусы, Ваньки Морозовы и «шофер в автобусе – мой лучший друг». Многие из самых простодушных его песенок написаны изящно. На первом плане – легкая история, на втором – нечто замысловатое. Позже Окуджава стал писать возвышеннее, но без фанфар. В 60-е главным мотивом эпохи все-таки был пафос: можно вспомнить Ю.Гагарина, Е.Евтушенко, В.Высоцкого, многих писателей, актеров, даже спортсменов того времени. Они боролись и побеждали. А Окуджава, хотя и состоял с хрущевских лет в рядах КПСС, сочинял вполголоса и редко обращался к «широким общественным темам». 2-3 песни с революционной фактурой, несколько стихотворений, связанных с войной – и всё.
Бросалось в глаза, что он почти не писал о стройках и плавках, да и морализаторствовал не в общественных тонах. Его коронная и обжитая тема – частная жизнь почти свободного человека. Он взрослеет, все чаще с грустью вспоминает о юности, но живет не в начальственных кабинетах, а в квартире, где можно принять «друга старинного». Некоторые воспринимали это как бунт против бурной, а иногда и фальшиватой общественной жизни, в которой варилась советская литература.
Окуджава неизменно называл своим любимым поэтом Пушкина и был «пушкинианцем», для которого главное в поэзии – непринужденный разговор и гармония. Подчеркнутая принадлежность XIX в., золотому веку русской поэзии, создавала вокруг Окуджавы ореол несовременного – и этим особенно ценного – поэта. Но кое-что он взял и от символистов (не случайно, например, для Дм. Быкова Окуджава, в первую очередь – продолжатель Блока), и от советских поэтов кирсановского поколения. Чтобы прийти к таким рифмам, как «пасеки – песенки» и выдержать этот строй во всем стихотворении, нужно внимательно читать тех, кто написал свои лучшие стихи в предвоенные десятилетия. При этом Окуджава почти не красуется рифмами, ритмами и метафорами, всё вписано в гармонию без швов.
Его часто вспоминают в одном ряду с не менее знаменитыми шестидесятниками, которые любили его зачарованно. Но по сравнению с Вознесенским, Евтушенко, Ахмадулиной он звучал как пришелец из прошлого века. Их дружбе это не мешало. Окуджава слагал превосходные сказки для взрослых, существовавшие в вечном историческом времени. Там обитали короли и юнкера, там Моцарт на старенькой скрипке – даже не играл, а играет. Окуджава – одновременно и дилетант в музыке, и талантливый композитор, редко повторявшийся в мелодиях. Конечно, его мелодии шли от оркестровки стиха, но это не упрощает муз. задачу. Есть очень удачные опыты профессиональных композиторов с его стихами – это несколько песен И.Шварца, это «Бери шинель, пошли домой» В.Левашова, «Ты гори, мой костер» С.Пожлакова. Но когда М.Блантер – тончайший композитор, умевший подчеркивать достоинство сильной поэзии – написал цикл на уже известные по песням окуджавские стихи, случилась неудача – возможно, единственная в жизни замечательного композитора-песенника. Мелодии дилетанта оказались живее. Конечно, не обходилось без споров – не мешает ли пение поэзии, можно ли считать настоящим поэтом человека с гитарой, умеющего сочинять привязчивые мотивы?..
Человек и гитара – в то время это самое притягательное сочетание. На Западе начинался рок-н-ролл, а у нас – бардовские упанашиды, сидения у костров. Но Окуджава никогда не был одним из многих, он гордо держался на расстоянии от всех – и от офиц. советских поэтов, и от каэспэшников, и от молодых возмутителей спокойствия, которые нередко его почти боготворили. Очень скоро он стал напоминать грузинского аристократа, которому не место в толпе. Уж если говорить об уязвимых чертах Окуджавы – то это, конечно, то и дело проявлявшее себя высокомерие по отношению к «дуракам». Одному критику он ответил так:
Кого бояться и чего стесняться? –
Всё наперёд расписано уже:
Когда придётся с критиком стреляться,
Возьму старинный лефоше.
...Он не спешит, заступничек народный,
На мушку жизнь мою берёт,
И лефоше мой - слишком благородный
Не выстрелит, я знаю наперёд.
Слишком благородный! Как-то неубедительно звучит в качестве автопортрета. Из этого и другое, более известное:
Антон Палыч Чехов однажды заметил,
что умный любит учиться, а дурак - учить.
Скольких дураков в своей жизни я встретил -
мне давно пора уже орден получить.
Фамильярничанье с «Александром Сергеевичем» – из этой же корзинки с еловыми шишками. И – одно из последних стихотворений, адресованное почти соседу – А.Чубайсу:
Ну, и чтоб жила легенда
о событьи круглый год,
рюмочка интеллигентно
применение найдет.
Это, конечно, написано на случай, в альбом, не для публикаций, но всё же... Иногда он бывал открыто риторичен – и приучил свою публику к таким манифестам:
Совесть, Благородство и Достоинство –
Вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
За него не страшно и в огонь.
Думаю, это слишком рассчитано на испытанных поклонников, которые ждали чего-то подобного. Слишком «по шерсти». Таков во многом «поздний Окуджава» – что не отменяет изящества и точности раннего и зрелого. А многим взгрустнулось оттого, что сын коммунистов, воспевавший комсомольских богинь и комиссаров в пыльных шлемах, легко отринул эту идею. А что выбрал? Условно гуманную буржуазность, не более. Хрупкую конструкцию, от которой вскоре почти ничего не осталось. По крайней мере, у нас. Но вернемся к лучшему. Иногда Окуджава писал сравнительно короткие песни, из которых нетрудно было бы выжать поэму, столько там намечено сюжетов и смыслов. Это, например, «Прощание с новогодней елкой».
Где-то он старые струны задел —
тянется их перекличка…
Вот и январь накатил-налетел,
бешеный как электричка.
Он создает панораму о наступлении Нового года, о переменах в судьбе. Всё зашифровано, каждую строчку можно разгадывать, а мотив и знакомый голос (его все же чаще слушали, чем читали) помогают всему этому поверить.
Окуджава сравнительно немного писал о любви, хотя излюбленный жанр городского романса предполагает главенство этой темы. Он избегал банальностей, хотя не боялся простоты. Получалось возвышенно, иногда загадочно, почти всегда – с высокой сентиментальностью.
«Ваше величество, женщина, как вы решились сюда?»
Или:
Я клянусь, что это любовь была,
Посмотри: ведь это ее дела.
Но знаешь, хоть Бога к себе призови,
Разве можно понять что-нибудь в любви?
Кто решится на такое вроде бы простое, но такое гармоничное разрешение тайны тайн? А «Часовые любви»? Удивительно, что эту песню он написал уже в 1958 г., столько в ней немолодой мудрости.
Часовые любви на Волхонке стоят.
Часовые любви на Неглинной не спят.
Часовые любви
по Арбату идут неизменно…
Часовым полагается смена.
Арбат Арбатом, но смена. В то время ему еще рано было думать о смене, но в поэзии случается всякое. Вокруг его памятника давным-давно возникла особая мифология, ритуалы и окаменевшие эпитеты. Арбат, грузинские мотивы… Памятник на Арбате – тоже часть окуджавского мифа. Блюстителей поэтической чистоты это часто раздражает, но, думаю, если так сложилось – это стоит ценить... Он умер в Париже, который тогда, в 1997 г., стал чуть ближе к бывшим советским людям.
Свою прозу Окуджава прославил в песне «Я пишу исторический роман». На мой взгляд, его автобиографические вещицы значительно сильнее, а те самые исторические романы все-таки для тех, кто уже подпал под обаяние окуджавской поэзии и личности. Его стихи и песни – даже не «главные» (окуджавское словечко) – на мой взгляд, куда выше. Лучшие его строки – они всё-таки в песнях; в «обыкновенных» стихах Окуджава, быть может, слишком хрестоматиен. Он многими нитями связан и с предвоенными «школярами», и с фронтовым поколением, и с «детьми оттепели». В значительной степени он поколенческий поэт. Но поэтов, принадлежащих прошлому, не бывает. И многие стихотворения Окуджавы ещё обязательно вернутся – с мелодиями или без. Да вот хотя бы – самое известное, крылатое, кем-то высмеянное, но ведь точнее не скажешь и не отменишь:
Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.
Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.
Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.
Плачет старушка: мало пожила…
А шарик вернулся, а он голубой.
Арсений Замостьянов, зам. гл. редактора журнала «Историк»
https://godliteratury.ru/articles/2022/05/09/okudzhavskij-motiv
|
| |
| |