|
ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА
|
|
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 18 Мар 2015, 19:01 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | НЕ СТАЛО ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА
В ночь с 14 на 15 марта 2015 г., накануне своего 78-летия, после тяжёлой болезни скончался великий русский писатель, Герой Соцтруда Труда, лауреат Госпремий СССР и России В.Г.Распутин.

Прощание с классиком отечественной литературы пройдёт в Москве и Иркутске. Здесь, в городе своей студенческой юности, городе, ставшем для него истоком работы со словом, знаменитый писатель обретёт последний приют. Похороны В.Распутина намечены на 19 марта.
Звучит сердцебиенье родников
распевом, переливчатым и светлым.
Звучит оно – и нет ему оков,
и кажется оно вовек бессмертным.
И всё-таки грядёт последний срок.
Его каким сиянием наполнить?
Прислушаться к дыханью чистых строк
и просто – жить, и просто – жить и помнить.
Ни на кого не возводя укор,
ни у кого не требуя ответа.
Летит Земля, куда ни глянет взор.
Лежит Земля на все четыре света.
И всюду – жизни солнечная новь,
и всюду – родниковое звучанье.
А память переплавится в любовь –
и станет вечной, как твоё молчанье.
http://www.rifinfo.ru/news/39161
«ЕГО СОВЕСТЬ НИКОГДА НЕ МОЛЧАЛА»
Памяти Валентина Распутина, писателя и друга

С Валентином Григорьевичем я впервые познакомился в 1972 г., когда приехал в Иркутск на совещание молодых писателей. Он мне сразу показался добрым и очень деликатным человеком, с которым можно было побеседовать на любые темы. Но если речь заходила о России, русском народе и хоть как-то была направлена на то, чтобы унизить Родину писателя, В.Распутин становился жестоким защитником своей страны, ее традиций и веры.
С самого нашего знакомства и по сегодняшний день я не переставал удивляться его оптимизму и жизнелюбию. Жизнь Валентина Григорьевича была всегда тяжелой, с самого детства судьба посылала ему испытания: в раннем возрасте он лишился отца, которого на долгие 7 лет несправедливо отправили на Колыму. Затем, будучи 11-летним мальчиком, Валентин был вынужден уехать из родной деревни, чтобы продолжить обучение в средней школе. Новая школа находилась в районном центре, который был в десятках км. от деревни писателя. Уже тогда, совсем маленьким мальчиком, он осознал свой долг перед семьей, который заключался в том, чтобы получить образование. Представьте, как тяжело было ребенку находиться так далеко от своей семьи и понимать, что он должен учиться. А учился он отлично. Об этом жизненном пути, уже будучи взрослым мужчиной, Валентин Григорьевич написал свой знаменитый рассказ «Уроки французского». Главный герой произведения - маленький мальчик, который, как и рассказчик, приехал учиться из деревни в среднюю школу. Одинокий, без какой-либо поддержки, голодающий ребенок не желает, чтобы ему помогал кто-то из взрослых. Поэтому молодой учительнице франц. языка, которой стало жаль мальчика, приходится идти на хитрости, чтобы хоть как-то поддержать своего бедного ученика.
После публикации этого произведения в 1973 г. произошла удивительная история. Настоящая учительница писателя увидела в образе Лидии Михайловны себя, а в 11-летнем мальчике - Валентина Григорьевича, своего бывшего ученика. Про посылку с макаронами, которую учительница как-то отправила тогда еще школьнику Валентину, женщина уже забыла. Этот ее поступок говорит о бескорыстной помощи и жертвенности ради других. О людях, наделенных добротой, совестью, честью, милосердием, и писал В.Распутин.
В то время не только взрослые помогали детям, но и сами дети старались помочь друг другу, поддержать в трудной ситуации. Конечно, не обходилось и без драк - но как же мальчишкам не выяснить отношения? Сколько было нищеты в нашем детстве, вы не можете себе даже представить! Послевоенное время было очень тяжелым, голодным, но мы никогда не сердились на государство, потому что понимали, что всем тогда было трудно. Радость мы находили в мелочах и благодарили Бога за каждый мирный день. Я считаю, что если бы не было у Валентина Григорьевича радости в детстве - не было бы и такого великого писателя. Он был уверен, что детство формирует человека как личность, рождает в нем многие человеческие качества: сострадание, терпение, выносливость. Валентин Распутин стал настоящим мужчиной, он многое умел делать руками, хорошо владел топором, любил собирать грибы и ягоды. Очень любил русскую деревню.

Писатели В.Крупин, В.Распутин и В.Белов
Он вообще очень любил Россию и ее природу. Во многих его произведениях природа словно оживает, меняется вместе с событиями и чутко реагирует на происходящее в душах героев. Валентин Григорьевич очень переживал о том, что современный человек не только стал чрезвычайно далек от природы, но и губит ее. Он как мог боролся за спасение озера Байкал от стоков Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, активно выступал против проекта поворота с севера на юг северных и сибирских рек. Своим примером он показал людям, что природу нужно любить, сохранять и оберегать. В.Распутин берег не только природу России, но пытался сохранить и нравственные христианские ценности русского общества. Он был настоящим христианином, защищавшим православные святыни, поэтому не остался в стороне, когда произошел инцидент с группой «Pussy Riot». Он вместе с нашими коллегами опубликовал заявление деятелей культуры «Молчать не позволяет совесть». Его совесть никогда не молчала. Он не терпел каких-то злых взглядов, какой-то грязи в сторону России. Ему совершенно претило то, что творится сегодня: когда традиционные нравственные ценности стали насмешкой в глазах части общества, когда стыд стал пороком, а гордость за Родину - чем-то нелепым. Ему была всегда неприятна мысль о том, что молодые девушки стремятся выйти замуж не по любви, а по расчету, также как молодые люди ищут профессию не по душе, а для наживы. Он считал это путем в бездну.
Несмотря на то, что Валентин Григорьевич принял крещение в зрелом возрасте, когда ему было уже за 40, он всегда был верующим человеком. Он всегда приходил на помощь ближнему, и если сам не мог помочь, просил о помощи других. Никогда не роптал на Бога, даже тогда, когда ему было по-настоящему тяжело. Многие не знают о том, что его первенец умер крохой. В 2006 г. снова случился серьезный удар: в авиакатастрофе погибла его единственная любимая дочь Мария. Через несколько лет умирает жена. В последнее время Валентин тяжело болел, но не унывал. Он считал, что на все воля Божия. Валентин Григорьевич очень много путешествовал за границей и по России. Его все очень любили, особенно в Болгарии. Также его очень любили женщины из отдела рукописей Гос. библиотеки. Несмотря на то, что он очень убористо писал, почерк у писателя был ювелирным. Одна страница его рукописей равнялась 8–10 страницам машинописного текста. В.Распутин объездил полмира, но любить и восхищаться своей Родиной и русскими людьми не перестал. В своих произведениях он говорит о православной силе и мощи русского народа, рисует не столько сильные характеры героев, сколько сильную духовную личность.
Сегодня безбожная Европа погружается в пучину грязи, сметая с лица земли традиционные ценности, чистую любовь и уважение. Нашей стране пытаются навязывать чужие традиции, перевирают историю и хулят святыни. Сможет ли Россия противостоять сегодняшнему врагу? Я думаю, что сможет, - даже несмотря на то, что с уходом Валентина Григорьевича мы осиротели, наша земля потеряла одного из своих защитников. Но, к счастью, остались его труды, которые будут вдохновлять нас на подвиг и любовь к своей Родине. Я думаю, что если Господь нам подарил такого замечательного человека, значит, Господь в нас верит.
Владимир Крупин
17.03. 2015. Православие.ру
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/77947.htm
НРАВСТВЕННОСТЬ ИЛИ УСПЕШНОСТЬ?
Беседа с писателем Валентином Распутиным

– Валентин Григорьевич, в последнее время все больше мое внимание привлекает новое слово, которое появилось в нашем языке. Это слово – «успешность». Вообще-то оно вроде бы и не совсем новое. Ведь мы всегда говорили: успех, успехи, желали друг другу успехов. И все-таки вот такой формы – «успешность» – не было. А еще теперь стали говорить: «Успешный человек». В этом тоже, по-моему, непривычный оттенок. То есть коли успешность определяется неким постоянным, чуть ли не врожденным качеством каких-то людей, то, стало быть, неуспешные – это заведомо обреченные на второсортное или третьесортное существование. Что, мол, поделаешь, не дано… Я думал, что, может быть, у меня какое-то субъективно пристрастное восприятие этой самой «успешности», что только мне она режет слух. Но вот на недавней Соборной встрече в ХХС, посвященной 50-летию СП России, услышал тревожное размышление на сей счет в выступлении В.Н. Ганичева. Говорил он именно о разрыве успешности и нравственности, о том, что в общественном сознании утверждается фактически безнравственная успешность…
– Давайте сначала вглядимся в это слово. Ведь не случайно же оно взлетело сейчас. Поспешать, успех, успешность, даже приспешник – все это однокоренные слова, слова одного лексического гнезда. «Успех» у Даля в середине XIX в. понимался как достижение желаемого. Но академик В.В. Виноградов в своей работе «История слов» отмечает, что в XVI–XVII вв. и успех имел значение поспешности. Иметь успех означало тогда сорвать куш. Затем слово сняло с себя отрицательный смысл. А вот «поспешность» до сих пор не оторвать от поговорки: «Поспешишь – людей насмешишь». Удивительно, как форма слова влияет на его смысл, содержание. «Поспешность», «успешность» как были, так и остались родными братьями, только первое несет в себе физическое действие, а второе – нравственное, вернее, переступающее нравственные законы. Но, знаете, мне в слове «успешность» слышится скорее бесстыдство людей среднего порядка. Оно больше приложимо к хватким чиновникам, ворам в законе, ловкачам разного рода, остающимся в тени, и целой армии бизнесменов, только еще поднимающихся на орбиту. Для поднебесного положения олигархов понятие «успешность» – дело копеечное, их фигуры достигли такого размаха, что и Россия мала, им требуется весь мир. Но начиналось, конечно, с «успешности».
– Нетрудно понять, что знак, символ «успешности» – большие деньги. За последние 15-20 лет у нас упорно внушается просто-таки культ сверхбогатого человека. Мерилом престижности стали банковский счет и собственность. Теперь говорят: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» А ведь раньше подобная логика, зацикленная на одном лишь материальном богатстве, показалась бы странной. Как же произошли эти изменения в обществе?
– Общество наше больное, и нет никаких признаков, что оно озабочено своим здоровьем. Россия изменила себе и продолжает изменять все больше. Всегда она была самодостаточной, даже в трагическом XX в., когда формы государственности и жизни претерпели огромные изменения. Отказались от веры – и все-таки выиграли жестокую войну; перевернули деревню, изменили в ней уклад жизни – и все-таки сохранили и преобразовали ее; испытывали и гонения, и бедность, но не Родину свою винили в том и не отказывались от нее. То, что произошло в конце 80-х и в 90-х годах при Ельцине, Чубайсе и Гайдаре, – гораздо большая беда, чем Мамаево побоище. Богатырскую страну разграбили в считанные годы. Хлебные поля забросили и деревню, можно сказать, уничтожили. Промышленность заглохла, за обладание выгодными предприятиями шла кровавая война. Народные и природные богатства в спешном порядке поделили между собой те, кто вознесся затем на высоту олигархов. Нравственность и совесть отменили, одно упоминание этих понятий вызывало издевательства. Отменили, в сущности, и Россию, хотя именем ее и продолжали пользоваться. Но много ли радости в родном имени, если наполнение его чужое? Чужие нравы и песни, чужое образование и чужие кумиры, русский язык переполнен мусором и грубостями, великая русская литература существует в положении пенсионерки и тихо уходит в тень. Перечислять все эти перемены (а они везде и всюду), право же, сердца не хватит. Вот такие изменения и произошли, вот такая переоценка ценностей. Россия живет сейчас в двух ипостасях: в глубинке из последних сил держатся за родное; а на виду – вся пропаганда и агитация, говоря старым языком, то есть телевидение, радио, бесконечные, вытряхивающие вкус сериалы, культура бесноватых с громкими именами, – вся эта «успешность» круговой поруки продолжает властвовать и калечить людей.
– Наверное, внедрение понятий «успешность» и «успешный человек» нынешними законодателями мод, теле– и радиовещателями (все ведь идет «в массы» именно от них!) и настойчивая ориентировка на эти понятия связаны с желанием окончательно утвердить, легитимизировать, как говорится, создавшееся неправедное положение («Пересмотра итогов приватизации не будет», – повторяет власть). Положение, при котором на общественной вершине оказались как раз те «успешные», чья «успешность» вызывает неприятие большинства в нашем обществе. И, тем не менее, пожелание быть успешным звучит как призыв во имя этого ничего не стесняться. Вы не ощущаете такое в самой атмосфере теперешнего бытия?
– Как не ощущаю, когда это сегодня в так называемых деловых кругах главное мерило деятельности? В кругу «успешных» совесть не в почете, она там – тоже отжившее понятие. До революции в России, как известно, было немало богатых фигур, в том числе с очень крупными капиталами. Но сидеть на этих капиталах тогда считалось все-таки неприличным. Конечно, приличия эти не всеми соблюдались, но в таких случаях и отношение к скупердяям было соответствующее. Но в каждом губернском городе и в каждом уездном, будь то Сибирь на всем ее протяжении, Русский Север, центральная или западная часть империи, – всюду состоятельные люди считали необходимым заниматься благотворительностью и давать деньги на бедность, на храмы, больницы, училища, музеи, библиотеки, театры. В 1887 г. былая столица Сибири – Тобольск справлял свое 300-летие. К тому времени Тобольск был уже отодвинут от магистральных путей, и имя его потускнело. Благодарное сибирское купечество, отдавая дань заслугам отца сибирских городов, выстроило в Тобольске прекрасный музей и украсило его полотнами великих мастеров. Первый в Сибири университет в Томске, основанный в 1880 г., был выстроен в основном на пожертвования промышленников. Огромный вклад в его строительство и приобретение для университета библиотеки В.Жуковского в 4,5 тыс. томов вложили знаменитый меценат, промышленник и ученый А.М. Сибиряков, его младший брат Иннокентий Михайлович. Да и благотворительность в Москве: Третьяковская галерея, Румянцевский музей и библиотека, Бахрушинский музей, Голицынская больница и многое-многое иное получали имена своих создателей и покровителей. Может быть, и среди нынешних толстосумов водятся меценаты: на храмы, слышно, дают, но случается это редко и участвует в этом, похоже, не голос совести, а «голос имиджа».

– Есть и еще одна сторона этой темы: внедряемое понятие «успешность» отделено от другого понятия – «труд». Мало того, даже ему противопоставляется! Недавно был поражен, увидев в метро следующую рекламу: «Хватит работать – пора зарабатывать! Освой профессию «трейдер» на финансовых рынках». И тут же, рядом, – радостное лицо в другой рекламе: «Я зарабатываю на разнице курсов валют». Указаны адрес и телефон, где этому научат… Подобная реклама мелькает все чаще. На мой взгляд, это разрушение здоровой трудовой морали. Если раньше человек сызмальства воспитывался в уважении к общественно полезному труду как единственному способу заработать – материальные ли средства, достойное ли положение в обществе, то к чему зовут нынче? Зарабатывать, не работая… Во что же выродится общество, руководствуясь такими призывами?
– Здоровая трудовая мораль у нас давно уже разрушена, 90-е годы погребли под собой много чего из общество– и государствосодержащих понятий нравственности и здоровых взаимоотношений. Возвращать их непросто, да и никто, похоже, этим не занимается. «Хватит работать - пора зарабатывать» – подобные лозунги уже годы и годы кружат головы молодых людей. На этой стезе они и норовят устроить свое благополучие. И почему власть на публичное разведение таких «грызунов» взирает равнодушно, понять нельзя. Почему не контролирует рекламу, особенно в метро, где каждый день она лезет в глаза миллионов и миллионов, половину из которых заставляют согласиться, что так теперь и должно быть, как предлагает реклама. Не говоря уж об улице. Прошлым летом по всей Москве красовалась «аккуратная», однако же откровенная «художественная» реклама однополой любви. И ничего – деньги сокрушают все, всякую мораль и всякую преграду. А во что превращается общество, руководствуясь подобными призывами, мы уже и теперь наблюдаем воочию…
– Во все времена, конечно, были люди, ухитрявшиеся много иметь, не работая. Было узаконено и богатство меньшинства, живущего за счет труда большинства. Но давайте вспомним заповедь Христова апостола: «Не работающий да не ест». В первой Советской Конституции она была записана фактически дословно: «Кто не работает, тот не ест». Это стало одной из основ государства. Недаром появилось и почитаемое звание – Герой Труда. Все-таки какие бы огромные издержки и проблемы ни пришлось тогда пережить, а человек труда, как правило, действительно был окружен в обществе уважением и почетом. Он становился героем книг, фильмов, спектаклей… А что теперь? Кто теперь герои на телевидении и в глянцевых гламурных журналах? Кого здесь воспевают и чьи хоромы во всех ракурсах показывают? Согласитесь, тех самых «успешных людей» – будь то олигарх, финансовый воротила или попса», шоу-бизнес в лицах, набивших уже всем оскомину. Но разве такое безумное внимание к этим персонам – дань труду и подлинному таланту?
– Мы с вами ломимся в открытые двери. Эти двери бесчинства и вседозволенности давно нараспашку, а мы никак не хотим с этим смириться и все проверяем, не вступил ли в силу спасительный закон, который преградит им, то есть бесчинству и вседозволенности, преступный путь. Нет, не вступил. А если бы и вступил, толку от него все равно было бы мало. Законопослушания быть не может, когда в обществе царит безнравственность. Горбачёвско-ельцинская «революция» действовала не только против коммунизма как идеологии и форм собственности, но и против тысячелетней России с ее нравственными правилами, традициями, вековечными народными обычаями и культурой. Народ как единое целое распался и превратился в население. Государство ослабло, доверие к нему упало. Бешеное богатство одних и распоследняя нищета многих подорвали доверие к власти. Отечественное образование, лучшее в мире, как показала история, было с невиданным нахальством отвергнуто и превратилось в замысловатые загадки, с которыми ни учителя, ни ученики справиться не могут. Средства информации во все 90-е годы были агрессивно чужеродными и «полоскали» родное на чем свет стоит. Они и теперь не очень изменились. Все перечислять – слишком долго да и не нужно. Вот и получили то, что имеем. Правда, вернулась вера, вновь дозволенная в годовщину Тысячелетия крещения Руси. С той поры тысячи и тысячи храмов дружным звоном сзывали на службу во всех городах и во многих весях страны. В праздничные дни храмы переполнены. Если говорить о надеждах, возлагаемых по прежним понятиям на народ, то надежда прежде всего на верующих. Это, я думаю, сейчас сердцевина, из которой в нравственной, духовной и тысячелетней ипостаси может очнуться народ. Но сердцевина пока, как мне представляется, несколько замкнутая: верхи нравственные законы почитают мало, а низы по своей удрученности нередко уже ни во что не верят.
– Недавно услышал в телепередаче рассуждение о новогодних «Голубых огоньках». Ведущая с нескрываемой брезгливостью обронила, что, дескать, в советское время сидели за столами всякие там передовики производства, и приходилось по бумажке их представлять. А ныне, мол, Пугачеву и Галкина знают все. Но вот что интересно: когда показали кадры старой хроники, в студии «Голубого огонька» возник не кто-нибудь, а Ю.Гагарин! Гагарин и Галкин все же величины несопоставимые. Между тем происходит вытеснение, замещение одних общественных авторитетов другими. По какому же принципу? Что в основе? Каковы истоки этой нынешней успешности популярных медийных личностей, чья популярность изо дня в день всячески раздувается?
– Ох, о телевизионных «Голубых огоньках» и прочих подобных передачах лучше не вспоминать! Они давно уже превратились в отвратительную клоунаду, которая многим и многим портит праздничное настроение. Не всем, конечно, – уже воспитано поколение, с восторгом принимающее хамство, безвкусие и неприличие. И разве можно сравнить прежний «Голубой огонек» с теперешним? Тогда были высота, красота и величие и в исполнении номеров, и в фигурах именитых гостей да и во всей обстановке праздника. А теперь – балаган, выспренность и красование пошлости – особенно в среде исполнителей. Пугачеву и Галкина, конечно, знают все. Но знают в последнее время все больше по скандалам. Успешность, не ведающая нравственных границ, без этого не обходится и «подмочит» любой талант. Недавно в прессе прошла информация о том, что в США расследуют дело о финансовых махинациях в Америке Галкина. В России, надо думать, не посмели бы уронить тень на любимца публики, а там, за кордоном, с этим иногда не считаются. Вы спрашиваете, каковы истоки неслыханной популярности одних и тех же медийных личностей? Истоки в захвате искусства и его присвоении. Кто в этом участвует – «наши», это высшая мера таланта и успеха, на них работают и пресса, и радио с ТВ, им благоволит власть. А «не наши» в тени, более того – в опале. Каждый спектакль МХТ им.Чехова или Ленкома – это громкое, чрезвычайное событие, а на новые работы Горьковского МХАТа или Малого театра – редкая информация сквозь зубы. Горько вспоминать, как власть осчастливила вниманием Т.Доронину, великую актрису нашего времени…
– Пожалуй, Валентин Григорьевич, вам ближе всего должна быть тема успеха в лит. творчестве. Вспомнились мне строки Б.Пастернака
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Не успех! Действительно, было бы странно сказать, что Пушкин или Есенин – успешный поэт, Достоевский или Шолохов – успешный прозаик, а Островский или Вампилов – успешный драматург. Но сегодня, если с помощью всемогущего пиара любая бездарность может быть возведена чуть ли не в гении (и возводится!), здесь тоже критерии основательно сбиты. Значит, деньги и тут оказываются сильнее таланта и труда? Что вы думаете об этом?
– Конечно, так оно и есть. Прекрасные слова вспомнили вы у Пастернака, совсем в точку успешности теперешних знаменитостей. Именно: ничего не знача, умеют поднять вокруг себя чуть ли не вселенскую шумиху. Но Пастернаку в его целомудренные времена, должно быть, и в голову не могло прийти, что творческий успех можно устроить и искусством безнравственности и пошлости, искусством, как говорилось прежде, «низких истин», что сейчас вволюшку и происходит. Да только вот в чем конечная справедливость. Ни одна из знаменитостей этого рода ни из эпохи Пушкина и Достоевского, ни из эпохи Шолохова и даже Вампилова в памяти не осталась. Сгинули все вместе со своими творениями. Можно ли служить одновременно Богу и мамоне?
– Сейчас непросто разобраться во всех хитросплетениях финансово-экономического кризиса, все более охватывающего ныне мир. Но одну из причин называют нередко: жизнь не по средствам, необеспеченность акций реальным производством, виртуальные финансовые операции, потерпевшие крах. Стало быть, как я понимаю, «делание денег из денег», зарабатывание без истинной работы в конце концов приводит к определенной расплате.
– Уверен, что так и есть. Кризис в России если не устроили, то сильно усугубили олигархи, владеющие львиной долей национальных богатств. Их бешеные доходы, судя по всему, на Россию работают скромно, а продолжают переводиться за границу – в ценные бумаги, спекулятивные операции, дорогую недвижимость. Да и в движимость тоже – в виде морских, воздушных и сухопутных судов. Нам, бедным, и не представить, во что еще. Теперь уже не арабские набобы удивляют мир своим расточительством, а российские. Ведь не пострадал же так сильно от кризиса, как мы, Китай, где государство оставалось хозяином положения и контролировало движение экономики в национальных интересах.
– Культ «успешности», насаждаемый у нас нынче, – это, по-моему, не только изыск пропагандистов новорусской действительности. Тут и глубинные, уходящие в религию корни. Но не в православие, конечно, а в иудаизм, в протестантизм, где именно успешность признается знаком богоизбранности. Если ты успешен, значит, тебя любит Бог. Ну а если неудачник, слабый, больной, увечный, стало быть, неугоден ты Богу и должен пребывать изгоем. В православии все иначе. Здесь – сочувствие к бедным, униженным и оскорбленным. Это, может быть, и наша национальная черта. Гоголь написал: «В русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетённого». Толстой бесконечно мучился, признаваясь в своем дневнике: «Все больше и больше почти физически страдаю от неравенства: богатства, излишеств нашей жизни среди нищеты; и не могу уменьшить этого неравенства. В этом тайный трагизм моей жизни…» А вот нынешний олигарх С. Полонский провозглашает на газетных страницах: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж…» Что же, нам хотят внушить, что верны не трагические ощущения Толстого, а цинические установки этого самого Полонского? Хотят убедить, что «успешность» любой ценой искупает и покрывает все на свете, а разительное, чудовищное, несправедливейшее неравенство – норма? Но ведь надо напомнить евангельское: «Не можете служить Богу и мамоне».
– У нас раз за разом хозяева страны повторяют, что пересмотра приватизации не будет. А не будет, так заставьте сверхбогачей считаться со страной и народом, которых они ограбили, не позволяйте им унижать порядочность и бедность. Конечно, за хамские высказывания этого Полонского в суд не потянешь. Но и проглотить их как остроумную «милость» с барского стола было бы слишком унизительным. Слышно, что кризис ударил и по олигархам – их стало поменьше, и в их рядах произошла рокировка. Дерипаска теперь на 8-м месте, а номером первым завладел супермиллиардер, куршевельский проказник М.Прохоров, ныне владелец самой дорогой в мире виллы на Лазурном Берегу. В Куршевель, надо полагать, он больше не заглядывает, но нравы, утвержденные там, ныне вознеслись еще выше. Месяца 1,5-2 назад ТВ показало сцену, как в одном из куршевельских ресторанов российские кутилы, конечно, из клана породистых, отплясывают на столах с девицами чечетку под гимн России. «Неслабо?» – вопрошают в таких случаях остряки, когда действие переходит всякие границы приличия. Нынешний кризис – это, быть может, последнее предупреждение человечеству в тщетности и гибельности избранного пути. Это кризис не только экономики, но и культуры, нравственности, цивилизации, человеческого общежития. Кризис мирового порядка. Люди все тревожней оглядываются назад: где и когда сошли с наследованного пути и безопасного продвижения вперед? В чем ошибки и соблазны?
Сошлюсь на один уже широко известный факт. Недавно проводился телеконкурс «Имя Россия». Голосованием определялись имена соотечественников, сыгравших исключительную роль в судьбе России. Третью строку в этом конкурсе (мало кто сомневается, что после хитроумных усилий отодвинуть его туда с 1-го места) занял Сталин. В Германии в таком же конкурсе ту же 3-ю строку после Аденауэра и Лютера занял К.Маркс. Там и там результаты голосования произвели шоковое впечатление. Ну ладно, Россия – до сих пор «варварская страна», ей такие вожди, как Сталин, и требуются. Но Германия-то! Мало того – во всем мире огромными тиражами сейчас издается и покупается «Капитал» Маркса. Совсем не слабые головы вынуждены согласиться, что хищнический капитализм – совсем не тот порядок, который нужен человеку, и что справедливости в нем быть не может. Но если Западу потребовалось несколько столетий, чтобы убедиться в ошибочности своего пути (это не значит, конечно, что теперь от него тут же откажутся), то России хватило и двух десятилетий, чтобы обнаружить себя в капкане мирового порядка и вспомнить о Сталине. Народ наш, быть может, и ошибается в способах своего спасения, но он не может не видеть, не чувствовать, не испытывать на себе, что капитализм с его хищническими законами и нравами ему не годится.
С В.Распутиным беседовал Виктор Кожемяко
24.03. 2009. Православие.ру
http://www.pravoslavie.ru/smi/37363.htm
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 18 Мар 2015, 20:01 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | ДОЛГИ НАШИ. ВАЛЕНТИН РАСПУТИН - ЧТЕНИЕ СКВОЗЬ ГОД
В книге о Валентине Григорьевиче, вышедшей в “Советском писателе” в 1992 г., я остановился на пороге надежды, оставив своего героя в размышлениях о духовной русской истории, о церкви, уверенный, что он услышит голос не в уличном мире таящегося единства. На тот час мне казалось, что он прошел путь от полноты целостного “естественного” деревенского мира, разрушенного на наших и его глазах при стремительном начале перестройки, к полноте уже нового мира, созидаемого тоже на глазах из нами же сотворенного хаоса умом, любовью, памятью и верой. А только теперь видно, что и это был самообман. Уловка усталого сердца и прячущегося от себя сознания. Душа искала света и была рада обмануться. А между тем, какой свет, когда в этом самом начале 90-х еще вихрем крутилась полит. жизнь. И мы все еще были втянуты в этот вихрь. Новости и заседания Верховного Совета гляделись и слушались с жадностью обезвоженной души. Но уже день ото дня было виднее, что истина попала в переплет красноречия и должна была неизбежно пропасть в этом опасном переплете.
“… разлилась как море благодетельная гласность… закишели бессчетные иксы и зеты с жалобами друг на друга в газетах и повременных изданиях, явились поэты, прозаики, и все обличительные…”
Эта матушка-гласность разлилась так во времена Достоевского, в дни, которые нашим архаическим мечтателям, живущим с головой, повернутой назад, могли казаться примером национального здоровья и поучительной крепости: как же - святые 60-е, Александр Освободитель принимается за реформы, церковь незыблема. А только перепиши тогдашние сетования Федора Михайловича до слова (“материальные побуждения господствуют над высшей идеей, дети воспитываются без почвы вне естественной правды, в неуважении или в равнодушии к Отечеству и в насмешливом презрении к народу, так особенно распространившемся в последнее время”) и увидишь, что и менять ничего не надо, вплоть до этого тяжелейшего “особенно в последнее время”. Только “повременные издания” потеснились более расторопным телевидением. А так словно Федор Михайлович в наше окно выглянул - заело пластинку нашей истории - ни с места. Собственно из-за этого я ушел в первой книге от разговора о Президентском совете - не хотелось травить сердце. Но думаю, что два слова все-таки надо было сказать, ведь как хотите, а это веха: из “деревенских писателей” - в Кремль, в советники первого лица государства. Задумаешься. Тем более тогда еще вера-то в серьезность преобразований не была пущена в окончательный цветной туман. Страшное его ждало разочарование. Но он должен был пройти этот путь, иначе мы бы не поняли его и не поверили его правде.
Он и в депутаты не хотел идти, не любил публичности. Съезд писателей, избиравший его, настаивал. Он упирался. Но когда какая-то либеральная журналистка поощряюще попросила его: вы порешительнее, понастойчивее отказывайтесь, - это решило дело. Он вдруг увидел, что для кого-то он враждебная сила, и принял вызов. А уж Президентский совет и вовсе был как будто случаен. Они с В.Беловым шли в ЦК к Лигачеву, отвечавшему тогда за Сибирь, с очередными байкальскими заботами. Но там их уже ждала просьба подняться к “Самому” Поднялись. Василий Иванович, не удержавший тугую пружину двери, тотчас заметил “Самому”, что обессилевший на нынешних харчах русский крестьянин сегодня и дверь в их кабинет не откроет. Горбачев только хмыкнул, а уж Василий Иванович доставал из кармана книгу И.Солоневича “Народная монархия”, еще чужого, буэнос-айресского издания, и спрашивал: читал ли ее Михаил Сергеевич? Тот извинялся, что нет, что дела не пускают. “Надо читать!” - строго сказал Василий Иванович, и книжка была тут же назидательно вручена.
- Ну, уж раз разговор пошел так директивно, - улыбнулся Михаил Сергеевич, - может, вы мне подскажете, кого из писателей предложить в Президентский совет, который мы сейчас создаем?
- Как вам не стыдно? - опять серьезно сказал Василий Иванович, который вообще в делах государства не шутил.
- Что опять такое?
- Да вот перед вами стоит, может, последний совестливый человек в вашем Совете народных депутатов и вы при нем спрашиваете: кого?
Теперь уж и Распутин рассмеялся. Тут же байкальские дела, с которыми шли, решили и забыли разговор о Совете. Но это Распутин забыл. А Горбачев - нет. Через неделю последовало новое приглашение в ЦК.
- Ну, как, надумали?
- Что?
- Совет-то.
Писатель наотрез отказался. Он уже видел политику вблизи и цену таких советов, декоративность их предчувствовал. Ну, и там заупрямились - не привыкли к отказам. И еще через неделю к нему в номер гостиницы “Москва”, где жили тогда депутаты во время съездов, Горбачев явился сам со своим замом Лукьяновым и другими высокими чиновниками.
- Решились?
Распутин стоял на своем. Тогда Горбачев резко сказал: “Значит, правительство будет вытаскивать Родину из ямы, а вы в белых рубашечках будете только разносить его с трибуны? Удобно!”
Прием был хорошо рассчитан - это они умели. Чиновники смотрели с праведным гневом. Тут уже не согласиться было нельзя - потом бы они этой “белой рубашечкой” наигрались. А я, узнав тогда об этом избрании Распутина, стыдно сказать, обрадовался. Зараза времени проникла в меня глубже. И все ободрял его, что надо извлечь из Совета необходимую выгоду. Что зачем-то работала великая русская мысль на переломе XIX—XX вв., зачем-то обдумывала, словно впервые, Родину свою - ее философию, ее веру, ее экономику. И блестяще формулировала обдуманное в работах отцов С. Булгакова и П.Флоренского, в книгах того же И.Солоневича, И.Ильина, В.Розанова, С.Франка, Г.Федотова, опережая даже и лучших и совестливых депутатов, пытавшихся что-то увидеть в осыпи на глазах распадающейся страны. И не пора ли, мол, поставить на Совете (для чего он и создан) вопрос о создании Института русской мысли, чтобы осмотреть этот опыт и извлечь лучшее для рекомендаций правительству, для впервые сильного, умного, национального выхода России из нового перелома. Бедные утописты!
Созданный в марте 1990 г. Совет уже в ноябре был распущен. И распущен самим Горбачевым без всяких объяснений. Ведь не считать же объяснением, что он-де, выполнил свою функцию - какую? Ширмы, игры, прикрытия? Ведь ничего, ничего не было не только сделано, а даже предложено. Поиграли - и довольно. Там не любят советов, тем более советов настоящей мысли, потому что она требует духовного труда. И не внешней, картинной, а внутренней перестройки - духа и воли, веры и правды. Она тишины требует и общенародного напряжения. А уж они, митинги, полюбили “народный плеск и ярый вопль”, цену которому знал уже Пушкин. Только одно и успел сделать Распутин за этот срок, однажды уступив просьбе Горбачева выступить на очередном съезде депутатов и как-то удержать стремительный распад страны.
Он “развалил Союз”, как потом перетолковали его речь на съезде не только враги, но и многие из друзей. Он сказал тогда, что Россия сама может заговорить о суверенитете и не удерживать более Советский Союз. Я знал эту мысль. Мы говорили о ней в 1989 г. у него на Ангаре. Мы, наверное, все тогда искренне верили, что стоит России заикнуться об этом, как малые государства, как испуганные цыплята, бросятся к наседке, которая всегда была их спасением. Мы только забыли, что цыплята-то уже успели отравиться полит. честолюбием, общим митингом, мутной водой, в которой ловилась минутная слава и не минутная власть. Забыли, что до государства уже никому не было дела, что эгоизм уже пророс в человеческом сердце.
Развал уже был приготовлен, и остановить его ничего не могло. Один Н.Рыжков еще бился в правительстве, но на все его - что вы делаете? понимаете ли вы, что вы делаете? - уже было готово хорошо работавшее тогда оружие - захлопывание. Стенка на стенку. Одни захлопывали Сахарова, другие Рыжкова. Не до истины. Пьянство власти. Общая потеря рассудка. В глубине сердца он был рад, что Президентский совет закрылся. Еще одной иллюзией стало меньше. Потом, правда, было еще “Письмо к народу”, которое он подписал вместе с другими людьми, из последних сил верившими, что народ еще есть, что он еще сила и что зрение его чисто, а совесть незыблема. Забыли, что народ уже сидит у телевизора и, как ехидно заметил позднее В.Пелевин, давно узнает то, что он думает, из этого самого телевизора, который ему мать, отец и окно в Россию. И она, эта “новая Россия”, кричала на Распутина после этого “Письма” и в Москве, когда на Красной пл. было недалеко до физической расправы, и даже дома, на Ангаре. Властное пьянство легко заражает народ, скоро переделывая его в толпу. Сейчас тогдашние хроники и глядеть без стыда нельзя: толпа, толпе, толпою, о толпе…
К столу, к столу надо было бежать. Больше некуда. Да только что делать за столом-то? Чтобы писать прозу в такие дни, надо примкнуть к “сплошь обличительным иксам и зетам”, над которыми смеялся Достоевский, или умолкнуть. Проза живет только при ясном понимании духовных границ, при их нерушимости для национального самосознания. А мы по его “Пожару” помнили, что граница между добром и злом, правдой и ложью была затоптана еще при начале наших гибельных преобразований. Значит, надо было умолкнуть. Но, умолкая, как прозаик, он не мог оставить пера, потому что какой же он был бы тогда русский художник? И он ушел в духовную и полит. публицистику, взялся за санитарную работу по восстановлению основных понятий, за охрану теснимых границ. (“Время и бремя тревоги”, “Россия уходит у нас из-под ног”, “Что в слове, что за словом?”, “Из огня да в полымя”.) Он писал эти горькие и жесткие статьи не только для правильного человеческого устроения, но и для прозаика в себе, для возвращения человека в естественную систему координат. Для очищения “духа народного от духа бесовского”, как о другом времени, говорил Н.Бердяев, чтобы (если продолжить бердяевскую цитату) сохранить идею народа, замысел Божий о нем и “после того, как народ пал, изменил своей цели и подверг свое национальное и государственное достоинство величайшим унижениям”.
Надо было снова называть то, что еще недавно считалось естественным и общеизвестным, да вдруг затянулось злым туманом. Только оказалось, что одной (и очень хорошей) публицистикой человека не убедишь, что человеку нужно зеркало поболезненнее. И вот спустя чуть не 10 лет после “Пожара” (сколько времени было отнято у художника безумием времени, и время не догадалось, что оно обворовало себя) Распутин отвыкшей рукой начал понемногу писать нынешнего сбившегося человека. И его, и наше зрение за эти годы успели перемениться, и мы не сразу узнали его. Показалось, что рука его слишком ослабла и не пересилит отяжелевшего времени, не ухватит хамелеоновского, научившегося ежеминутно меняться лица этого времени. Публицистика даром прозаику не проходит, она изостряет зрение, но исподволь приучает к языку формулы, открытому столкновению идей, наконец, просто к немедленному и прямому выговариванию беспокоящих мыслей. До характеров ли, когда возмущенное сердце гонит к столу сию минуту? Худ. форма мнится роскошью, когда гибнет мир - напоминать ли горькую иронию Достоевского по поводу Лиссабонского землетрясения и фетовского “Шепота”? Вполне поэтому естественно, что по возвращении к прозе в рассказах “В одном сибирском городке”, “Сеня едет”, “Россия молодая” нетерпение публициста еще теснило художника и ослабляло напряжение текста. Но вместе с тем сразу делались очевидны преимущества, хотя бы и оробевшей, потерявшей прежнюю властность и вчера еще “излишней” худ. формы.
Все, что казалось известно читателю по сотням накинувшихся тогда на него публицистических статей русских писателей разного толка, что было известно ему по собственному тяжкому опыту, опять наполнялось жизнью и поворачивалось иной гранью и непонятным образом делало нашу душу увереннее и сильнее, как будто разделившие с нами свою боль герои помогали и нам стать менее одинокими и уязвимыми. Критики опять кинулись было брюзжать об излишней политизации сюжетов, но уже и сами чувствовали шаткость прежде как будто справедливой аргументации, ибо видели, что художник вернулся в реальность, которая была насквозь поражена прямой или косвенной полит. борьбой. Жизнь оказалась отравлена снизу доверху, и деревня в этом уже не уступала городу, так что Сеня из рассказа “Сеня едет”, надумавший у себя в деревне разобраться с телевизионной похабщиной и для этого отправляющийся в Москву, в способе мысли оказывался вполне равен министерскому работнику Алексею Петровичу из рассказа “В больнице”. И, сведи их судьба, они, пожалуй, почти и не разнились бы словарем, потому что, увы, и словарь формировался теперь общим мертвым учителем - вошедшим в генетику телевизором, который можно изрубить, выкинуть вон, утопить в колодце, но он достанет тебя в речи соседа, начальника, продавца, трамвайного попутчика. Укорять писателя за то, что его герои кричат то же, что лучшие или худшие (в зависимости от мировоззрения читателя) газеты и телепрограммы, - значит только считать литературой что-то вообще не имеющее отношения к кипящей на улице жизни.
Нет, теперь уже написать человека вне этого горячечного спора всех со всеми - значит просто оболгать жизнь. И если против чего и возражаешь, то не против самой политики, а против поспешности в выборе правой стороны. Против попытки обмануть тебя слишком короткой правдой, прибегая для этого к почти беззащитному в открытости насилию над реальностью как, положим, в помянутом рассказе “В больнице”, где утомленный безысходностью герой поневоле подслушивает молодых людей, которые борются за новую справедливость и подкрепляются для этой борьбы слушанием кассеты иеромонаха Романа, призывающего в храм, пока звонят колокола. Понятно, что этот новый молодой герой, продолжающий правду старого больного Алексея Петровича, вызван к неотчетливой своей, пока совсем книжной жизни усталостью писателя, естественной его потребностью на кого-то опереться, ободрить душу. Но жизнь не прощает лит. рецептов и не живет ими. Надуманный оптимизм неизбежно оказывается опаснее мужественного и в определенных условиях более перспективного пессимизма.
Кажется, все первые рассказы, начиная с “В одном сибирском городе”, где под омоновские пули захвативших власть негодяев идут и идут, сменяя друг друга, старые и молодые люди, потому что не погибать уже нельзя, потому что жизнь по лжи становится тягостнее и неправеднее смерти, - все эти первые после 10-летнего молчания рассказы искали выход в умозрительной стороне и обнаруживали все ту же чистую душу писателя, но уже подернутую, как пеплом, усталостью, готовую сдаться пусть придуманному, только бы ободряющему финалу. Или это мне по своей усталости так кажется, а он как раз этими финалами сопротивлялся общему утомлению, крепил сбившуюся душу читателя, не позволял ему покориться насилию, напоминая о дорогих национальных резервах, о традиции и воле, о любви и единстве. Бывают дни, когда такой способ сопротивления важнее и действеннее безупречно написанного реального разложения и по-божески уважительнее к человеку и важнее для него.
Хотя, конечно, отговорки все это. Сам я вот тоже успокоения искал и хоть какого-то света. Но оказалось, что придуманным светом не согреешься и не осветишься. И сочиненной правдой сердца не укрепишь. Но как школа, как опыт освоения новой реальности это было необходимо, и мы все равно рвались к его рассказам и ждали, ждали их, потому что тут и боль и даже прямая мораль были наши. Наше желание понять новое через старое. Или таким наивным образом привить новому дорогое старое. Пусть бы только художник не сдавался и не оставлял нас, делил с нами свои тревоги, и даже в слабости все-таки крепил нас, потому что, если молчат совестливые художники, их место в литературе занимает расторопная братия поставщиков чтива, торопливо разоряя и то малое, что еще остается от высокой традиции, потому что традиция отменяет их право на существование. И, слава богу, писатель подталкивает, перемогает себя, вспоминает Господне “задание на жизнь” и все чаще возвращается к выполнению этого “задания” уже не публицистикой, а прямым худ. служением. И вчитывается, вчитывается в грозно наступающую новость жизни, как в рассказе “Женский разговор”, тоже еще неуверенном и сбивчивом, но уже нет-нет выказывающем прежнюю руку. Снова его героини, как и в большинстве прежних сочинений, - женщины. 16-летняя Вика, чьим школьным аттестатом стал аборт, и ее деревенская бабушка Наталья. В бабушке легко угадать всех прежних бабушек Распутина с их целомудренной ясностью и земной полнотой понимания мира. А вот Вика уже новость, это уж следствие той жадной поспешности жизни, которая явилась сегодня. На первый же несмелый укор бабушки и напоминание, что жизнь надо бы начинать почище, Вика обрывает ее:
“ - Что ты мне свою старину? Проходили.
- Куда проходили?
- В первом классе проходили. Все теперь не так”.
Тут даже и Андрей из “Матёры” с его торопливостью отстает. Именно так - в 1-м классе теперь проходят эти науки. Если телевизор не будешь смотреть, одноклассники расскажут и покажут. Андрей-то разве спешил? А тут некогда ждать - тут надо в "лидеры" выходить, “целеустремленность” демонстрировать. Только уж цель не Андреева - посвободнее. Не зря старуха Наталья находит сравнение с гончей: “Дадут ей на обнюшку эту цель… она и взовьется. И гонит, гонит, свету невзвидя и гонит, гонит. Покуль сама из себя не выскочит”
Долгим бережным рассказом о любви старухи писатель надеется вернуть Вику “в себя", вправить этот безумный вывих. И не знаю, достучится ли. Девочку ничего уже не смущает - она у бабушки с детским цинизмом “способы” выпытывает и, кажется, уже не понимает бабушкиного языка, когда та с чудной чистотой и застенчивостью вспоминает самое интимное: “… угаданье друг к дружке должно быть. Как любиться, обзаимность учит. Тяготение такое… Когда он прикасался ко мне… струнку за стрункой перебирал, лепесток за лепестком. Чужой так не сумеет”. Доскажет бабушка свою историю, и Вика уснет - поняла ли, разгладилась ли душой - Бог весть. Писатель не торопит с моралью в надежде, что не эта девочка, так другая, повнимательнее, поймет и услышит, не даст победить себя поспешному знанию с 1-го класса. В напечатанном тогда же в “Нашем современнике” “Манифесте” Распутин писал, что “либерально-криминальная революция… столкнула Россию в такую пропасть, что народ еще долго не сможет подсчитать свои жертвы. В сущности, это было жертвоприношение народа, не состоявшееся по плану, но и не оконченное… Наступила пора для русского писателя вновь стать эхом народным и небывавшее выразить с небывалой силой, в которой будут и боль, и любовь, и прозрение, и обновленный в страданиях человек”.
Вика уже была такой жертвой, но еще не было в усталом писателе “небывалой силы” - слишком изранено сердце и утомлена душа. Эти силы возвращаются медленно, но неуклонно.
Вышедший следом за рассказом “Сеня едет” рассказ “Нежданно-негаданно” свидетельствовал, что писатель уже исподволь возвращался к своему делу в прежней силе и мощи. И если мы не сразу узнавали его слово и высоту его строя, то лишь потому, что слишком нов и слишком бесчеловечен материал, чтобы описать его прежним, как будто уже всесильным пером. “Либерально-криминальная революция” успела надругаться над жизнью в таких формах, что боль и страдание перевешивали в сердце худ. заботы. Не было в народной жизни ничего похожего, и она не успела вооружиться новым защитным словом, не умела подыскать “средства” освоения того, чего не хотелось осваивать. Но и не желая того, она должна была уже по самой профессиональной честности готовить силы худ. сопротивления. Уже ясно, что жизнь только начинает разрабатывать новые “сюжеты” и не скоро остановится. И он стремительно нагонял ее. Вон как хорошо, как любяще, как старинно-сильно, хочется сказать “играючи”, пишет Распутин начало рассказа, пока давний его герой Сеня собирает своих односельчан и коротает время до парохода. И свет, и ирония, и озорство можно обмануться, что жизнь вернулась “домой”. А только мы уже увидели беспокойным взглядом -женщину с малой ангельской девочкой, мающихся в сторонке, и уже чувствуем неладное. А когда Сеня вспомнит, как эта красивая девочка вчера не просила, а профессионально получала милостыню в городском торговом центре и как укорила его: “Дядя, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете”, - то станет окончательно ясно, что добром это не кончится. И скоро Сеня услышит: “Купи девочку… а нет, так хоть так возьми”.
И завернется немыслимый сюжет - он увезет маленькую Катю в деревню и постарается вернуть ее к обычной детской жизни. И окаменевшее в нищенской службе лицо девочки начнет расправляться, но мы вместе с Сеней все тревожнее будем поглядывать на реку и ждать окончания навигации - осталось три парохода, два… Господи, только бы никто за ней не приехал!
Но чудес не бывает, и Сеня увидел их - крепких “хозяев” девочки, выведавших ее укрытие. Он еще пытается устоять: “- А почему ты думаешь, что я тебе ее отдам? - спросил он, стараясь сдерживаться, не закричать и невольно шаря глазами по двору - где что лежит…
- А как бы ты это не отдал, ворованное?..
- Если ворованное - давай в суд! - закричал Сеня, не в силах больше сдерживаться. - В суд давай! И там посмотрим, кто украл!
- Можно и в суд, - лениво согласился приезжий. - Да долго… Расходы тебе. Давай уж как-нибудь сами, своим судом. - И коротко добавил: - Давай без жертв.
- Ты меня не пугай!
Саня обмер: вышла Катя. Она не вышла, а выскочила из избы, куда-то торопясь, вдруг запнулась и закачалась, стараясь установить себя. Сеня смотрел в ужасе: точно волшебная злая пелена нашла на нее и сошла - перед ними стояла другая, до неузнаваемости изменившаяся девочка. Лицо еще вздрагивало, еще за что-то цеплялось, но уже окаменевало…
- Никуда она не поедет!..
Подобие виноватой улыбки мелькнуло на лице Кати.
- Как же бы я не поехала? - тихим голоском, стоившим многих разъяснений, сказала она. - Что вы?”
Все оборвется страшным криком привыкшей к девочке Сениной жены, от которого не защититься ни Сене, ни нам с нашей растерянностью, - как это разгулявшееся зло может вот так безнаказанно ломать детскую жизнь? Да и нашу, нашу жизнь, ведь мы тоже уже привыкли к девочке и надеемся, что жизнь непобедима, что добро еще добро и что оно всесильно. Подосадуешь было на писателя, что не смог найти другого финала. А успокоишься и увидишь, что нет его и у жизни - этого другого финала, потому что “жертвоприношение не окончено”, что “революция” еще длится и беззаконие еще косит самые беззащитные души, потому что, как говорит пытающаяся спасти девочку и знающая, что никуда не денется, женщина: “Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые, волки и овцы”.
И волки, конечно, пока режут овец. Режут, режут - губернаторов, банкиров, просто совестливых чиновников - “жертвоприношение свободе не кончено”.
Читать “Нежданно-негаданно” было мучительно. Хотелось остановиться раньше, обмануть себя, что все обойдется - как же: “правовое государство”, “гражданское общество”- мы все это уж вызубрили и почти поверили. Но мы слишком хорошо знаем Распутина - он себя обмануть не даст. По самой мускулатуре рассказа уже было до тоски, до любви, до благодарности, до отчаяния очевидно, что он, расчетливо и умело освистанный противниками, торопливо сосланный в навсегда прошедшее, перемог и капитуляцию “своих, и “чистое искусство” чужих. Это был опять его горький голос, который мы знали давно и который уже ни с чем спутать не могли. И голос этот от рассказа к рассказу наливался прежней силой, пока не прозвучал так полно и грозно, что уже не могли не услышать и самые глухие недоброжелатели. Явился рассказ “В ту же землю”. Пересказывать нечего. Кто не читал - не передашь. А кто читал - каменно замолчит и постарается увести разговор в другую сторону, чтобы не рвать сердца. И комментировать нечего.
Дочь зарывает свою успокоившуюся вдали от родной деревни мать тайно, воровской дождливой ночью в грязном пригородном лесу, потому что по-человечески ей мать не похоронить - не на что. Да и не может она пойти туда, к ним, потому что там для нее уже все чужое и они - только враги. И ничьему суду Пашута (была и Пашенька, Паша, да вся за последние годы вышла) неподсудна: и люди ей уже не в укор, и перед Богом она прятаться не станет. Правды не наскребла, но и неправоты не видит - так жизнь повернулась, что пришли они, которых она воспринимает как плату за какой-то свой недогляд, за то, что прожила вместе со всеми как-то наспех, без полной памяти и внимания и, значит, заслужила их. Крепкая баба Пашута, не согнешь - “ноги больные на колени падать, и спина не гнется”, но, кажется, и сама она уже мертва. Все “достойное памяти было давно". Там, в минувшем, была жизнь, а тут только пересменок какой-то, затянувшаяся пауза, в которой старые законы не действуют, а новых не нажили. И кто ей действительно теперь судья и перед кем держать ответ?
“Господи, что это за мир такой, если он решил обойтись без добрых людей, если все, что рождает и питает добро, пошло на свалку?!”
Этот Пашутин вопрос так просто из себя не изживешь. Может, они, добрые-то люди, никуда и не делись, но мир избрал путь, при котором добрым стало быть стыдно, не прогрессивно, пережиточно. Разве что сделать из добра “акцию”, хватить ею во в“валюте”. И драгоценно и опять очень по-распутински, что характер этот женский. И вновь дивишься страшной проницательности писателя, выбирающего в герои не ум, не идею, а первоматерию жизни, где рассудок - дело десятое. И именно оттого, что Пашута не обдумывает жизнь, а как-то оказывается в ней, то счастливой молодой женщиной посреди комсомольской стройки, то одинокой старухой с приемной внучкой (а как жизнь изжилась, не увидела - все бегом), делает ее особенно убедительной. И это не для политики и идеи, а именно для жизни новые порядки и новые люди зовутся так отстраненно - они, как почти не имеющая названия темная сила, на которую нет управы, потому что она вне человеческих законов и поступить с ней можно тоже только не по-человечески. Не случайно Пашута делает свидетельницей страшных похорон и внучку - пусть учится, пусть принимает новую жизнь с порога, пусть видит, как повернулся и потерял себя мир даже в таком святом, единственно прежде неприкосновенном деле, как смерть. Не от жестокости это делает Пашута, а из милосердия, чтобы девочка набралась сил, не пошатнулась, когда ей придется жить среди них.
Опять писатель решился сказать что-то необычайно тяжелое, досмотреть происходящее до самого гибельного нутра, до той черной границы, от которой малодушный нынешний человек, живущий “на живую нитку”, бежит в надежде, что тьма писана не про него, что он спрячется за заботами дня, а зло в это время уйдет, как неверный туман. Когда Пашута по весне проберется в лес навестить тайную материнскую могилу, могил этих будет уже три. Только начни, и нить порядка жизни порвется, и зло потянет за собой новое зло. Довольно было и этого, но писатель не утерпел и снова, как в прежних рассказах, вписал эпилог, не удержался, чтобы не возвысить голос, и, конечно, опять сразу был укорен критикой. И знал о слабости эпилога, конечно, до укоров, а все-таки оставил. Почему? Я думаю, что сама жизнь воспротивилась в нем тому, чтобы такое понятное и неподсудное людям зло Пашутиного поступка было принято и оправдано. Сюжет ведь не выдуман. Он “только записан”.
Сколько их уже, этих тайных могил по Руси в лесах и собственных огородах! И вот само это неправедное отношение к смерти побуждает писателя не Пашуте, не тем несчастным людям, кто, как она, хоронил родных тайком, потому что не знал, на что похоронить явно, а им и нам сказать, что безнаказанно для народа это не проходит, что и сами эти ни перед кем не виновные люди уже не жильцы, что в них лопнула какая-то главная пружина и вывела их из порядка жизни. Нет, совсем не “в ту же землю” кладут они своих родных, а в какую-то совсем иную, где мертвые не будут встречены поколением прежде ушедших и тут же обок лежащих людей, что они разорвут эту небесную цепь, которой держится род и домашняя и национальная история. Народ, приведенный на такую грань, рискует навсегда перестать быть народом, в нем поселяется незримое зерно смерти - вот о чем кричит финал, вот что он хочет высказать во что бы то ни стало, не страшась упрека и прямолинейности. Есть обстоятельства, при которых лучше не дожидаться, пока жизнь поставит материал для худ. решения. Иногда лучше до таких “худ. даров” не доживать. И в “слабости” финала (да и без кавычек слабости) я все-таки слышу грозную силу и непоколебимую твердость прозаика, который охотнее поступится репутацией мастера, чем полнотой ответственности за духовную целостность человека.
После этого рассказа можно было сказать, наверное, - Распутин вернулся в литературу в прежней силе и встал на свое, так без него никем и не занятое место неуклонно совестливого свидетельства о скрытых тектонических сдвигах национального сознания.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 18 Мар 2015, 20:10 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | ИЗ ДВУХ УГЛОВ
Вероятно, я не прав, что пишу Распутина, словно он один в чистом поле. Словно только и было жизни, что его книги. А на дворе-то после его и всеобщего “пожара” не одно полит. кипенье, не одни несчетные выборы, обнаружившие в нас изобретательную низость, а и “выборы” литературные. Писательские союзы пошли делиться с детской поспешностью, торопясь за “взрослыми” циниками со своими “программами”: “бочку с салом или казака с кинжалом?”. Сад премий разросся, грозя превратиться в лес: букеры и антибукеры, национальные бестселлеры и “аполлоны григорьевы”, “триумфы” и “большие книги”. Это к старым-то - пушкинским, толстовским, бунинским, аксаковским, платоновским. Самые отважные уж рукописи на премии понесли. Журналисты не стали поспевать на все фуршеты. Эмигрантская литература вернулась, своя сделалась эмигрантской. Книг стало ежедневно издаваться больше, чем рождаться детей. Но разве это о нем и с ним? И разве это о той литературе и мысли, о которой мы думаем и говорим? Поверхностные воды могли нести, как во всякое половодье, все что попало. Глубинные течения, “матёры” при всех потрясениях шли своим мерным руслом и держали реку.
Я посмотрел нашу переписку тех, самых уже последних лет. Он редко говорил о главном, о своей худ. работе. Он всегда оберегал ее от чужих глаз до поры, пока не сдавал в печать. Чаще писал о поездках по Сибири для растущей книги о ней. (“Съездил в Кяхту… В городке на 20 тыс. не работает ничто. Ни школы, ни больницы - полное оцепенение. А на улицах старушки гоняются за покупателями, предлагая сигареты, и не в пачках, а по одной, чтобы насобирать на кусок хлеба”, 22.12.96.)
Нет-нет, говорил о праздниках “Сияние России”, которые он проводит в Иркутске второе десятилетие как опыт национальной самозащиты (“Успел отдохнуть от “Сияния” и с обычной тоской выглядываю из себя: и туда пойдешь - покоя не найдешь, и сюда пойдешь - себя потеряешь”, 26.10.03.)
А больше, кажется, сопротивлялся моей настойчивости, когда я уж очень вязался” к нему с наивными инициативами по собиранию разбегающихся писателей. Я пытался заманить его в Сростки на 65-ю годовщину В.Шукшина в 1994 г. Хитрость была детская. Меня ранило, что разошлись ближайшие и всякому русскому сердцу одинаково дорогие и в нашем сознании уже неразымаемые, как васнецовские богатыри, Астафьев—Белов—Распутин. И я уговаривал устроителей Шукшинских встреч послать приглашение каждому порознь, как единственному, что ждет-де Василий Макарович его (Василия Ивановича, Виктора Петровича, Валентина Григорьевича) и очень надеется видеть. Мне отчего-то казалось, что когда бы они вышли вместе (а куда бы они делись, раз уж приехали!) к тысячам собравшихся на пикете людей, то люди бы непременно встали, а может быть, и заплакали, и почувствовали себя вновь целыми и всесильными.
Хитрость не удалась. Они раскусили ее все, и не поехали. Они уже видели разные народные правды. Больше всех попадало от него в переписке В.Астафьеву - за неразборчивость средств, за поддакивание тем, кому было поддакивать грех. Я, как умел, защищал Виктора Петровича, потому что любил его и знал, с чего он заводился. Да только ведь и Валентин Григорьевич любил Астафьева и потому так жестко и спрашивал - правду он уступать не умел. (“если поживем еще, то и сойдемся с Астафьевым. Но делать это придется заново, потому что того Виктора Петровича, которого я знал, у которого немало взял и который, как человек и как талант, был целен и здоров, того Астафьева уже нет. “Не сотвори из себя кумира” - вот какую заповедь он запамятовал”. 7.08.95.)
В такие часы мы порой стояли на опасной черте разрыва, но ни разу не переступили ее. И я опять и опять простодушно манил его и Белова в Овсянку, надеясь, что, может быть, скорее поправит положение общее дело - “Литературные встречи в русской провинции”, которые Виктор Петрович затевал там, чтобы противостоять расхождению писателей. Он отказывался. (“Ох, боюсь я, как бы из примирения не вышло противление. Белов, я думаю, не поедет. Провода-то оголены и с той, и с другой стороны. Все, в конце концов, можно отбросить, но не утерпит один, а затем другой…”, 15.04.96.)
Звал в Ясную Поляну, где параллельно шли такие же встречи с другим кругом участников. Он не ехал и туда. (“Не хочется ничего говорить. Да и сказать, по правде, нечего”, 7.11.98.)
Я же говорю, что публичность всегда была чужда ему, если за ней не стояло действительно большое дело. Так он согласился поехать в Ясную, только когда надо было сказать Слово о Толстом в день 175-летия Льва Николаевича. И я с особенной радостью увидел, как нужно было его имя и дело, когда зал Тульского драмтеатра встал и устроил ему овацию еще до всякого “Слова”. Он говорил и о Пушкине в Пскове в день 200-летия Александра Сергеевича. Но сказал - и тотчас уехал, еще до главного Михайловского юбилейного дня. (“Тяжело стало переносить многолюдность и все, что делается на гос. уровне. У могилы постоять не удалось - оттеснили, чуть не вытолкали, фотографирующиеся”, 6.06.99)
В каждом из этих высоких “Слов” он был тот же - твердый, ясный, честный, горестно-прямой, упрямый в своей крестьянской правде. Он, пожалуй, и тут не стал бы выходить на высокие трибуны, если бы не надеялся напоминанием о слове и славе, о поре нашей силы и правды еще что-то удержать в культуре и человеке. Он как никто чувствовал невозвратность уходящего, колебался от отчаяния к печали, от гордости к сомнению, от тревоги к любви. И письмо могло вспыхнуть такой горечью и светом, что сжималось сердце.
(“Из Курска прислали газету о Е.И. Носове… Песнь и боль, плач и гордость за то, что захватили мы эту счастливую пору русской худ. жизни, что терпеливым, щедрым и долгим был этот закат. И мучительно сладким. Отлетели в последние высоты журавли с остывающей земли. У оставшихся перышки и крылышки уже не те. Им не придется уже высоко подниматься. И такая тоска - до слез. От старости и сиротства одновременно”, 9.11. 02)
Разве это только о Носове? Нет, и об Абрамове и К.Воробьеве, о Шукшине и Рубцове, о лучшем в Астафьеве, о своих старухах, своих Аннах и Дарьях, о своей Матёре, обо всех и обо всем, что улетело в небесную высь, в ту Россию, которую он так знал, ибо был ею, и которая на глазах уходила в предание, в “литературу”, в напрасные речи… А приходило то, от чего словом было уже не защититься, о и спрятаться было нельзя. И опять надо было брать перо и от речей переходить к делу - кровавить сердце о побеждающую “новизну”. В февральском письме 2003 г. из Малеевки мелькнула, как обычно, беглая строчка: “Закончил вчерне повесть, но буду ли ее печатать, пока не знаю”.
Хочет дать ей полежать, а уж потом решить: печатать ли? Теперь мы ее прочитали и сомнение его понимаем. Есть правды, которые хочется утаить, о которых, кажется, милосерднее промолчать, пощадить читателя. Не зажигай света и не увидишь чудовищ ночи, но тогда они постепенно вытеснят и сам день. Не кинулись мы вместе с Сеней (“Нежданно-негаданно”) на защиту на глазах уводимой во тьму детской жизни, не вскинулись с ужасом всей страной - пожалуйте продолжение. Нас ждала последняя пока - может быть, самая страшная у Распутина повесть “Мать Ивана, дочь Ивана”.
…В самую мучительную, самую последнюю, гибельную минуту допроса ее истерзанной дочери, когда уж и голоса своего нет, Тамара Ивановна слышит, как в ней что-то отдельное наговаривает: “Ничего, ничего… Это ничего… Это к нам. Принимайте гостей… Мы гостям завсегда рады… Мы ничего… Мы такие…”
Как это невыносимо угадано Распутиным в этой страшной повести! Он ведь и в нас бьется, этот отдельный голос. Вроде бы и проклясть надо обезумевший, потерявший себя мир, где зло перешло всякие границы, а душа иронически кривится: да кого проклинать-то? Сами и приготовили место новому дню, как жестокому гостю. Не скажешь, что не ждали. Давно решетками на окнах и железными дверями загородились, на добровольную тюрьму себя обрекли. Значит, видели уже, что на улицу нельзя выходить, что там зло раскинулось на полсвета - его это вотчина. Зачем же это именно ей, ее семье такое испытание? Жили честнее других, себя не роняли. Ведь и мы так же и это же закричим (Господи, не дай никому в мире пережить то, что пережили герои повести!), и только “гости-то” уж поняли, что “мы - ничего, мы такие” и нас можно убивать на улицах, никто не кинется спасать, можно унижать поштучно и оптом. Но пока не лично тебя, можно и отвернуться, отделаться вздохом - ничего. Вот и я когда-то, прочитав “Печальный детектив” и “Людочку” В.Астафьева и надорвавшись сердцем, тоже все пытался защититься, что художник “перетемнил мир”, что Господень мир милосерднее, что писатель только не доглядел уравновешивающего света. Вместо того чтобы биться вместе с художником, душу свою пустился оберегать, свет загораживать, выговаривать Виктору Петровичу за ожесточение. (Валентин Григорьевич тогда был с Астафьевым: “Есть времена, когда и на крик и на мат готов сорваться, лишь бы услышали. Лишь бы что-то поняли, вздрогнули и отшатнулись. Это разговор не с изысканной публикой, а с уличной, необходимость ткнуть ее носом в грязь, в которой она живет, отвыкая от понимания, что это грязь”, 9.4.86.)
А мне все мерещился перебор тьмы. А оно вон как обернулось. Теперь тогдашнее астафьевское зло уж будто и не зло, а только увертюра к тому, что начнется и что напишет окровавленным сердцем Распутин. И я будто прямо себе в ответ на то давнее письмо Астафьеву о равновесии (словно Валентин Григорьевич за плечом стоял) прочитаю в повести: “Всегда казалось само собой разумеющимся, заложенным в основание человеческой жизни, что мир устроен равновесно и сколько в нем страдания, столько и утешения. Сколько белого дня, столько и черной ночи. Вся жизненная дорога выстилается преодолением одного и достижением другого. Одни плачут тяжелыми, хлынувшими из потаенных недр слезами, другие забывчиво и счастливо смеются, выплескиваясь радужными волнами на недалекий берег. Да, впереди всегда маячил твердый берег, и в любом крушении всегда оставалась надежда взойти на него и спастись. Теперь этот спасительный берег куда-то пропал, уплыл, как мираж, отодвинулся в бесконечные дали, и люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы. Исподволь, неслышным перетеканием, переместились горизонты восхода и заката солнца, и все, что подчинялось первичному ходу тепла и света, неуклюже и растерянно оборотилось противоположной стороной”.
Словно и сам “первичный ход света” прервался. Да ведь так и есть - прервался. Вчитайтесь-ка в повесть-то. Хотя ее и один раз прочитать - много надо сил. После десятка страниц откладываешь и мечешься - места себе не находишь. Была бы река под боком, лес, так - к реке бы бросился, к небу, дереву. А так кинешься к окну, а там только что описанный мир. А каково было писателю месяц за месяцем держать в себе эту тоску насилия и опустошения? Но Распутин и раньше себя, Астафьев, мало берег, поднимая самые ранящие проблемы, которые умом не возьмешь, - им все сердце отдай и в “Последнем сроке”, и в “Прощании с Матёрой”, и в “Пожаре”. А тут и еще больнее. Тут уж пожар-то во всю землю. И опять, как всегда, у него - на земных, женских, слабых, всесильных плечах. И все-таки, как ни тяжело, вслушайтесь. Теперь, когда сюжет отболел, когда Тамара Ивановна вышла после тюрьмы на свободу крепче, чем была, и удержит себя и семью, когда и в нас перегорел ужас насилия, и можно стало немного распрямиться, теперь можно и в публицистику вслушаться. Я не о прямой публицистике говорю, хотя и ее, как часто у Распутина в последних вещах, много. Да и как не быть, когда мы все теперь политики и публицисты и, кого в герои ни выбирай, хоть деревенского из деревенских, он скоро сам заговорит на уличном политизированном языке. И не от наклонности к философствованию и празднословию, как еще несколько лет назад покойно и обстоятельно умствовали о политике мужики, а подлинно жизнь загнала, отравилась сама и отравила нас. Я говорю о публицистике внутренней, которая вошла в порядок мира, ушла из слова в обиход, в рутину повседневности.
Вот тут-то и увидишь, что сюжет сюжетом, а при жестокой тяжести своей он все-таки только частный случай общей беды, только режущая сердце концентрация того, что исподволь сошлось, что в “разбавленном виде” давно пересекло каждую русскую судьбу и от чего ни за какой теорией, ни за каким красноречием и самообманом не укроешься. Богатые таких книг не читают. У них “даже солнце свое, отдельное от бедных, - на каких-то экзотических островах отнятое и вывезенное из рая, у них народились фантастические вкусы: играть в футбол они летают на Северный полюс, для прогулок в космос нанимают в извозчики космонавтов, любовницам дарят виллы в миллионы долларов. А бедные между тем спорят, ходить или не ходить им на выборы, и, в сотый раз обманутые, все-таки идут и голосуют за тех, кто о них тут же забывает… Ни там, ни там нет согласия и внутри себя - у одних от непривычки к неправой роскоши, у других от непривычки к нищете. И никто не знает и знать не желает, удастся ли когда-нибудь притереться друг к другу и стать одним народом или никогда не удастся, и кому-то в конце концов придется уходить”.
Вот в сознании, что кому-нибудь придется уходить и надо оглядеться в наших “бедных” проблемах, чтобы если уж уходить нам, так хоть понимать, как все сошлось и к чему. И тут повесть ставит диагноз покойный и беспощадный. Не зря и название у нее такое библейски-притчевое. Это не одна Тамара Ивановна - дочь Ивана, мать Ивана. Это (высоко сказать - а мы уже высоко стыдимся говорить - и тут нас заставили понизить голос) - Родина наша, которая тоже и мать Ивана, и дочь Ивана, впервые понимающая, как далеко теперь разведены эти Иваны, как далеко от деда до внука, которых никто, кроме нее, матери, и не удержит, чтобы они совсем родство не потеряли. Не сейчас, конечно, все началось - с разбежавшихся сыновей и дочерей старухи Анны из “Последнего срока”, с беспамятного Петрухи из “Прощания с Матёрой”, с “Пожара”, где только гляди, чтобы свои все не растащили. И здесь тоже Тамара Ивановна, прощаясь с деревней, понимает, что вот бы за что держаться. Но уж коли все поехало, то и ты не усидишь. Только уходить будем “в ту же землю”, а жить - на другой, где законы уже не твои. Поневоле опять вспомнишь, как Сеня из рассказа “Нежданно-негаданно” и дома, в деревне, уже не может удержать почти спасенную от злой эксплуатации “ахметами” девочку. Пришли и взяли как свою - их закон и сила. И Пашуту из рассказа “В ту же землю” вспомнишь, ночью, тайком хоронящую мать в ту же родную, но будто уж и не ей, Пашуте, и не матери ее принадлежащую землю, потому что днем похоронить будет нельзя - не на что. Не заработали они с матерью у отнятой земли святым своим трудом даже на человеческую смерть.
Не удержали в свой час - и тоже ведь не по своей воле: оторвались от корня, а там уж только поворачивайся. Возьмется за тебя “закон рынка”. А за детей - злое бесстыдство телевидения, газет и журналов, которые одними обложками растлят, даже если просто мимо пробежишь, - они свое дело знают. А в школе возьмется за них английский (сами будут торопиться ухватить), чтобы скорее “расстаться с родной шерсткой" и быть готовым к чужому закону. Чтобы с 5-го класса уметь в суд подавать на директора, чтобы тот на воскресники не выгонял - их же собственные окурки подбирать,- не эксплуатировал “детский труд”. Незаметно, как-то словно само собой, и родные друг другу люди, как горько и справедливо у Распутина отец Тамары Ивановны говорит, стали будто троюродные. Да и как могло быть иначе - без общего дома и общей веры? Так что уж и естественно, что и всегда-то по христианской своей крови стеснительные, уверенные, что всяк человек от Бога, “не выдержали мы большой наглости”. Не знали мы, что оно так можно. А вот, оказывается, еще как можно, и не одни “ахметы” и “эльдары, у которых животная природа ближе и власть силы и наглости впереди, а и свои скоро научились и наглости, и бесстыдству. И художник только констатирует недуг: “Когда верх берет вырвавшаяся наружу грубая сила, она устанавливает свои законы, неизмеримо более жестокие и беспощадные, нежели те, которые могут применяться к ней, ее суд жестоко расправляется с тем, что зовется самой справедливостью”.
Странно сказать, но это тоже неизбежно. Справедливость - есть дитя долгой правильной жизни в истории, дитя единства веры и народной воли. А у нас сегодня, у нынешних забывчивых, за чечевичную похлебку продавших свое первородство людей, как пишет Распутин, “будто и не было прошлого, будто только-только соскочили с какого-то огромного транспорта, доставившего их (нас, нас!) на необитаемую землю, где не водилось ни законов, ни обычаев, ни святынь, и, расталкивая друг друга, бросились занимать места. В спешке и брани расхватали, что получше, а на всех не хватило. Теплых и выгодных мест оказалось много меньше, чем охотников до них… И принялись скорей изобретать законы, которые удостоверили бы, что так тому навсегда и быть”.
А слабость и расшатанность духа, она узнается тотчас, и зло бросается в освобожденное слабостью место, как в пустоту. Один из следователей в повести выводит из этого жесткое и тяжелое правило, больше похожее на справедливое обвинение, на “так и надо” - “любая слабость, происходит ли она от государства или человека, провоцирует на новое преступление, и каждый слабый человек притягивает к себе преступника как магнит”.
Ну и, добавим от себя, так же притягивает его и слабое государство. И тогда все его крокодиловы слезы и гуманистические призывы, на которые мы стали такие мастера, есть только запланированная ложь, слепота, духовная немочь и лень. Но оно - государство - давно уж от человека отделилось, у него свои сытые заботы. А мы вовремя не увидели, не догадались об этом и сами себя в распыл пустили: “Струсили и не поняли, что струсили. Когда налетели эти… коршуны… коршуны-то какие-то мелкие, вшивые, соплей перешибить можно было… Но хищные, жадные, наглые, крикливые… И подняли гвалт несусветный, что все у нас не так, по-дурному, а надо вот так… А мы, вместо того чтобы поганой метлой их, рты разинули… И хлопали своими слепыми глазенками. Пока обдирали нас… растаскивали нашу кровную собственность по всему белу свету. А нас носом в развалины: вот тебе, ничтожество и дикарь, знай свое место. Ну и что? Стерпели, как последние холопы. Если кто и пикнул - не дальше собственного носа. Как-то всенародно струсили и даже гордиться принялись: мы, мол, народ терпеливый, нам это нипочем, мы снова наживем”.
Все хочется попросить прощения за длинные цитаты, а все-таки повторяю и повторяю, потому что хочется докричаться, не закрываясь сюжетом, прямо назвать причины беды, обдумать вместе. Ну а окончательное следствие себя ждать не заставило - в рабство пошли, о чем Иван горько и зло говорит, и в рабство не физическое, как в стародавние времена, а в рабство “умственное, духовное: у тебя отнимают способность думать так, как было бы полезно для тебя… и не только для тебя. Развернули твои мозги на 180 градусов, и ты уже не ты, не самостоятельная единица, а дробь. В числителе у этой дроби, где личность, значение личности, такой мизер, такая братская могила!.. А в знаменателе… там да-а, там пудовые кандалы… шаг влево, шаг вправо - капут!”
Мы, конечно, самозащитно кинемся на писателя: ну, уж сразу и капут?
А только весь ход повести, весь развернувшийся на наших глазах отчаянный сюжет, как прежде и в рассказах “Нежданно-негаданно” и “В ту же землю” (и опять повторю - не сочиненные это были сюжеты, а только “записанные”, матушка-реальность поставила), прямо говорит: капут! Что только признать этого не хотим - боимся. Все по старинке надеемся перемочься, авось родной на белый свет вытаскиваем - выручал и, может, опять выручит. Или, как это в разговоре Тамары Ивановны с мужем Анатолием звучит: “Пьянство и трусость, пьянство и трусость! Куда мы на таких рысаках управим?! Что будет?
- Что-нибудь да будет, мать.
- Мне не надо “что-нибудь”. Сколько можно “что-нибудь” да “что-нибудь”. Даже у зверя, у птицы, у червя есть, наверное, воля, характер… и он уползает или отбивается, а не лапки вверх…”
Но пока “как-нибудь” побеждает. Пока мы затаились - авось, само уляжется. Надо только не дразнить их - наглых и сильных. И ведь государство тоже притихло. Нашло счастливый термин “стабилизация” и спряталось за ним, как мы от самих себя за железными дверями своих подъездов. Между тем ведь по-человечески-то, если уж и правда гуманистами себя считать, то после всего совершившегося в одной этой повести, после выставленного в ней диагноза надо или художнику иск предъявлять за напраслину, возведенную на “стабилизировавшееся общество”, или правительство и Думу собирать и решать, как защитить человека, как спасти детей от физического и духовного насилия, потому что все остальные заботы покажутся на фоне совершившегося злой насмешкой над человеком и нарочито вызывающим пренебрежением к нему.
Но я уже думал об этом после айтматовской “Плахи”, после распутинского рассказа “В ту же землю”. И писал, и тоже кричал. Но никто не торопится человеку на помощь и не собирает ни Думу, ни правительство. И, значит, Тамара Ивановна навеки права, взяв в руки обрез и решая вопросы государства своим материнским судом, потому что это ее дети, ее Родина, ее защита будущего. И художник с гордостью и любовью глядит на нее, возвращающуюся из тюрьмы спокойной и сильной, радуется ее сыну Ивану, который “уперся” поперек “улицы" и тоже не дается ее хамской силе. И не зря Распутин заставляет мальчика ухватиться за Слово, за чудо русской речи. Оно, как Волга, - за него не отступишь. Оно само не даст отступить, отчего его и выжигают так старательно и массированно. Но оно, слава богу, покрепче нас духом и в рабство не спешит.
Когда-то Альфонс Доде замечательно сказал: “…пока народ, обращенный в рабство, твердо владеет своим языком, он владеет ключом от своей темницы”.
Распутин вручает этот ключ младшему Ивану и сам держит его посреди наполовину дезертировавшей в пустоту “текстов” литературы с твердостью неизменяющего оружия.
“Столько развелось ходов, украшенных патриотической символикой, гремящих правильными речами и обещающих скорые результаты, что ими легко соблазниться… и ни к чему не прийти. И сдаться на милость исчужа заведенной жизни. Но когда звучит в тебе русское слово, издалека-далеко доносящееся родство всех, кто творил его и им говорил…, когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон… молодых русских женщин, когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников, когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше которых нигде не сыскать, и как напитать душу ребенка добром и как утешить старость в усталости и печали - когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанное родовой кровью, - вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета, с древнейших времен оно само по себе непорушимая клятва и присяга”
Этим высоким, прекрасным, неуступчивым словом написана вся повесть. Она не страшится наивности и повторения известных истин. Художник видит все лучше умных иронистов, которые считают, что надо поспевать за реальностью, а не стоять у нее на дороге. Он сознательно не хочет “поспевать" и нас удерживает, устыжая силой и правдой своей героини, как всегда у него и такой, как все, женщины, и не такой - сильнее! Устыжает самой этой подробной, забытой человеческой прозой, не давая восторжествовать беспамятным “текстам” потому что с первой книги знает: уступив слово - уступишь жизнь. Кто-то должен держать землю и правду, даже если ей изменят все. Остается русский писатель, который без земли и родного духа уже не вправе звать себя сыном русской литературы.
Диагноз, поставленный этой последней повестью, страшен, но и лекарство, таинственно содержащееся в этой же повести, могущественно. Это не утешение. После такого разговора человека утешить трудно. Это призыв к защите. Что после этого могло быть написано еще? Я перечитывал и перечитывал повесть и думал, куда же после этого будет выходить писатель и куда следом за ним буду править я. Как буду поворачивать к “возрождению”, куда мы обычно поворачиваем из всех наших драматических контекстов, потому что выучились этому всем ходом нашей литературы. Видите, я вот тоже сразу про лекарство, да еще “могущественное”, хотя какое в призыве к защите могущество? Разве только то, что мы окончательно поняли, что подошел край и тут уже одними словами не спасешься.
Повесть была не очередной, а подлинно последней в неукоснительном ряду, будто год за годом все к ней и шло. Сыпалось, сыпалось и вот чем кончилось. Все под горку, под горку до самого дна. Помните, как это Дарья-то в “Матёре” говорила об избе, о деревне, о жизни - “пое-ехала”.
И вот доехала. А мы и возмутиться и спросить с кого-то не имеем права. Потому что не вдруг ведь все случилось, а вон сколько “ехало”. И художник не молчал. Он все годы стоял, как любимый нами в 60-е годы мальчик Холден Кофилд из повести Д.Сэлинджера “Над пропастью во ржи” (всегда мы чужих детей слышали лучше, чем своих) над этой самой пропастью, и удерживал нас над нею, ловил, остерегал, кричал (все перепробовал), но мы все летели на беспамятство как на огонь. Он, кажется, один был так неукоснительно последователен среди товарищей, которые могли и на другие сюжеты отвлечься, и в “историю сходить”, а он держал святую плоть уходящей деревенской жизни, самотканность нашего естества и духа (как он скажет на последнем Всерусском Соборе), потому что знал, что в ней весь наш дух, наша память, наша вера и наше спасение. Все там - в крестьянстве-христианстве, которое не говорило о Боге, но держало Его в самом порядке жизни, в земле, силе, предании, совести.
Ему давали Госпремии, делали Героем Труда, а он будто не видел ни чести, ни славы, потому что пропасть не отодвигалась и, значит, голос его не был слышен. И высокие комитеты, депутатство, Президентский совет нужны были только для все того же крестьянства-христианства, для удержания памяти, для спасения перед исторической бездной, чтобы не надо было русским старухам со своей землей и любовью оставаться на дне рукотворных морей, а русским женщинам брать в руки обрез и принимать на себя функции государства, раз оно само не хочет выполнять то, что обязано. Не удержал. Не остановил. От этого можно было прийти в отчаяние (и он часто приходил), можно было укрыться в крепости правоты “Я говорил!и жить на проценты со своей прозорливости. Но это тоже было бы о ком-то другом.
Он слушал больное русское сердце, ища ему исцеления. Он всегда был неудобен и всегда (как церковь в ее высоком и правильном понимании) “мешал нам жить” в наших слабостях и меньше всего обманывал себя и других “возрождением”, потому что всегда имел слишком острое зрение. Я с улыбкой смятения всегда смотрел на его рукописи, которые можно было прочитать только под четырех-пятикратным увеличением, и, дивясь, спрашивал, что у него со зрением. А он отвечал, что в юности читал в Иркутске через Ангару “куплю, сдается, продам”, так что неверы ездили за реку, чтобы убедиться - правда. В этой страшной физической зоркости, за которую он платит теперь болезнью глаз, было только отражение зоркости духовной.
Он умирал вместе с Анной, уходил под воду с Дарьей, погибал с Настеной, брал обрез с Тамарой Ивановной. Он знал мужество скорби и одиночество смерти и всегда был тем, что есть, с нерушимой кристаллической решеткой. Как будто стоял прямо в сердце жизни, а не общества, политики, истории. Жизни, как первоосновы всякой судьбы - человеческой, общественной, исторической. И потому и выбирал в героини женщин, которых не обманешь хотя бы и очень высокими политическими целями, что они сами - Жизнь в ее родовой вечности, чьи законы просты и величественны и чьей правды не переступишь.
“Женщина - жизнь, а не - о жизни, - как замечательно писал в своих “Дневниках” отец А.Шмеман. - Потому ее миссия - вернуть человека от формы к содержанию жизни”.
Один из моих товарищей просил меня по прочтении рукописи “прибавить света” в этот очерк творчества. И все уверял, что жизнь светлее ее распутинского портрета, что вот и дети все чаще полнят храмы, и “небеса ближе”, и сами мы пошире душой. Это был добрый любящий человек, и он был немолод, навидался зла и теперь к старости умел примириться с миром, понимая, что главные его вопросы решаются не здесь. А я с горечью думал, что и сам-то всегда искал у Распутина света, и сам был готов извлечь его хоть из намека, хоть из малого повода, но писатель твердо отказывал мне в обманчивом утешении. Хотя все делал для света: и о Вампиловском фестивале беспокоился, и на пленумах писательских не молчал, и готовил хоть малое слово для очередного Всемирного Русского Собора, и вот “Сияние России” проводит второе десятилетие (и ведь “сияние”, а не затмение). И всякое его публицистическое слово при всей горечи ищет опоры и единения. Но когда берет худ. перо - не пошатнешь! Тут он послушен одной истине. И вот даже товарищи не очень верят его “Василисе”; Астафьев в ужасе кидается на защиту “Живи и помни” (“Ох, дадут они Вале!”); цензура не пропускает “Матёру”, пока тогдашний редактор “Нашего современника” С.Викулов не добирается до ЦК; сам он держит себя за руки, написав “Мать Ивана” (“не знаю, буду ли печатать”).
Ему первому хотелось бы света и надежды. Да Бог не пускает. И он (опять, кажется, один) говорит то, что мы думаем, да запуганные общественным мнением, сказать не решаемся - что сыты-то сыты (хотя и тут не все), и печатай себе, чего хочешь, потому что “типографский станок без костей”, а про защиту самого главного - земли и духа своего - и не заикайся. Ослепни и не гляди, как человек погибает на сквозняке и теряет, теряет лицо. Как он верно говорил на уже помянутом мной последнем Русском Соборе: “Как не преклониться перед мудростью народной, которая века и века указала направление грозящей России опасности! До чего просто и верно: сверху небо, снизу земля, а с боков ничего нет - оно и продувает. Боковины свои мы и не сумели охранить. Это еще пушкинская мысль, применительно к традиции: что пребывает в России, то ко благу ее; что не вмещается - то соблазн и опасность. От славянофилов и до Столыпина звучало предостережение: “Нельзя к русским корням и русскому стволу прививать чужестранный цветок” - и не предостерегло”.
Теперь уже навсегда ясно, что это он с горькой твердостью и правом поставил памятник русской деревне, утонувшей на наших глазах невозвратно, как Атлантида или Китеж (“Эх, Валентин, нет уже с нами той жизни, тех чувств, той памяти, на которые мы продолжали уповать. Отбыли - и чего уж тут обманывать себя - навсегда”, 26.06.03.)
И мы еще, может, и не поняли, что невозвратно, и еще обманывали себя заплатками, а он уже знал и строил ковчег, чтобы если не “всякой твари по паре” (не оставалось уже никаких пар), то хоть последние народные духовные ценности уберечь. И не в отвлеченном слове, не в элегических воспоминаниях, которые часто самолюбованием и пустым умилением отдают, а в прямом характере. Поставить нас перед лицом, пред Ликом хранительниц избы, деревни, рода и дома, чтобы мы, когда прижмет, знали, где искать наш Светлояр. Куда можно собраться для воспоминания о том, каковы мы были, о том, что такое Россия в Господнем замысле. И как мы были близки к тому, чтобы мир услышал тайну и силу русской правды, о которой он догадывался по книгам Толстого и Достоевского, Шмелева и Бунина, Распутина и Астафьева, диалога с которой искал, но которую руками своих политиков с нашими подпевалами сам и топил, не понимая, что топит и свой дух, и свое спасение, и свой российский сад, в котором мы все братья и сестры, потому что все дети Адамовы. Мы уже никогда не будем более так доверчиво чисты, так поднебесно высоки, так просты и мудры сердцем, потому что мир прячется от испытующих глаз света в нарочитую сложность, но, изгнанные из рая народной цельности, мы знаем, что это то лучшее, что бережет и держит нас в жизни, спасает от духовного разорения и поддерживает надежду, если не на возвращение (теперь уже навсегда ясно, что в эту святую воду дважды не войдешь), то на высветление сердца. И потому, посреди печали и прощания, я думаю - зачем "прибавлять света”, который и так очевиден в его великих героинях, в слепящей ясности его слова. И более всего - в нем самом, взявшем на себя тяжкую обязанность досмотреть последний отрезок нашей земной и небесной истории, когда мы были еще “органическим” народом, и когда на что надо было смотреть, мы “до-олго смотрели” и “повесть сильно различали”. Он, младший из деревенских детей, досмотрел этот путь за своих товарищей, с кем выходил вместе, и за тех, кто шел им и писал земной русский народ раньше. Он не устрашился стать на острие клина и принять их вопрос о смысле и цели и ответить. И ответ его им и нам был по-русски правдив и честен. А правда - и горчайшая - всегда светла, потому что она правда.
Оглядываясь сейчас напоследок, в его творчестве, в его святых героинях я вижу, что, нимало не думая о такой гордости, а только стоя в сердце жизни, он простился не с веком даже, а с тысячелетием, до ниточки высмотрев то святое, высшее, крепительное, чем жила родная Россия, которая никогда не была для него отвлеченностью, а была в разное время Анной, Дарьей, Настеной, Тамарой Ивановной - всегда именем, жизнью, долей и правдой. Всегда любовью и верой.Теперь история пойдет другой, может быть, более умной, цивилизованной дорогой (нас не зря не просто звали, а тащили на нее силой, лестью, подкупом), и она, коли привьется к своей мысли, культуре, вере и слову, останется русской дорогой. Но это будет другая история и другая Россия. И, может быть, нам еще выпадет увидеть написанный им новый характер, ибо, слава богу, его дар в совершенной зрелости послушании, и узнать, как зовут нашу Родину сегодня. Кажется, она и сама ждет своего имени. И ждет от него.
Валентин Курбатов
журнал "Дружба народов" №2, 2007.
https://magazines.gorky.media/druzhba....dy.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 23 Мар 2020, 13:50 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | ВАЛЕНТИН РАСПУТИН: ПРОЩАНИЯ C РОССИЕЙ НЕ БУДЕТ
Духовные размышления В.Распутина о наиболее злободневных проблемах нашей непростой жизни. В данной публикации, с согласия писателя, использовались материалы его бесед, опубликованные в изданной в 2007 г. замечательной книге В.С. Кожемяко «Валентин Распутин. Боль души», вышедшей, как, впрочем, и все другие по-настоящему нужные для России книги, крайне маленьким тиражом.

О развале России и о внутренней эмиграции
- Не разваливать надо было Союз по планам американских специалистов-советологов, с голоса которых действовали отечественные расчленители, заходясь в требовательной истерике, а держаться вместе. Отпустив на волю вольную, разумеется, тех, кто свою совместную жизнь с Россией считал невозможной. Но и здесь прислушиваясь к мнению народному, а не к мнению национал-расплевательства. Держаться вместе до тех пор, пока произойдет общественное отрезвление, поскольку в горячке да во взаимных обличениях разумного решения быть не может. А там – как будет соизволение Божье и народное. Но именно отрезвления-то и боялись. Вообще вся перестройка, перекройка, перетряска творились в неимоверной спешке, горячке, в возбуждении и опьянении, в мстительной запальчивости и угаре, как будто дело касалось не великого государства, имеющего тысячелетнюю историю, а умыкнутого с чужого воза достояния. В том, как происходил раздел, было что-то разбойничье, воровское, неприличное – скорей, скорей, чтобы не спохватились и не вернулись к месту преступления. Когда-нибудь историки постараются разгадать этот удивительный феномен: как мелкие жулики с легкостью провели мирового масштаба сделку, превратив нас всех в жертвы своих политических манипуляций.
Что выиграла от раздела Россия? Потеряла свои исторические земли, оставила «за границей» как заложников десятки миллионов русских, обратила дружеские чувства в ненависть к себе, разбила великое множество судеб и вдобавок еще выплачивает контрибуции, как потерпевшая поражение в войне. Нельзя допустить дальнейшего развала России. Пока не будет правительства, защищающего национальные интересы России, надежды невелики. Пока не придут к власти государственники, подобные Столыпину, и приоритеты собственного народа не возобладают над приоритетами чужих корыстных замыслов, ничего хорошего ждать нельзя. Это начало начал – власть национального доверия. Россия, свалившись в заготовленную для нее яму, ушиблась жестоко, переломала кости, в ее теле травма на травме, но – не убилась, поднять ее можно. Антинародная политика властей того времени привела к тому, что не только стали растаскивать гос. богатства, но и принялись уходить из государства люди, притом в массовом порядке. Я имею в виду не эмиграцию в Америку или Израиль, а устранение от своих обязанностей по отношению к государству, то есть эмиграцию внутреннюю. В избирательных списках эти люди присутствуют, но из агонизирующего гос. организма они вышли и живут только своими интересами, занятые собственным спасением. Это граждане автономного существования, сбитые в небольшие группы, сами себя защищающие, сами себя поддерживающие материально и духовно. Это как старообрядцы в прежние времена, не желающие мириться с чужебесием нового образа жизни. Если бы удалось вернуть их на гос. службу, а для этого надо, чтобы власть признала и сказала им, что России без них нет, когда они убедятся, что положение меняется и государством управляют патриоты, то не смогут не влиться в самую деятельную и здоровую силу. Народ силен подъемным, восходительным настроением, появившейся перед ним благородной целью. В России больше 80 % русских, надо, не боясь национализма, обратиться к их национальному чувству. От национализма культурного, озабоченного воспитанием народа в лучших (в лучших!) национальных традициях, никому опасности быть не может. Напротив, это – сдерживающее начало от агрессивности, которая сейчас, к несчастью, поразила весь мир. Что плохого, если мы учим: нельзя мне поступать дурно, ибо я русский.
О русском национализме и «фашизме»
– Подменять национальную идею фашизмом могут лишь люди злонамеренные, заинтересованные в окончательной гибели России. Народная идеология не может быть фашистской, тут сознательное передергивание карт, и далеко не безобидное для народа. Надо ли о нем, о народе, заботиться, опускаться даже до ложных поклонов перед ним, если он, за исключением небольшого просвещенного меньшинства, фашиствующий? Шкуру с него вон! Но знают ли господа, заправляющие полит. кухней, насколько опасно блюдо, изготовлением которого они постоянно заняты, – национальное унижение? Кричат: на галеры его, этот народ, если он перестает плясать под дудку полит. режиссуры, если он, такой-рассякой, не понимает, для чего он существует! А потом и совсем от него избавиться. Методы массовой стерилизации, или как это еще называется, есть, история ими полна. А в Россию на его место «цивилизованный» народ из Европы, Турции, Китая, Кореи. Хватит дикость разводить! У Достоевского есть как нельзя лучше подходящие нашему моменту слова: «Как же быть? Стать русским во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским – значит перестать презирать народ свой... Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний».
Национальная униженность – это ведь не только предательство национальных интересов в политике и экономике и не только поношение русского имени с экранов тв и со страниц журналов и газет, но и вся обстановка, в том числе бытовая, в которой властвует, с одной стороны, презрение, с другой, уже с нашей,– забвение. Это и издевательство над народными обычаями, и осквернение святынь, и чужие фасоны ума и одежды, и вывески, объявления на чужом языке, и вытеснение отечественного искусства западным ширпотребом самого низкого пошиба, и оголтелая (вот уж к месту слово!) порнография, и чужие нравы, чужие манеры, чужие подметки – все чужое, будто ничего у нас своего не было. Я не могу, не умею быть нетерпимым к любому национальному чувству, если оно не диктует себя всем, так почему же считается преступлением мое национальное и патриотическое чувство? Господь, создавая народы, каждому вручил свой голос, свое лицо и обряд – так и давайте, не мешая, а только обогащая друг друга, пользоваться ими во имя исполнения данных нам заветов. Природа фашизма такова, что это естественное стремление защитить себя от перерождения и подчинения чужому приводит к уродливому искажению своего. Фашизм вырабатывает фанатизм и под видом сильной национальной власти способен на все. В том числе и превратиться в чудовище Третьего рейха, в образе которого он сегодня и воспринимается. Вот этим и пользуются сознательные путаники, оседлавшие российскую идеологию. Вся она, эта идеология, кроится под обвинительное заключение против того самого простака, который по навету вора берется под стражу как злоумышленник и преступник.
Истинные преступники не могут не понимать, что неслыханное в мире ограбление в считанные годы богатейшей страны, глумление над святынями, над историей, над самим русским именем способны вызвать ущемленное чувство национального достоинства, требующее действия. Это неизбежная реакция, так было, так будет. Но и остановиться преступники не в состоянии, слишком преуспели в своем ремесле грабежа, слишком зарвались, слишком много поставлено на карту. Наглость и страх диктуют тактику – только вперед! Ущемленное чувство национального достоинства после Версаля и итогов первой мировой войны явилось в Германии питательной средой для зарождения фашизма. Россия сегодня пострадала сильней, поражение ее унизительней, обида должна быть больше – вроде бы все необходимые условия для вынашивания фашизма. Ну и подсунуть ей это чудовище, и завопить на весь мир об его опасности! Знают прекрасно, что здесь совсем другой народ – начисто лишенный чувства превосходства, не заносчивый, не способный к муштре, непритязательный, а теперь еще и с ослабленной волей. Знают, но на это и расчет: чем наглей обвинения, тем противней от них отмываться. Чтобы в «этой» стране все оставалось на своих местах, образ побежденного, в сравнении с благородным ликом победителя, должен иметь самое страшное, самое отталкивающее выражение. И пошло-поехало: всякое национальное действие, необходимое для дыхания, будь то культурное, духовное, гражданское шевеление, – непременно «наци», окраска фашизма. Православная икона – «наци», русский язык – «наци», народная песня – «наци». Истерично, напористо, злобно-вдохновенно – и беспрерывно.
Русский человек оказался в изоляции от своих учителей, его сознание и душу развращают и убивают вот уже более 20-и лет, но чутье-то, чутье-то, если не разумный и независимый взгляд!.. У нас в крови это всегда было – издали распознавать злодейство. Как можно верить тем либеральным журналистам, которые убеждают русских в существовании русского фашизма?.. Народ на мякине не проведешь. Визг, поднятый вокруг «русского фашизма» и антисемитизма, неприличен, он сам выдает себя с головой. Будь действительно опасность фашизма, реакция должна бы быть серьезней, как накануне второй мировой войны. Тут и детектора лжи не надо, так видать. Опасность-то, кстати, есть, но с какой стороны – вот тут надо всматриваться зорче. Под экономической разрухой, несмотря на огромные потери, мы выстояли, под нравственной разрухой выстояли, сопротивление нарастает. Ну так «русским фашизмом» его по голове, русского человека, как контрольным выстрелом в затылок. Чтобы, мол, спасти мир от смертельной опасности. «Цивилизаторы» раз за разом спасают мир от смертельной опасности, которая исходит почему-то от самых обессиленных экономической блокадой и бомбардировками – от иракцев, сербов... И вот теперь очередь России. Это закон хищников, уголовщины – добивай раненых, больных, изможденных, виноватых лишь в том, что они не признают свободу на поводке.
О подлинном патриотизме
– Зачем патриотизм? А зачем любовь к матери, святое на всю жизнь к ней чувство? Она тебя родила, поставила на ноги, пустила в жизнь – ну и достаточно с нее, дальше каждый сам по себе. На благословенном Западе почти так и делается, оставляя во взрослости вместо чувства кой-какие обязанности. Любовь к Родине – то же, что чувство к матери, вечная благодарность ей и вечная тяга к самому близкому существу на свете. Любовь к Родине – то же, что чувство к матери, вечная благодарность ей и вечная тяга к самому близкому существу на свете. Родина дала нам все, что мы имеем, каждую клеточку нашего тела, каждую родинку и каждый изгиб мысли. Мне не однажды приходилось говорить о патриотизме, поэтому повторяться не стану. Напомню лишь, что патриотизм – это не только постоянное ощущение неизбывной и кровной связи со своей землей, но прежде всего долг перед нею, радение за ее духовное, моральное и физическое благополучие, сверение, как сверяют часы, своего сердца с ее страданиями и радостями. Человек в Родине – словно в огромной семейной раме, где предки взыскуют за жизнь и поступки потомков и где крупно начертаны заповеди рода. Без Родины он – духовный оборвыш, любым ветром может его подхватить и понести в любую сторону. Вот почему безродство старается весь мир сделать подобным себе, чтобы им легче было управлять с помощью денег, оружия и лжи. Знаете, больше скажу: человек, имеющий в сердце своем Родину, не запутается, не опустится, не озвереет, ибо она найдет способ, как наставить на путь истинный и помочь. Она и силу, и веру даст.
Кто же в таком случае ненавистники патриотизма? Или те, кто не признает никакого другого рода, кроме своего, или легионеры нового мирового порядка – порядка обезличивания человека и унификации всего и вся, а для этих целей патриотизм, конечно же, помеха. Мы, к сожалению, неверно понимаем воспитание патриотизма, принимая его иной раз за идеологическую приставку. От речей на полит. митинге, даже самых правильных, это чувство не может быть прочным, а вот от народной песни, от Пушкина и Тютчева, Достоевского и Шмелева и в засушенной душе способны появиться благодатно-благодарные ростки. Родина – это прежде всего духовная земля, в которой соединяются прошлое и будущее твоего народа, а уж потом «территория». Слишком многое в этом звуке!.. Есть у человека Родина – он любит и защищает все доброе и слабое на свете, нет – все ненавидит и все готов разрушить. Это нравственная и духовная скрепляющая, смысл жизни, от рожденья и до смерти согревающее нас тепло. Я верю: и там, за порогом жизни, согревающее – живем же мы в своих детях и внуках бесконечно. Бесконечно, пока есть Родина. Вне ее эта связь прерывается, память слабеет, родство теряется.
Для меня Родина– это прежде всего Ангара, Иркутск, Байкал. Но это и Москва, которую никому отдавать нельзя. Москва собирала Россию. Нельзя представить Родину без Троице-Сергиевой Лавры, Оптиной пустыни, Валаама, без поля Куликова и Бородинского поля, без многочисленных полей Великой Отечественной... Родина больше нас. Сильней нас. Добрей нас. Сегодня ее судьба вручена нам – будем же ее достойны.
Что происходит с нами в настоящее время?
– Кажется, нет никаких оснований для веры, но я верю, что Запад Россию не получит. Всех патриотов в гроб не загнать, их становится все больше. А если бы и загнали – гробы поднялись бы стоймя и двинулись на защиту своей земли. Такого еще не бывало, но может быть. Я верю – мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, которым тыща лет. Однако легкой жизни у России не будет никогда. Наши богатства – слишком лакомый кусок...
О литературе: мысли вслух
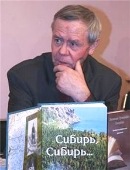
– Я понимаю себя и всегда понимал все-таки как писателя русского. Советское имеет две характеристики – идеологическую и историческую. Была петровская эпоха, была николаевская, и люди, жившие в них, естественно, были представителями этих эпох. Никому из них и в голову не могло прийти отказываться от своей эпохи. Точно так же и мы, жившие и творившие в советское время, считались писателями советского периода. Но идеологически русский писатель, как правило, стоял на позиции возвращения национальной и исторической России, если уж он совсем не был зашорен партийно. Литература в советское время, думаю, без всякого преувеличения могла считаться лучшей в мире. Но она потому и была лучшей, что для преодоления идеологического теснения ей приходилось предъявлять всю худ. мощь вместе с духоподъемной силой возрождающегося национального бытия. Литературе, как и всякой жизненной силе, чтобы быть яркой, мускулистой, требуется сопротивление материала. Это не обязательно цензура (хотя я всегда был за нравственную цензуру или за нравственную полицию – как угодно ее называйте); это могут быть и скрыто противостоящие механизмы, вроде общественного мнения. К примеру, нынешнего, которое вора и проститутку считает самыми уважаемыми людьми и предателю воздает почести. Кстати, советская цензура сделала А.Солженицына мировой величиной, а теперешнее «демократическое» мнение, укорачивая Солженицына, сделало его, что еще важнее, величиной национальной.
Нынешний сверхбыстрый и глубокий сброс интереса к книге говорит о неестественности этого явления, о каком-то словно бы испуге перед книгой. Именно этот испуг и нужно считать одной из причин резкого падения числа читателей. Главная причина здесь, конечно, – обнищание читающей России, неспособность купить книгу и подписаться на журнал. Вторая причина – общее состояние угнетенности от извержения «отравляющих веществ» под видом новых ценностей, состояние, при котором о чем-либо еще, кроме спасения, думать трудно. И третья причина – что предлагает книжный рынок. Не всякий читатель искушен в писательских именах. Вот он идет в библиотеку. В любой библиотеке вам скажут, что читают по-прежнему немало, но все поступления последних лет – «смердяковщина», американская и отечественная, и для детей – американские комиксы. И читатель правильно делает, когда от греха подальше он обращается к классике. А нас читать снова станут лишь тогда, когда мы предложим книги такой любви и спасительной веры в Россию, что их нельзя будет не читать.
Об убитых живыми
– Этот век явился для России веком трагическим, страшным. Никакой другой народ тех ломок, потерь, напряжений, какие достались народу нашему, не выдержал бы, я уверен. Ни времена татарского ига, ни Смута XVII в. ни в какое сравнение с лихолетьем России в XX в. идти не могут. Страшнее внешних ломок и утрат оказалась внутренняя переориентация человека – в вере, идеалах, нравственном духовном прямостоянии. В прежние тяжелые времена это прямостояние не менялось. Не менялось оно и в поверженных во Второй мировой войне Германии и Японии, что значительно облегчило им возвращение в число развитых стран, а ущемленное национальное чувство – ущемленное, а не проклятое и не вытравливаемое, – стало в этих странах возбудителем энергии.
Исключительно страшен психический надлом от погружения России в противоестественные, мерзостные условия, обесценивание и обесцеливание человека, опустошение, невозможность дышать смрадным воздухом. Вымирающая Россия – отсюда, от этого выброса без спасательных средств в совершенно иную, убийственную для нормального человека атмосферу. Здесь причины эпидемии самоубийств, бездомности, кочевничества, пьянства, болезней и тихих нераскрытых смертей – от ничего, под тоскливый вой души. Ничуть не сомневаюсь, что и это предусматривалось «реформаторами» заранее. «Инакомыслящие» пошли в оппозицию, живут в постоянном сопротивлении новому порядку вещей, «инакодушные», более чувствительные к жестким и унизительным условиям, растерянные, не видящие просвета в жизни, уходят в могилу до срока.
Что касается «знакового» худ. образа для выражения нынешнего состояния России – его литература предложить не смогла. Я думаю, потому, что реальность оказалась за гранью возможностей литературы. Больше того – наступила эпоха за гранью жизни. Для нее есть единственный образ – Апокалипсис в Откровении Иоанна Богослова.
О Православной Церкви
– Вопрос: что лучше для народной нравственности – атеистическое государство, предлагающее под своей вывеской евангельские заповеди, или государство неограниченных свобод, где не утесняется вера, но махровым цветом расцвело зло, направленное как против веры, так и вообще против нравственности? Церковь освобождена от теснений, но отдана на растерзание всем, кому она мешает. Православие стараются расколоть, растлить и обезобразить с помощью «свобод». Этим и сейчас занимаются вовсю, против него еще больше будут стянуты все воинствующие силы. В грязном мире, который представляет из себя сегодня Россия, сохранить в чистоте и святости нашу веру чрезвычайно трудно. Нет такого монастыря, нет такого заповедника, где бы можно было отгородиться от «мира». Но у русского человека не остается больше другой опоры, возле которой он мог бы укрепиться духом и очиститься от скверны, кроме Православия. Все остальное у него отняли или он промотал. Не дай Бог сдать это последнее. Помните, у В.Шукшина: «Народ весь разобрался». Но тогда он еще не «разобрался». У Шукшина это было предчувствие возможного, а теперь убери или даже ослабь духовную связующую силу – и все, больше связаться нечем. В этой связи я бы и рад согласиться с мнением, что мы превратились чуть ли не в профессиональных плакальщиков, что картина современной России не столь мрачная, как нам представляется... Рад бы, но... Достаточно поглядеть вокруг.
Вот вам жизнь моей родной деревни на реке Ангаре, теперь там Братское водохранилище. Судите сами, жизнь ли это? 50 лет назад моя Аталанка была перенесена из зоны водохранилища на елань, сюда же свезли еще 5 соседних деревень. Вместо колхозов стал леспромхоз. С началом перестройки он пал смертью храбрых на рыночном фронте. В большом поселке совершенно негде стало работать. Магазин и пекарню закрыли, школа сгорела (правда, сейчас ее отстроили заново), солярку покупать не на что, электричество взблескивало ненадолго в утренние и вечерние часы. Но это еще не вся беда. Воду в «море» брать нельзя, заражено много чем, а особенно опасно – ртутью. Рыбу по этой же причине есть нельзя. Почту могут привезти раз в неделю, а могут и раз в месяц. И если бы в таком аховом положении была одна моя деревня... Их по Ангаре, Лене, Енисею множество. Никакого сравнения не только с войной... сравнивать не с чем. И тем не менее петь отходную я бы не стал. Человек возвращается в жизнь и из состояния клинической смерти, то же самое чудо способно произойти и с государством. Конечно, это происходит в том случае, если всерьез берутся за его спасение, а не делают ложных движений.
Как сейчас понять русский народ?
– Мы не знаем, что происходит с народом, сейчас это самая неизвестная величина. Албанский народ или иракский нам понятнее, чем свой. То мы заклинательно окликаем его с надеждой: народ, народ... народ не позволит, народ не стерпит.. То набрасываемся с упреками, ибо и позволяет, и терпит, и договариваемся до того, что народа уже и не существует, выродился, спился, превратился в безвольное, ни на что не способное существо. Вот это сейчас опаснее всего – клеймить народ, унижать его сыновним проклятием, требовать от него нереального образа, который мы себе нарисовали. Его и без того беспрерывно шельмуют и оскорбляют в течение 20-ти лет из всех демократических рупоров. Думаете, с него все как с гуся вода? Нет, никакое поношение даром не проходит. Откуда же взяться в нем воодушевлению, воле, сплоченности, если только и знают, что обирают его и физически, и морально. Да и что такое сегодня народ? Никак не могу согласиться с тем, что за народ принимают все население или всего лишь простонародье. Он – коренная порода нации, рудное тело, несущее в себе главные задатки, основные ценности, врученные нации при рождении. А руда редко выходит на поверхность, она сама себя хранит до определенного часа, в который и способна взбугриться, словно под давлением формировавших веков.
Достоевским замечено: «Не люби ты меня, а полюби ты мое» , – вот что вам скажет народ, если захочет удостовериться в искренности вашей любви к нему». Вот эта жизнь в «своем», эта невидимая крепость, эта духовная и нравственная «утварь» национального бытия и есть мерило народа. Так что осторожнее с обвинениями народу – они могут звучать не по адресу. Народ в сравнении с населением, быть может, невелик числом, но это отборная гвардия, в решительные часы способная увлекать за собой многих. Все, что могло купиться на доллары и обещания, – купилось; все, что могло предавать,– предало; все, что могло согласиться на красиво-унизительную и удало-развратительную жизнь, – согласилось; все, что могло пресмыкаться, – пресмыкается. Осталось то, что от России не оторвать и что Россию ни за какие пряники не отдаст. Ее, эту коренную породу, я называю «второй» Россией, в отличие от «первой», принявшей чужую и срамную жизнь. Мы несравненно богаче: с нами – поле Куликово, Бородинское поле и Прохоровское, а с ними – одно только «Поле чудес».
О СМИ и опыте над крысами
– Я странный человек, я изначально не люблю телевидение. Даже когда оно было приличным. «Доставка на дом» всего и вся меня не устраивает. Спектакль нужно смотреть в театре, книгу обсуждать с друзьями, на футбол ходить на стадион. Сидеть несколько часов подряд, уставившись в светящийся угол, и потреблять то, что на тебя вываливают, – это и неестественно, и как-то глупо. И можно было с самого начала не сомневаться, что огромные возможности телевидения будут использованы во вред человеку. Как есть женщины, не способные к постоянству, так есть и искусства, придуманные в недобрый час, предрасположенные к уродству. А сегодняшнее российское тв – самое грязное и преступное в мире. Я его перестал смотреть, разве что изредка новости, и участвовать в нем желания не испытываю. Там «свои». Одержимые одной задачей, составляющие один «батальон» лжи и разврата.
«Дьявол с Богом борются, и поле битвы – сердца людей» – эти слова Достоевского будут вечным эпиграфом к человеческой жизни. В каждом человеке сидят два существа: одно низменное, животное и второе – возвышенное, духовное. И человек есть тот из двух, кому он отдается. Да, многие привыкли к той телевизионной жвачке, которой пичкают их с утра до вечера, многим она нравится. И боевики со стрельбой и кровью, и Содом в обнимку с Гоморрой, и пошлости Жванецкого с Хазановым, и эпатажи Пугачевой, и «Поле чудес», и прочее-запрочее. Ну что же – на то и сети, чтобы ловить наивные души. Одно можно сказать: жалко их, сидящих то ли на крючке, то ли на игле.
Сейчас уже ничему нельзя удивляться. Но на меня произвела впечатление информация в одной из газет об опытах над крысами. Их приучили лапками нажимать на кнопки, которыми регулируется подача в центры удовольствия (есть такие и у людей, и у животных) электрических толчков малой мощности. Выставлялись эти электрические приборы, а неподалеку выставлялась пища. Крысы, погибая от голода, не могли оторваться от кнопок, которые посылали им удовольствия. Вот так-то!
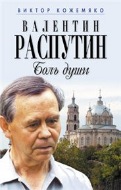
Есть ли у нас перспективы?
– Боюсь, года через 2-3, ежели ничего не изменится, и волынка с властью, которая служит чужим интересам, будет продолжаться, то Россию силой заставят принять капиталистические «завоевания», а они к тому времени станут еще разительнее и свирепее. С Россией уже сейчас не считаются, и чем дальше, тем меньше будут считаться. Государство, сознательно убивающее самое себя, – такого в мире еще не бывало. На нее, слабеющую все больше и больше, уже заведены свои планы, свои расчеты, и потерять Россию как своего вассала, потерять ее с возвращением в самостоятельную и самодостаточную величину не захотят. Вот мы с вами говорим, а я все думаю: для чего говорим, кого и в чем хотим убедить? Экономисты считают, что с той экономикой, которая у нас осталась, Россия уже не должна жить, и если она худо-бедно живет, то только за счет того, что проматывает наследство предыдущих поколений и расхищает наследство, которое необходимо оставить поколениям будущим. Россию обдирают как липку и «свои», и чужие – и конца этому не видно. Для Запада «разработка» России – это дар небес, неслыханное везенье, Запад теперь может поддерживать свой высокий уровень жизни еще несколько десятилетий. Ну, а домашние воры, полчищами народившиеся из каких-то загадочных личинок, тащат буквально все, до чего дотягиваются руки, и тащить за кусок хлеба им помогают все слои населения. Повалили Отечество и, как хищники, набросились на него – картина отвратительная, невиданная!
20 лет назад мировое государство с единым правительством, единой экономикой и единой верой могло еще считаться химерой. После крушения СССР и прихода в России к власти демократической шпаны, с восторгом докладывавшей американскому президенту об успехах разрушения, мир в несколько лет продвинулся в своих мондиалистских усилиях дальше, чем за многие предыдущие столетия. Пал бастион, которым держались национальное разнообразие и самобытные судьбы. После открытия Америки и устроения там могучего космополитического государства прорыв в Россию стал главным событием 2-й половины прошлого столетия. Это слишком важная победа, чтобы ее захотели отдать обратно. Сейчас Запад еще прислушивается: что происходит в недрах нашей страны? – а через 2-3 года с нами начнут поступать так же, как с Ираком и Фолклендскими островами.
Объявлять конкурс на национальную идею – все равно что объявлять конкурс на мать родную. Это абсурд, который может прийти в голову только сознательным путаникам, взявшимся наводить тень на плетень. Вообще «верховные» поиски объединительной идеи шиты белыми нитками и имеют целью не что иное, как сохранение своей власти, приведение к присяге ей всей России. Этого никогда не будет. Сегодня заканчивается расслоение России не только на богатых и бедных, но и на окончательно принявших теперешний вертеп и окончательно его не принявших. Это гораздо больше, чем классовые расхождения в 1917 г.
Национальную идею искать не надо, она лежит на виду. Это – правительство наших, а не чужих национальных интересов, восстановление и защита традиционных ценностей, изгнание в шею всех, кто развращает и дурачит народ, опора на русское имя, которое таит в себе огромную, сейчас отвергаемую, силу, одинаковое гос. тягло для всех субъектов Федерации. Это – покончить с обезьяньим подражательством чужому образу жизни, остановить нашествие иноземной уродливой «культуры», создать порядок, который бы шел по направлению нашего исторического и духовного строения, а не коверкал его. Прав был М.Меньшиков, предреволюционный публицист, предупреждавший, что никогда у нас не будет свободы, пока нет национальной силы. К этому можно добавить, что никогда народ не будет доверять государству, пока им управляют изворотливые и наглые чужаки! От этих истин стараются уйти – вот в чем суть «идейных» поисков. Полит. шулеры все делают для того, чтобы коренную национальную идею, охранительную для народа, подменить чужой национальной или выхолостить нашу до безнациональной буквы.
Можно ли надеяться на молодежь?
– У меня впечатление, что молодежь-то как раз не «вышла» из России. Вопреки всему, что на нее обрушилось. Окажись она полностью отравленной и отчужденной от отеческого духа, в этом не было бы ничего удивительного, потому что от начала перестройки она вырастала в атмосфере поношения всего родного и оставлена была как гос. попечением, так и попечением старших поколений, которые разбирались между собой и своими партийными интересами. Из чего я делаю эти выводы? Из встреч с молодежью в студенческих и школьных аудиториях, из разговоров с ними, из наблюдений, из того, что молодые пошли в храмы, что в вузах опять конкурсы – и не только от лукавого желания избежать армии, что все заметней они в библиотеках. Знаете, кто больше всего потребляет «грязную» литературу и прилипает к «грязным» экранам? Люди, близкие к среднему возрасту, которым от 30-ти до 40-ка. Они почему-то не умеют отстоять свою личностность. А более молодые принимают национальный позор России ближе к сердцу, в них пока нетвердо, интуитивно, но все-таки выговаривается чувство любви к своему многострадальному Отечеству.
Молодежь теперь совсем иная, чем были мы, более шумная, открытая, энергичная, с жаждой шире познать мир, и эту инакость мы принимаем порой за чужесть. Нет, она чувствительна к несправедливости, а этого добра у нас– за глаза, что, возможно, воспитывает ее лучше патриотических лекций. Она не может не видеть, до каких мерзостей доходят «воспитатели» из тв, и они помогают ей осознать свое место в жизни. Молодые не взяли на себя общественной роли, как во многих странах мира в период общественных потрясений, но это и хорошо, что студенчество не поддалось на провокацию, когда вокруг него вилась армия агитаторов за «свободу». Еще раз повторю: сбитых с толку и отравленных, отъятых от родного духа немало. Даже много. Но немало и спасшихся и спасающихся, причем самостоятельно, почти без всякой нашей поддержки. Должно быть, при поддержке прежних поколений, прославивших Россию.
Публикацию подготовил протоиерей Михаил Ходанов
11.03.2008. Православие.ru
http://www.pravoslavie.ru/smi/36504.htm
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 23 Мар 2020, 14:10 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | РОЖДЕННЫЕ ОТ ЕВАНГЕЛИЯ
Памяти писателя В.Г. Распутина

С В.Распутиным мы познакомились в 2007 г., когда во МХАТе им. Горького Т.В. Доронина взялась устроить праздник ко дню его 70-летия. Их связывали долгие годы почтительной дружбы. Не единожды писатель вставал на защиту МХАТа во дни тяжких гонений, которые устраивали «доронинцам» либералы, желавшие уничтожить национальный театр и заполучить роскошное здание в самом центре Москвы. Как известно, нет более проверенной и надёжной дружбы, чем фронтовая – стоящие по одну сторону баррикады два русских гения представляли мощную связку, против которых на тот момент не мог пойти никто. В то время на сцене МХАТа уже очень давно шёл спектакль «Прощание с Матёрой» по повести Валентина Григорьевича – шёл уверенно и с неизменным успехом, правда, давали его нечасто. Необыкновенно русский и очень атмосферный – это был спектакль для избранных. Говорят, Распутин – писатель-деревенщик. Однако со времён МХАТовской «Матёры» я так и не смогла понять, почему. Какое-то прокрустово ложе для великана. Нет, в моём представлении творчество Распутина – это русский космизм, или мистический реализм. Произведения писателя привольно существуют в пределах христианской эсхатологии, а по своей глубине и многослойности напоминают более всего притчи, в которых говорится прикровенно, ненавязчиво, но неизменно о вечном.
Работая во МХАТе, я не пропустила ни одной «Матёры» и знала текст повести фактически наизусть. Перед зрителями поднималась огромная и страшная тема «гибели», как катастрофической неизбежности. Конечно же, «Прощание с Матёрой» Распутина на самом деле было прощанием с Россией. Сама Россия уходила под воду, унося с собой царственное величие помазанницы Божьей на века. Боль страдающего сердца писателя обострялась до крестной, пронизывала всё сценическое пространство, глубоко раня сердца зрителей и моё тоже. Распутин оказался, в высшей степени, художником реалистическим, и было совершенно невозможно отделить пространство худ. вымысла от того, что происходило в то время в стране, в умах и сердцах людей. Я столкнулась с настоящим таинством и подлинным искусством. Конечно же, любовь к творчеству Распутина не была для меня случайной. В силу возраста и личных особенностей в юности я много чувствовала, но мало понимала – жила как-то более интуитивно, на ощупь. Точнее, даже не жила, нет… выживала. Это было какое-то маленькое мученичество – поиск себя в мире, в котором моей душе словно не было места, где неизбежно я оказывалась чужой: не вписывалась, не могла смириться – пропадала. Поэтому на тот момент Распутин и стал моим «alter ego», ведь он тоже – будто бы не жил, не вписывался. В нём чувствовался сильный надлом.
Да, он был великим и безмерно талантливым человеком, а я простой девчонкой, ещё совсем недавно студенткой – но болели мы с ним одной болезнью. Поражало, главным образом, то, как человек претворял свою боль в творчество. Моё «небытие» меня уничтожало, спихивало на обочину жизни, а его «небытие», каким-то чудесным образом, созидало. На воспалённом нерве страдающей души рождались потрясающие по глубине и драматизму произведения литературы. Глядя на подвиг жизни писателя, я постепенно понимала, как, каким образом в этом уходящем под воду русском мире можно выживать.Несмотря на то, что Распутина считали «певцом конца», почти все произведения которого пронизаны русской эсхатологией, для меня он вдруг стал писателем жизнеутверждающим. Пройдут какие-то полгода, и я пойму, как много света зиждилось в трагедии Распутина, жизнь которого обреталась вопреки и руководилась законами божественной логики, не имеющей с человеческой ничего общего. Здоровое созидательное «бытийство» Распутина-человека вдохновляло и вселяло надежду – долгожданную и вполне выстраданную …
«Мученичество не для того, чтобы умирать, но для того, чтобы жить вечно» – в проникновенном разговоре скажет мне позже Валентин Григорьевич. Удивительно, но мне, на тот момент ещё не воцерковлённой, откроется именно духовный смысл сказанного писателем. Более того, вскоре слова Распутина прорастут в душе и станут принципом жизни. И это было, конечно же, от Бога! Первый раз вживую я увидела любимого писателя в кабинете Дорониной. Обсуждали сценарий юбилейного вечера. Обсуждали – это, конечно, громко сказано. Распутин молчал. Он очень смущался и не смел глаз поднять на великую русскую актрису. Но ведь и он был великим, уже давно признанным, любимым и востребованным. Словом, я была поражена! Какая-то необычайная чистота и скромность. Под конец обсуждения Валентин Григорьевич, точно извиняясь, аккуратно спросил у Татьяны Васильевны: «А может, всё-таки не надо?». Имея в виду, что не стоит вообще затевать никакого вечера, все эти банкеты, гости… не любил он пафоса – всего показного не любил. Потом стали подавать чай с пирожками, которые испекла Светлана Ивановна, супруга Валентина Григорьевича.
«А это наша Марья, – неожиданно произнесла Татьяна Васильевна, и я вздрогнула,
– Маша Мономенова, она к нам из газеты «Советская Россия» пришла».
Гости резко обернулись, заметив, что всё это время на стуле в углу, оказывается, кто-то сидел. И вдруг Валентин Григорьевич сказал, что знает меня, что читал, и что я молодец. Первый раз за всё время он улыбнулся. Боже, сам Распутин сказал, что я молодец! Счастью не было предела! Отлично зная о моей непосредственности, недолго думая, Татьяна Васильевна усадила меня за стол и… предоставила шанс.
Расчёт актрисы и знатока человеческих душ оказался верным: мой детский, но очень искренний лепет сразу растопил сердца гостей – за чаем стало как-то особенно тепло и душевно. Потом Доронина рассказывала про Товстоногова и БДТ, Распутин – про любимый Иркутск. И тут я поняла, что писатель совершенно не умел говорить, он даже немного заикался. При том богатстве языка, которым изобиловали его произведения, это казалось почти невозможным. Но в нем было столько чистоты, незлобия, скромности, смирения, обаяния, а главное, души, что постепенно я поняла: Распутин должен быть именно таким. Да, я его узнала и не могла поверить своему счастью: любимая мною страдающая его душа смотрела теперь на меня живыми человеческими глазами, показавшимися мне, впрочем, почему-то немного странными. Позже я узнала, что «странными» глаза у Валентина Григорьевича были оттого, что он стремительно слепнул. Это было следствием драмы, о которой рассказывали потом писатели В.Крупин и А.Щербаков. Оказалось, что в 70-е годы Распутина дважды убивали: в Красноярске и в Иркутске его сильно избили какие-то хулиганы, когда он ночью возвращался в общежитие «технолажки», где они с женой снимали комнату. Избили жестоко, так что пришлось даже делать операцию. Потом, когда Валентин Григорьевич приходил в театр на прогоны юбилейного вечера, а это было всего два раза, мне поручили встречать писателя и поить у себя в кабинете чаем. Конечно, это были совсем короткие встречи. Короткие, но незабываемые! Надо сказать, что Валентин Григорьевич расположился ко мне как-то особенно по-доброму, словно даже по-родственному. Я связывала это вот с чем. Не прошло и года со времени трагической гибели его любимой дочери в авиакатастрофе. Между ними, как рассказывали, были очень близкие отношения, и писатель крайне болезненно переживал утрату. Дочку тоже звали Машей – поэтому я и думала, что Валентин Григорьевич так добр ко мне из-за того, что я напоминала ему его Машу, Марию Валентиновну.
Вспоминая сейчас те короткие встречи, не могу не рассказать вот о чём. Ещё в 90-е годы писатель фактически полностью ушёл из литературы в публицистику. Последнее его худ. произведение – повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» датирована 2003 г. Я вполне понимала, почему Распутин замолчал – прежде всего, это было связано с его здоровьем, - но, пользуясь случаем, не упустила возможности попросить его написать хоть самое крошечное, но именно худ. произведение.
«Валентин Григорьевич, – сказала я, – сейчас вам открыто много больше, чем год или два назад. Того Распутина, который сидит сейчас передо мной, литература не знает. Почему-то я уверена, что именно сейчас вам есть, что сказать миру».
Валентин Григорьевич оживился и сказал, что я совершенно права, что именно внутренняя изменчивость, текучесть – являются для него признаком духовного и творческого здоровья. Советовал никогда не останавливаться на достигнутом и постоянно чему-то учиться. Еще сказал, что, оборачиваясь назад в прошлое, очень часто не узнаёт себя, а старые свои произведения читает, как не свои – столь стремительной была его внутренняя жизнь. Насчёт того, чтобы что-то написать, он очень твёрдо ответил «нет».
«Понимаешь, Маша, – сказал Валентин Григорьевич, – в русском языке нет таких слов и образов, которые могли бы передать масштаб происходящей сегодня с нашей страной и со всеми нами трагедии. Лучше "Апокалипсиса" апостола Иоанна о наших временах всё равно никто не напишет».
Помню, в тот же день, не откладывая, я впервые прочитала самую загадочную книгу Нового Завета – Откровение тайновидца Иоанна Богослова. Это было потрясение! Россия впервые предстала передо мной в образе Земли обетованной. «Рождёнными от Евангелия» назвал однажды русский народ В.Распутин. Постепенно я понимала, почему в моей жизни начиналась «эпоха воцерковления».
Мария Мономенова – член СЖ России
17.03. 2020. газета "Столетие"
http://www.stoletie.ru/kultura/rozhdennyje_ot_jevangelija_330.htm
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 18 Мар 2022, 17:43 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | К 85-летию со дня рождения
МАТЕРА НЕБЕСНАЯ

15 марта 2022 г. великому русскому писателю В.Распутину исполнилось бы 85 лет. По промыслу Божиему он появился на свет спустя 20 лет именно в тот самый день, когда была явлена одна из святынь нашего Отечества – Державная икона Божией Матери. Жизнь писателя неразрывно была связана с монастырями. Могила Валентина Григорьевича находится в Знаменском женском монастыре Иркутска, где он часто бывал при жизни, исповедовался, причащался, куда привозил свою старенькую маму. Крещение Распутин принял на подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Ельце, бывал в Оптиной пустыни, на Святой Горе Афон…
«Без Бога нет смысла жить, не то, что писать», – говорил Валентин Григорьевич. В его творчестве нашли отражение глубокое понимание души своего народа, чуткое отношение к ней, – качества, которые были присущи Распутину, как подлинному представителю Русского мира с его духовностью и культурой. Творчество Распутина любимо читателями нескольких поколений Советского Союза, современной России. Распутина и его коллег – Астафьева, Абрамова, Шукшина, Белова, Крупина – критики назвали «писателями-деревенщиками». Как личную боль они воспринимали исчезновение деревни и исконно русского мира. Да, писали о деревне, но это – лишь фактура. А человеческие характеры, чувства, христианские, нравственные вопросы – всё это большая литература, унаследовавшая традиции русской классической. Распутин утверждал, что литература – это летопись народа. Он строго и несуетно вёл эту летопись, переживал и рассказывал о трагических поворотах отечественной истории. На страницах своих повестей и рассказов, в публицистических статьях обращался к важнейшим духовно-нравственным ценностям.
Книги Распутина переведены на разные языки мира, стали явлением не только в литературе, но и в общественной жизни. Его повести «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и «Живи и помни» входят в школьную программу по литературе. Распутин был невероятно требовательным к себе – редкое сейчас качество. Скромный, сдержанный, невероятно совестливый, как будто даже застенчивый, он избегал суеты .Как общественный деятель сделал немало. Защищал родной Байкал. Во многом благодаря ему остановлен безумный проект по повороту северных рек. Для писателя, выросшего в маленькой Аталанке на Ангаре в крестьянской семье, главная трагедия жизни – это гибель деревни, потеря нравственных ориентиров, физическая гибель села, из которого молодежь уезжает в город.
«Сменив лицо этой реки, они меняют лицо сознания человеческого, и уже непоправимо его меняют. Уходит какая-то огромная часть жизни, она умирает здесь. Без реки, без Ангары нашей никто не проживет. Все реки мимо Бога протекают. Он в них смотрит и каждого из нас видит». – говорит в док. фильме «Река жизни» В.Распутин.

Валентин Григорьевич писал просто, без вычурностей, опираясь на свой сибирский язык, не пытаясь никому угодить. Критика восхищалась и восхищается красотой распутинского языка, бережным отношением к героям, тонким психологизмом, выразительными средствами и удивительной поэтикой произведений Распутина.
«Самый русский, самый ответственный за понятие русского писателя, он не мог себе позволить ни одного расслабляющего слова, ни одного неправильно истолкованного понятия», – подчеркивал его друг, писатель и литературовед В.Курбатов. Повести Распутина, где он мастерски рисует внутренний мир героев, показывая себя не только внимательным наблюдателем, но и тонким психологом, чутко улавливающим оттенки человеческого характера, – о силе русского и особенно женского характера.
«Мне всегда было интересно писать о женщинах. Это тягловая сила была в войну. Наши русские женщины – великие труженицы. Знаю это хорошо по своим маме и бабушке. Именно благодаря нашим русским женщинам страна выстояла в войну». – говорил Валентин Григорьевич.
«Японская переводчица, переводившая «Живи и помни», крестилась в православную веру с именем Анастасия, именем той самой Настёны. Она поняла, что такое величие характера, что такое женщина в самом высшем и совершенном разумении». – отмечал Валентин Курбатов.
«Распутин был исследователем тайны человеческой души, раскрывающейся в трагических обстоятельствах бытия, в которых благой выбор вовсе не предполагает благополучного земного исхода. Он дал русской литературе и русской жизни новых героев, явил новые характеры...». – отмечает прозаик, поэт, литературовед, профессор Литинститута им Горького, лауреат Патриаршей премии Олеся Николаева. Именно эти качества позволили ему стать классиком отечественной литературы.
«Без Бога, нет смысла жить, не то, что писать». – говорил писатель.
«Валентин Григорьевич стал православным в зрелом возрасте, будучи уже известным писателем. В 1978 г., за два года до празднования 600-летия Куликовской битвы, он совершил поездку в составе группы литераторов, искусствоведов по святым для каждого православного русского человека местам. Побывал на поле Куликовом, месте военной и духовной победы русского войска, в Оптиной пустыни, о которой знал с юности, со студенческих лет, читая произведения русских классиков. Приехал в один из старейших городов России – Елец. Здесь Распутин познакомился с иеромонахом Нектарием (Овчинниковым), беседа с которым открыла для него огромный неведомый мир – мир русского православия, русской духовности.
«Мало что помню из нашей беседы, но помню только то, что когда выходил от него, понял – Это случилось. Случилось какое-то духовное преображение, уже не Мира, как на поле Куликовом, а моё духовное преображение. Уже тогда было ясно, что без Крещения нельзя, и это Крещение должно происходить здесь, в Ельце, который обладал каким-то особым сиянием», – написал он позже»».
В 1980 г. Распутин принял Крещение, что по тем временам расценивалось советской идеологией как «духовное закабаление человека и его опускание до уровня ничтожества».
«…он принял Крещение на Сергиевом подворье в Ельце. Крещение совершил архимандрит Исаакий (Виноградов), один из насельников Троице-Сергиевой лавры, который к тому времени обустроил в Ельце Сергиевом подворье. Крестным отцом новокрещаемого стал иеромонах Нектарий. К Крещению, как мне кажется, он готовился всю свою сознательную жизнь. Ещё в молодые годы его часто тянулся в старейший в Иркутске Знаменский монастырь, где находилось епархиальное управление и покои владыки Вениамина (Новицкого). Неоднократно там бывал вместе с А.Вампиловым и В.Шугаевым. Ещё в 60-70-е годы он прочитал недоступные советскому читателю книги Н.Бердяева, Г.Федотова, В.Соловьёва, К.Леонтьева. Может быть, именно тогда он прочитал и запомнил слова К.Леонтьева об особой афонской чистоте и святости. – вспоминает Т.Якутина.
Как он позднее написал об этом в своём очерке «На Афоне», Афон позвал его к себе. Случилось это событие в 2004 г. Вместе с С.Ямщиковым и А.Пантелеевым он две недели прожил в Свято-Андреевском скиту на Святой Горе Афон. Ещё не зная того, что и сам этот скит, и громаднейший Собор Апостола Андрея Первозванного были построены на деньги его земляка, золотопромышленника-миллионера, иркутского купца Первой гильдии, благотворителя и мецената И.М. Сибирякова.
Именно в те годы, 2003-2005, когда я работал обозревателем газеты «Гудок», где впервые в нескольких номерах был опубликован очерк «Афон» В.Распутина, которым мы все в редакции зачитывались, я имел честь познакомиться с Валентином Григорьевичем, довелось слышать его выступления на Всемирном Русском Народном Соборе, несколько раз беседовать с ним. В начале 1990-х, видя как многие люди потянулись в храмы, Распутин ощущал особую духовную радость: «Россия медленно приходила в себя от наваждения, во время которого она буйно разоряла себя, и вспомнила дорогу в храм. Но вспомнить дорогу ещё не значит пойти по ней. Россия, быть может, только приготовляется к вере. Времена разорения души даром не прошли; проще восстановить разрушенный храм и начать службу, чем начать службу в прерванной душе. В ней нужно истечь собственному источнику, чтобы напитать молитву, которая, прося даров, могла бы поднести и от себя». – писал Распутин в статье «Из огня да в полымя»

Писатель прекрасно понимал, что это лишь начало долгого духовного пути. Он стоял у истоков Всемирного Русского Народного Собора. Он удостоен ордена прп. Сергия Радонежского (I степени). Стал лауреатом премии Международного фонда единства православных народов. – с момента основания и до последних своих дней он участвовал в работе ВРНС. Входил в состав Патриаршего Совета по культуре.
В полюбившийся ему Знаменский монастырь, он привозил свою старенькую маму, Нину Ивановну. А с февраля 1990 г. стал общаться с новым епископом Иркутским и Читинским, ныне митрополитом Иркутским и Ангарским Вадимом (Лазебным).Завязалась дружба. Результатом этого общения стало воцерковление писателя. Он стал часто бывать на службе в монастыре, исповедался и причащался. Посещал службы и в Михаило-Архангельском Харалампиевском храме, где в советские годы находилось студенческое общежитие. По его инициативе и при поддержке Владыки Вадима в области стали проводиться Дни русской духовности и культуры «Сияние России», началось издание православно-патриотической газеты «Литературный Иркутск». Результатом их совместных трудов стало открытие в 1996 г. в Иркутске православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Началось строительство храмов в Иркутске, Саянске, Усть-Уде, где писатель учился в школе. Благодаря его усилиям появился храм на родине свт. Иннокентия (Вениаминова), просветителя Камчатки, Аляски и Алеутских островов. Собранные на протяжении жизни книги писатель дарил приходским библиотекам области.
После трагической гибели любимой дочери Марии, талантливого музыканта, в авиакатастрофе под Иркутском в 2005 г. и смерти жены, Валентин Григорьевич особенно замкнулся. У него была квартира в Москве, но жил он в ней затворником. В последние годы жизни избегал прессы и жил не по расхожим понятиям о звездности – скромно, как в скиту. Отогревался душой только в Сибири, в Иркутске, на родной Ангаре.
Валентин Григорьевичу шёл из жизни в Москве за несколько часов до своего 78-летия (14 марта 2015 г., когда в Иркутске уже наступил новый день, 15 марта, день рождения Валентина Григорьевича). Закончилась его земная жизнь, началась небесная. Перед смертью писатель исповедался, пособоровался и причастился Святых Христовых Таин.

Отпевание почившего в ХХС совершил Святейший Патриарх Московский Предстоятель в день кончины писателя на богослужении в Калининграде совершил отдельную заупокойную молитву о новопреставленном Валентине. Святейший выразил соболезнование родным и близким писателя: «Почивший принадлежал к числу тех наших выдающихся современников, кого ещё при жизни считали классиком, на чьих книгах выросло не одно поколение читателей. Творчество Распутина проникнуто горячей любовью к России и её народу. Он был настоящим художником слова, глубоко чувствующим самобытную красоту и силу русского национального духа. Всю свою жизнь писатель посвятил служению непреходящей истины, которую обрел в Православной Церкви, став её верным сыном».

19 марта 2015 г. тело Валентина Григорьевича было предано земле в Знаменском женском монастыре в Иркутске, одной из старейших обителей его родной Сибири. Панихиду и литию по рабу Божьему Валентину отслужил Митрополит Вадим. Владыка безмерно уважал и почитал талант писателя.
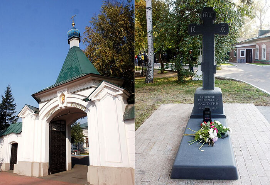
Освящение надгробного памятника на могиле Валентина Григорьевича – в виде православного креста по решению семьи писателя – было совершено митрополитом Иркутским и Ангарским Вадимом. 26 сентября 2016 г. и приурочено к дням празднования русской духовности и культуры «Сияние России».
«Мне бы хотелось, чтобы вы в своем сердце сохранили светлую память о В.Распутине. Не просто о нём как о человеке, как писателе, но прежде всего, о его духовном наследии, которое он завещал всем нам, его неподдельную, самоотверженную любовь к людям, его беззаветную любовь к Отчизне, любовь к своей земле, любовь и к вам». – сказал владыка Вадим.
Николай Головкин
16.03. 2022. Монастырский вестник
https://monasterium.ru/publikatsii/stati/matyera-nebesnaya/
ПОЧЕМУ НАДО ЧИТАТЬ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

1937 г. по восточному календарю был Годом Огненного Быка, и тогда не только происходили массовые репрессии, но и родилось очень много прекрасных писателей: В.Распутин, А.Вампилов, В.Маканин, Б.Ахмадулина, Ю.Мориц, О.Чухонцев, А.Битов и еще филолог и культуролог С.Аверинцев. И еще В.Высоцкий. Все - "дети 37 года". Что было причиной поколенческого "чуда"?
Считается, что одной из причин был запрет на аборты. Проблема "отцов и детей" решалась просто. Одних отцов посадили, даже расстреляли, но раньше все-таки позаботились о демографическом росте как раз накануне страшной войны. Во время войны отцы, которые были на свободе, пошли на фронт, а оставшиеся в тылу матери тащили на плечах этот голодный "демографический рост". Об этом автобиографический рассказ "Уроки французского". Это - зерно, из которого выросло всё его творчество. Отца нет. Мать послала ребенка в город учиться, а уж как там его прокормят родственники - дело десятое. Подкармливает школьная учительница. Но не только подкармливает, а еще и воспитывает, сама одновременно вместе с ним воспитываясь, потому что еще очень молода. Так растут две личности.
Он очень мало написал: 6 повестей, около 10 рассказов. Писал экономно, острым карандашом и такими микроскопическими буквами, что целый рассказ умещался на листе бумаги. Странно, но бережливостью к бумаге отличался другой гений русской литературы - Л.Н. Толстой. Это вроде бы мелкая психологическая деталь, но она важна. Бумага не всё стерпит, как принято говорить. При малом количестве написанного у Распутина удивительно много шедевров. "Уроки французского", "Живи и помни", "Последний срок", "Прощание с Матёрой". Это уже несомненная классика. Но перечитайте также два его рассказа, которые в свое время прошли не особенно замеченными - "Что передать вороне" и "Рудольфио". Два маленьких рассказа и два, на мой взгляд, мировых шедевра.
У Распутина, кажется, вообще не было "хэппи-эндов" в творчестве. Но в нем столько боли и столько душевного света, что, перечитывая его, я, честное слово, каждый раз становлюсь лучше, деликатнее, что ли, в отношении к другим людям. Более ранний рассказ "Василий и Василиса" - абсолютный шедевр! Это и гениальная иллюстрации к теме Прощеного Воскресенья, смысл которого мы порой понимаем слишком просто, шутливо прося нас простить и близких, и малознакомых людей, и целый роман о жизни одной семьи, который уместился на пространстве рассказа. Чувство вины - сквозное в творчестве Распутина. Он очень русский писатель и, боюсь, никогда не будет до конца понят на Западе. Это и историческая вина, и вина человека перед природой, и просто вина за то, что мы творим сами с собой.
"Господи, поверь в нас!" - молится герой рассказа "Что передать вороне". Не в том проблема, чтобы мы поверили (или не поверили) в Бога, а в том, чтобы Он в нас поверил. Что мы здесь не зря, не ошибка природы, не губители того подарка, который Он нам дал - прежде всего собственной жизни. Читать Распутина трудно, порой мучительно, но всегда после чтения его прозы становишься чуточку лучше. Душевно тоньше. Ранимее. Благодарнее другим. Ответственнее за себя. И это - очень, очень много! Большего от литературы и требовать-то невозможно.
В 1976 г. на Франкфуртской ярмарке В.Распутин передал свою книгу для писателя-эмигранта В.Некрасова, творчество которого очень ценил. Спустя какое-то время ему из Парижа пришла бандероль с тремя яблоками. Не было ни обратного адреса, ни имени, ни записки. Это был привет от Некрасова и напоминание о финале рассказа "Уроки французского", где учительница посылает посылку для мальчика с тремя красными яблоками.
Павел Басинский
15.03. 2022. журнал "Родина"
https://rg.ru/2022/03/15/valentinu-rasputinu-ispolnilos-by-85-let.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 22 Мар 2025, 19:23 | Сообщение # 7 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | К 10-годовщине памяти великого русского писателя
РАСПУТИНСКОЕ СЛОВО

А вдруг всё это приснилось, всё, что началось в день его рождения, с 15 марта. И этот предполуночный звонок, и ночное радио, и утреннее телевидение, и храм Христа Спасителя, и люди, люди, люди, и гроб, утонувший в цветах, и Патриарх, и облегчающее душу отпевание и долгий перелет навстречу рассвету. Ангара, Знаменский монастырь, и снова люди, люди, люди, и митрополит, и холм жёлтого песка, и резной Крест, и гора цветов над могилой, и шеренги венков у стен церкви, вдруг всё это приснилось? И это холодное мартовское солнце. И этот мужчина у могилы, земляк писателя, который горестно восклицал, обращаясь к фотографии: «Валентин, а чего же Григорий-то и Нина не приехали? А ты ведь столько им помогал». И этот осиротевший Иркутск. Было ли? Да, всё было. И тяжелейший обратный путь из Сибири к закату.
Давным-давно, не помню от кого, услышал я выражение: «В мире одно счастье – Бог, остальное страдания». Вначале всё во мне сопротивлялось: а как же радости жизни, и улыбки и книги, реки и моря? Но ведь это всё вечно только для Бога, для нас мгновение, вскрик в ночи. Как ни живи, а впереди смерть. Если ребёнок родился, он умрёт. Чему радоваться? И второе, уже евангельское: «Мир во зле лежит. Злу не положено предела». Да, так. Конечно, мы верим, что Господь поразит зло, но Он поразит его в полном объёме, а для этого оно и должно открыться в своей полноте. А наше дело спасти себя. Мы на земле в командировке, посланы в неё, чтобы заработать вечную жизнь. Она же есть! Не умер же преподобный Сергий Радонежский и все святые, они с нами.
Валентин Григорьевич очень любил св. Сергия. Исследователи творчества писателя проходят мимо главного в распутинских трудах, их духовной наполненности. Она и всегда была. Маленький ранний рассказ «Мама куда-то ушла» говорит о страданиях мальчика, который проснулся и увидел, что он всеми оставлен. Ему кажется, что он одинок, но кто-то же его видит, жалеет его? Конечно, Господь. Тогдашний автор взял на себя всеведение Бога: он был с мальчиком, но тот его не видел. Жалость автора передалась читателям и они своим состраданием помогают ребёнку пережить одиночество.
Распутин предчувствовал свою земную кончину. «Он лежал и вяло и безпричинно, будто с чужой мысли, мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть». Было в них что-то общее и кроме звучания. Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю». (Повесть «Пожар»). Много мартов пережил, нынешний не смог.
Главный секрет его таланта в том, что он глубоко православный, воцерковлённый человек, раб Божий. Его вера была сокровенна. За год до 600-летия Куликовской битвы он был на Поле Куликовом и написал о нём. Затем была работа «Ближний свет издалека» о прп. Сергии. И это были те вершины, по которым равнялись и остальные труды. Он крестился в Ельце в 1980 г.. Его духовным отцом был великий старец схиеромонах Нектарий, благословивший Валентина крестом последних оптинских старцев. Многие ли знают, что и Оптина пустынь была возвращена Православной церкви трудами Распутина. Это к слову сказать тем, которые всячески кусали писателя за «хождение во власть».
Когда мы читаем о мучениях христиан первых веков, то вот перед нами Распутин - их повторение в наших временах. Его дважды убивали, в Красноярске и в Иркутске, у него умер сын, погибла дочь, тяжело и долго умирала жена, и сам он шёл по лечебницам и больницам как измученный человек, как израненный воин. И при всём том, слышал ли кто от него хоть малую жалобу на болезни? Какой там! Его продолжали мучить, от него требовали постоянного присутствия на каких-то совершенно ненужных мероприятиях, у него рвали предисловия, а вырвав, умильно говорили: «Валентин Григорьевич, берегите себя». Как беречь, если тут же нападает другой-третий, поглощает его время, изнуряет нервы. Уносит здоровье. Воистину, жил среди писателей-вампиров.
Он был чужд обид на кого бы то ни было. Знал, что во всех своих несчастьях человек виноват прежде всего сам. Знал, что жизнь даётся для подготовки к вечности. Что ничего нечистое в Царство Небесное не войдёт. Что все испытания, беды, посылаются нам для очищения души. Главное – сохранить верность Богу. И что Крест не по силам Господь никому не даёт. В 2008 г. он был в Иерусалиме на схождении Благодатного огня. Как он выстоял в храме Воскресения многочасовое стояние-ожидание в жаре, тесноте, криках, это могло быть только с Божией помощью. Ведь уже и тогда он плохо себя чувствовал. Но всегда потом с радостью вспоминал тот день.
Он человек, которого полюбили и Восток и Запад, как русского человека, спасителя мира. В прямом смысле. Больше миру неоткуда ждать спасение. Только из России и от России. В силе своей прозы он неподражаем. Как назвать стиль его письма, манеру? Непонятно. Всякие критики тут бессильны. - «Как я пишу? Никогда ничего не выдумываю. Просто вспоминаю».
Его проза на вершине русской классики. Она – итог не только трехсотлетней истории русской литературы, больше, она захватывает ещё и устный период словесности. Но что главное – его проза – это ещё и прорыв к новым пространствам русского слова. Это пространство в заботе о спасении человека. От первородного греха. «Адам, где ты?» - воззвал Бог. И возвращение человека к Богу – это и есть его главная его цель. А для русского слова – возвращение к его главному назначению – служить достижению этой цели...
Когда будет новый Распутин? Никогда не будет. Он уже был. И остался. Лучше спросить: когда будет писатель такого же уровня? Это зависит от его ожидания. Русский язык способен помогать тому, кто верит в Бога и в Россию. Кто, как Распутин, будет понимать, что дело спасения человека не в полит. системе, не в деньгах, не в оружии, не в экономике, а в очищении в себе образа Божия.
И последнее. Значит, Господь любит Россию, если подарил ей Распутина.
Владимир Крупин
13.03. 2025. РНЛ
https://ruskline.ru/analitika/2021/03/14/rasputinskoe_slovo
БЕСКОНЕЧНАЯ МИНУТА МОЛЧАНИЯ

В свою книгу о новых мучениках и исповедниках Церкви Русской я включил статью о В.Г. Распутине не с тем, чтобы предложить его канонизацию, а чтобы засвидетельствовать о его бескровном мученичестве и исповедничестве. Речь идет не только о его многих личных скорбях - таких как гибель любимой дочери в авиакатастрофе или смерти супруги, с которой была связана вся его жизнь, не только о постоянной нескрываемой вражде к нему со стороны так называемых русофобов и даже опасном покушении на него неизвестными после его интервью на радио «Свобода» еще в советские годы. Речь идет о несравненно большем.
Как написала мне по телефону одна знакомая, узнав о его смерти: «Вот уж кто действительно был совестью нации».
Его лит. мир удивительно многообразен и сложен, и главная тема в нем - русский человек, Россия.
«Без Родины человек - духовный оборвыш, любым ветром может его подхватить и понести в любую сторону». - написал он, Но сейчас хочется остановиться на одной самой существенной, как мне кажется, черте его творчества. Мне кажется, особый дар Валентина Григорьевича - в молчании и в его способности научить нас молчанию. Об этом даре так или иначе упоминали все, кто размышлял тогда о его уходе, близкие ему по духу или по гражданской позиции: В.Крупин, В.Бондаренко, В.Личутин и в том числе такие, иные по стилистике молодые писатели, как З.Прилепин, С.Шаргунов и А.Шорохов. В чем секрет того, что знаменитые шестидесятники Аксенов, Гладилин, Евтушенко, Вознесенский писали как будто на совершенно другом, чем Распутин, языке? Несомненно, многие из упомянутых писателей были талантливы, но они были слишком погружены в то, что волнует этот «быстро изменяющийся мир».
Каждый сегодня может видеть, до какой степени трудно сохранять пространство и время молчания. Телевидение, радио и интернет осаждают ныне жизнь всех людей - дома, на работе, даже в общественном транспорте - 24 час. в сутки! В домах телевизор и радио остаются включенными, даже когда уже никто не смотрит и не слушает их. Их звучание служит как бы для того, чтобы не было молчания, которое может вызывать тревогу и даже страх. Полагать, что человек в этой ситуации может сосредоточиться и стать внимательным - чистая иллюзия. Что говорить, если уже никто не смеет открыто предложить эту тишину и это молчание как ценность, без которой невозможно выжить, ну хотя бы на время: дома, в школе или в той же электричке, или на местах отдыха. Непонимание молчания и боязнь его - то, что сегодня характерно не только для молодых, но и для пожилых. Все люди нуждаются в молчании, исполненном смысла и глубины.
Современный человек, может быть, более всего нуждается в нем, хотя он чаще всего не умеет молчать из страха встретиться с самим собой, обнаружить себя, ощутить пустоту, которая требует осмысления. «Скорей, скорей, дальше, вперед - главное не задумываться!». Современный человек намеренно оглушает себя шумом. И есть писатели, которые изо всех сил, всем своим талантом стараются угодить ему. На самом деле речь идет о самом главном в человеческой жизни. Все - верующие и неверующие - нуждаются в том, чтобы не лишиться тишины, а научиться молчанию, которое дает возможность Другому — так именуют древние св. отцы Бога - говорить с нами, таким образом и тогда, когда Он этого пожелает. А люди делаются способными услышать и понять Его слово.
Сегодня много и не без причин говорят о необходимости миссионерства. И в этом смысле Распутин - один из главных наших миссионеров. Неслучайно, когда была установлена Патриаршая премия за лучшие худ. произведения, которые учат подлинному добру, первым лауреатом ее, прежде всякого конкурсного рассмотрения, был назван Валентин Григорьевич. Большинство в нашем народе причисляют себя к православным, потому что крещены. Но приходят ли они в храм на богослужение? И если приходят, то как участвуют в нем? Как необходимо нам осознать ценность молчания для нормальной каждодневной жизни! И если возможно, то надо, чтобы молчание, которое присутствует в богослужении, благодаря этому становилось более понятным для нас. По крайней мере, для христианина этот процесс должен проходить в обратном порядке: от молчания богослужения - к повседневной жизни.
Вот, наверное, почему совершенно чуждый всякого рода общественной шумихе В.Распутин пришел в наш храм в начале 90-х годов прошлого века вместе со своим другом В.Крупиным, чтобы принять активнейшее участие в деятельности нашего комитета «За нравственное возрождение Отечества». Через некоторое время они отправились к патриарху Алексию II, чтобы получить от него благословение на противостояние нравственному геноциду нашего народа. Думается, что не без их влияния патриарх Алексий II произнес через какое-то время эти дерзновенные слова: «Идет война, направленная на уничтожение нашего народа. И ни один мирянин, тем более священник, не имеет права молчать. Если мы будем молчать, нас просто уничтожат».
Когда на одном из заседаний нашего общественного комитета обсуждалось очередное обращение, кто-то заметил, что надо заменить слова о нашем народе: «потерявший нравственность» на «теряющий нравственность», Валентин Григорьевич решительно сказал: «Нет, именно потерявший!» И все согласились. Не потому, конечно, он так сказал, что утратил веру в наш народ - нет, потерянное можно возвратить, но для этого необходимо, прежде всего, беспощадно правдивое видение того, что происходит. И Валентин Григорьевич с великой скорбью рассказал о некоей дальней родственнице, которая вместе со своими маленькими детьми спокойно смотрит непристойные фильмы. Что вы там говорите об угрозе, в случае чего, ввести в нашу страну войска НАТО? В 90-е годы такая угроза была вполне реальной. Какая разница: вводить их или не вводить, если все уже занято сатанинскими полчищами!
Распутин говорит только о том, что знает. Вспоминаются два эпизода в связи с этим. Как-то мне позвонил И.Р. Шафаревич и сказал, что надо уговорить Валентина Григорьевича согласиться на избрание в академики, потому что одно его имя могло бы укрепить авторитет наших патриотов. «Никто кроме Вас не сможет повлиять на Валентина Григорьевича», - сказал Шафаревич. На мою просьбу Валентин Григорьевич ответил категорическим отказом: «Ну подумайте сами, отец Александр, какой я академик!»
И так же было, когда я подарил ему свой двухтомник «Евангелие дня» с толкованиями на каждый день. Скоро он сообщил мне, как хорошо пошла у него эта книга, и обещал написать рецензию на нее. Но через несколько дней перезвонил и сказал: «Я долго думал, и понял, что не мое это дело - заниматься богословием».
Сейчас многие пишут, что Валентина Григорьевича не пускали на ТВ и не давали ему возможности обратиться со своим словом к русскому народу. Все это так. Но дело в том, что он не был создан для красноречивого ораторства, для ярких интервью, он был несравненно глубже. У Достоевского есть интересное рассуждение о том, что кто умеет хорошо говорить, едва ли сможет так же хорошо писать. Это не значит, что Валентин Григорьевич не умел хорошо говорить. Он мог сказать о том, что болит, немногословно, но очень значительно. Как-то я спросил у Распутина, почему он не подает в суд на клеветников, бесстыдно чернящих его имя в прессе. Он ответил, что ему не по силам тягаться с такими людьми: «Ведь суды - их стихия, они в них, как рыба в воде».
Его уже почти «перестроечная» повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» - напоминание о том, что русский человек должен сопротивляться, даже когда силы неравны. Он не принял «перестройку», и в 1990 г. был одним из авторов письма писателей России, адресованному Верховному Совету. «Происходит беспримерная во всей истории человечества массированная травля, шельмование и преследование представителей коренного населения страны, по существу объявляемого „вне закона“ с точки зрения того мифического „правового государства“, в котором, похоже, не будет места ни русскому, ни другим коренным народам России».
За что был подвергнут травле со стороны демократов и долгому замалчиванию как писателя. Надеясь что-то изменить, Распутин согласился войти в президентский совет при Горбачеве в 1990 г: «Со стыдом вспоминаю, зачем я туда пошел. Мое предчувствие меня обмануло. Мне казалось, что впереди еще годы борьбы, а оказалось, что до распада остались какие-то месяцы. Я был как бы бесплатным приложением, которому и говорить-то не давали».
Он был борцом и в 1993 г. «Победы президента и правительства тут не было - было, напротив, жестокое поражение. Какая может быть победа в войне с собственным народом, в показательном убийстве защитников Конституции и законности! Хотя в нашей стране позволено все, но народное мнение все еще существует, и с кровью оно не согласится, сколько бы телевидение ни убеждало, что это кровь нечестивых».
Как христианина и церковного человека Распутина глубоко возмутил так называемый панк-молебен. Он написал письмо против деятелей культуры, поддержавших «скверных плясавец». «Эти деятели еще раз показали свою антихристианскую сущность».
День смерти Валентина Григорьевича совпал с днем его рождения, если учесть разницу во времени между Москвой и Сибирью. Это день иконы Божией Матери «Державной». В этот день совершилось предательское крушение русской православной державы и открылся крестный путь нашей Церкви. Церкви святых царственных страстотерпцев и всех новых мучеников и исповедников Российских. Невольно думаешь о том, что последний наш святой государь родился в день памяти праведного Иова Многострадального. И в год кончины Валентина Григорьевича торжество «Имеющей Державу непобедимую» соединилось с великопостным поклонением Кресту Христову.
Книги В.Г. Распутина похожи на поминальные молитвы: они печальны, но в них присутствует свет. Они как бесконечно длящаяся минута молчания об умершей нашей России, но в них живет надежда на воскресение. Они написаны смиренным целомудренным языком - так и хочется сказать: «первозданным» языком, вечным языком молчания. Они переведены на множество языков, но кажется порой, что этот вечный язык не нуждается ни в каком переводе. Потому что наполняют его не какие-то особенные русские идиоматические выражения, но простой и чистый язык человеческой радости и страдания, жизни и смерти, который дано всем понять. В нем - молчание, когда оно обретает голос и присутствие тысяч и миллионов разбитых человеческих жизней. И это слово бесчисленных людей, которые обрели голос, чтобы оплакивать своих умерших.
В этой бесконечно длящейся минуте - молчание становится словом, исполненным горького вопрошания «почему?», словом памяти о вчерашних и сегодняшних жертвах («Прощание с Матерой», «Пожар», «Живи и помни») и словом, которое передается в надежде (никогда не было такого!) на невозможное чудо встречи с ними. «Это мы, Господи!» - как бы невольно вырывается у Распутина вслед за К.Воробьевым от имени всех людей в одном из его самых трагических произведений. Писатель говорит о Боге, о Его ничем не устранимом присутствии. Кажется, современный мир, поглощаемый хаосом и бессмысленными слухами, потерял навсегда смысл своих дальних истоков. Но нет, напротив, из глубины пространства и времени все возвращается в течение этой бесконечной минуты молчания - невыразимо скорбной, но исполненной высшей красоты.
Протоиерей Александр Шаргунов
15.03. 2025. РНЛ
https://ruskline.ru/news_rl/2025/03/15/beskonechnaya_minuta_molchaniya

14 марта, в 10-ю годовщину со дня смерти великого русского писателя В.Г. Распутина, о нем помолились в Знаменском монастыре Иркутска. Панихиду на могиле писателя, который похоронен на территории обители, совершил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан: "Конечно, слово его живет с нами и сейчас, образ его остается с нами, потому что он был пророком своего времени… Пророк – это не только тот, кто говорит о будущем. Это человек, в котором есть Голос Бога: вдохновляющий, отрезвляющий, от чего-то остерегающий, но всегда ведущий к любви – любви к Богу, людям и родной земле. Пускай вечно будет с нами его светлый образ: добрый, радостный; хоть и мятущийся, но уверенный в Промысле Божием и в том, что с нашей Россией и с русским человеком все будет хорошо."

Помолиться о Валентине Григорьевиче пришли представители музеев и лит. объединений города, служащие епархиального управления, сестры монастыря и почитатели таланта писателя.

http://www.iemp.ru/main_news.php?ID=15297
|
| |
| |