| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 05 Апр 2017, 20:46 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | БАРОНЕССА ВАРВАРА ИКСКУЛЬ ФОН ГИЛЬДЕНБАДТ
(11.12. 1850 - 20.03. 1928)

В Третьяковской галерее можно увидеть знаменитый портрет работы И.Репина, на котором изображена молодая красавица, баронесса Варвара Икскуль фон Гильденбандт. Кроме ее имени многим больше ничего не известно, но судьба этой незаурядной и самоотверженной женщины заслуживает не меньшего внимания, чем сам портрет: всю жизнь баронесса посвятила помощи другим людям, занималась благотворительностью, издавала книги для малоимущих, работала сестрой милосердия на фронте, а в 70 лет была вынуждена уйти пешком по льду Финского залива из страны, которой уже не была нужна.
На одной из передвижных выставок появился портрет кисти Репина, вызвавший большой резонанс. Многие не знали, кем была эта красавица с цыганской внешностью. После выставки ее имя стало известно широкой публике, оно все чаще и чаще стало появляться в новостях о филантропических учреждениях, благотворительных концертах, женских мед. курсах. О ней говорили как об умной, энергичной и волевой женщине, необычайной красоты, тонкого ума, неуемной энергии и большой силы воли. Ходили слухи, что ее красота пленила даже короля Италии Умберто I, когда она с мужем, послом России в Италии, была в Риме.
Варвара Ивановна родилась в семье генерала Лутковского. С юности все обращали внимание на ее необычную внешность – говорили, что она похожа на цыганку. На самом деле она была потомственной сербкой. В 16 лет вышла замуж за дипломата Н.Глинку, и они уехали жить в Европу. Там Варвара вращалась в кругу художников, поэтов, аристократов. Ей не было 30-ти, когда она развелась с мужем и снова вышла замуж за барона Икскуля фон Гильденбандта – русского посла в Риме, который был на 2 года старше ее матери.

Когда супруги вернулись в Петербург, баронесса занялась публикацией книг для нар. чтения. Вместе с издателем И.Сытиным они выпустили 64 книги, доступные малоимущим читателям. Обложки для книг бесплатно оформлял Репин.

И.Д. Сытин
Баронесса обосновалась в Петербурге, купила себе прекрасный 3-этажный дом на Екатерининском канале (сейчас канал Грибоедова) возле Аларчина моста, в месте, известном сейчас под названием Коломна, на рубеже XIX и XX вв. это был своего рода богемный район артистов, композиторов, художников. С того момента, как Варвара Ивановна поселяется в этом доме, ее гостиная тут же становится местом, где устраиваются журфиксы, собираются деятели разных областей искусства: чета поэтов Мережковских, философ В.Соловьев, писатели Толстой, Чехов, худ. критик Стасов, художники Репин, Нестеров, А.Бенуа Часто во время таких встреч Варвара Ивановна подсовывала Репину блокнот и просила делать зарисовки гостей, в итоге получилась значительная коллекция образов.
Так сложилось, что в этой по всем параметрам светской гостиной, среди персидских ковров, венецианских кресел с бархатными драпировками, резных рам с постаревшим золотом (из воспоминаний Репина) прекрасно уживались гости из совершенно разных слоев, и представители высших кругов, и известные писатели, художники, и студенты, и, представить только, революционно настроенная молодежь. Только благодаря широте взглядов баронессы это было возможно. Ее дом как будто был неприкосновенным, там не проводились обыски, и никто бы подумать не мог, что в ее гостиной ставилась запрещенная пьеса Мережковского "Павел I". Будучи на короткой ноге с высшим светом, она в то же время прятала у себя большевиков, и трижды вызволяла Горького из тюрьмы. Мережковский посвятил ей 12 стихотворений, а Гиппиус о ней писала: «В этой прелестной светской женщине кипела какая-то особая сила жизни, деятельная и пытливая. Она обладала исключительной уравновешенностью и громадным запасом здравого смысла».
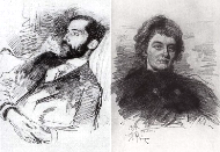
И.Репин, Д.Мережковский и З.Гиппиус
Баронесса умела заводить нужные знакомства. В достижении своих целей она проявляла завидную решительность и даже хитрость. В те времена многие знали о приближенном императора, генерале Черевине, который беспробудно пил, а к царю с докладами ходил в часы редкого похмелья. Именно такого момента дождалась Варвара, чтобы внушить ему идею о том, что женское мед. образование может быть очень полезным. Генерал доложил царю, в результате запрещенные курсы восстановили.

Генерал П.А. Черевин
С ее именем связано еще одно здание в Петербурге, где она также организовала художественно-лит. салон, это особняк Кавоса на Кирочной, 18. Это было последнее место в Петербурге, где баронесса еще блистала и собирала вокруг себя ярких представителей искусства, потому что после революции 1917 г. Варвару Ивановну вместе с сыновьями выселили из этого дома, а имущество разграбили; за несколько лет ей пришлось пережить много ужасов как матери белогвардейца (обыски, аресты, потерю сына), на какое-то время М.Горький приютил бывшую королеву салона в Доме Искусств. Она была в числе инициаторов создания Женского мединститута при Петропавловской больнице, открыла «школу ученых сиделок» для подготовки младшего медперсонала, создала общину сестер милосердия им. М.П. фон Кауфмана.

Баронесса В.И. Икскуль (справа) и старшая сестра Общины сестер милосердия им. М.П. фон Кауфмана, 1904-1905
Ее община отличалась строжайшей дисциплиной и высоким профессионализмом среди медсестер. Во время войны на Балканах 1912-1913 гг. баронесса отправилась на фронт сестрой милосердия, делала перевязки раненым под обстрелами. Она оставалась на передовой и в Первую мировую войну. В 1916 г. ее наградили Георгиевской медалью. На тот момент ей было уже 64 года.

Здание Общины сестер милосердия им. Кауфмана, фото 1980-х.
После революции 1917 г. общину закрыли, баронессу выселили из ее дома. Разрешения на выезд из страны ей не дали, и тогда она, на 70-м году жизни, ушла пешком по льду Финского залива в Финляндию, а оттуда переехала во Францию, где и скончалась в 1928 г.
http://www.kulturologia.ru/blogs/140116/28011/
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 01 Апр 2022, 17:17 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | ДАМА В КРАСНОМ

О баронессе Варваре Икскуль фон Гильденбанд помимо надгробия в Париже, знаменитого репинского портрета в Третьяковке и добрых дел остались воспоминания современников, со страниц которых выступает необыкновенная русская женщина с удивительной судьбой. Чехов в шутку называл ее "баронесса Выхухоль". "Белая дьяволица"
Варвара Ивановна была хозяйкой одного из самых известных салонов Петербурга и объектом всевозможных сплетен. Кто-то искренне восхищался ею, кто-то - критиковал. Не замечать ее было невозможно...
Точный год рождения будущей баронессы Икскуль неизвестен: в источниках фигурируют разные даты - от 1846-го до 1854-го. Зато известно, что родилась она в Санкт-Петербурге в семье генерал-майора И.С. Лутковского, женатого на представительнице знатного сербского рода Штеричей, вдове князя Щербатова.

После смерти первого мужа Мария Алексеевна блистала на столичных балах и вскружила голову не одному кавалеру. В числе пылких поклонников княгини был и М.Ю. Лермонтов, однако в итоге Мария Алексеевна вышла замуж за генерала Лутковского, который был старше своей жены на 15 лет. Варвара была их единственным ребенком - обожаемым и не знавшим отказа ни в чем. С раннего детства она находилась под присмотром гувернантки-француженки, причем весьма примечательной.

Алиса Флери была дочерью профессора Петербургского университета, в 19 лет организовала в Смоленской губернии школу для крестьян, затем окончила Высшие женские курсы, где влюбилась в преподавателя Эмиля Дюран-Гревиля и вышла за него замуж. Дюран стал переводчиком Тургенева и Островского, она - писательницей, издававшейся под мужским псевдонимом Анри Гревиль. Ее русские романы отличались подробным описанием как великосветской, так и крестьянской жизни и были весьма популярны.
Генеральская дочка выросла отнюдь не избалованной и пустой девицей. Напротив, ее душевную щедрость, сердечность, интеллектуальный и культурный уровень отмечали все, кому посчастливилось с ней общаться. Стройная изящная красавица с большими черными глазами и смоляными волосами приковывала взгляды окружающих. Загадочности ей придавала седая прядь надо лбом. В 16 лет завидную невесту родители выдали замуж за Н.Глинку-Маврина, который на 12 лет был старше ее. Успешный дипломат, действительный статский советник и камергер, секретарь русских миссий в Париже и Берне, а затем и генконсул во Франкфурте-на-Майне, безусловно, был выгодной партией, однако душевной привязанности между супругами не возникло. В браке родились двое сыновей - Григорий и Иван, но через несколько лет госпожа Глинка решила, что с нее хватит, и ушла от мужа. Дело было в Париже, слухи, разумеется, дошли до императорского двора - случился грандиозный скандал. Как-никак дочь генерала, уважаемого человека - и такие вольности... Глинка-Маврин замял скандал, и казалось, семейное счастье наконец достигнуто: у супругов даже родилась дочь Софья. Но в 1880 г. Варвара Ивановна все-таки развелась с мужем...
Она пошла по стопам мадемуазель Флери - стала писать романы. В начале 80-х во франц. лит. журналах под псевдонимом Rouslane (Руслана) вышли ее повести и рассказы, к некоторым предисловия написал Ги де Мопассан. Кроме того, она перевела для французов сочинения Достоевского. С 1886 г. в России появились ее франц. произведения, а в журнале "Северный вестник" - авторский перевод на русский ее романа "На туманном севере" о великосветской жизни в Германии. Однако успеха он не имел, что явилось поводом к самокритике: "Не могу, не умею писать по-русски"...
К этому моменту Варвара Ивановна снова была замужем. И снова за дипломатом. Действительный тайный советник, русский посол в Риме, барон К.П. Икскуль фон Гильденбанд хоть и был старше матери Варвары Ивановны, но ухаживал красиво и настойчиво. И в 1884 г. дочь Лутковского согласилась снова выйти замуж. Барон обожал свою молодую красавицу-жену и позволял ей делать все, что она пожелает, ведь ему сам король завидовал! Недаром при русском дворе активно обсуждали то, как король Италии Умберто I сидел в коляске русского посла в ногах баронессы, скорчившись на приставной скамеечке! Возмущенная подобным нарушением этикета, императрица Мария Федоровна при очередной встрече с баронессой не скрывала недовольства. Карл Петрович ушел в отставку в 1891 г.
Баронесса вернулась в Санкт-Петербург еще в 1889-м и поселилась в доме на Екатерининском канале у Аларчина моста (сейчас это дом № 156). С ее возвращением в столице появился новый литературно-художественный салон. Все, что так или иначе выделялось, всплывало на поверхность общего, мгновенно заинтересовывало ее, будь то явление или человек. Не успокоится, пока не увидит собственными глазами, не прикоснется, как-то по-своему не разберется.

Канал Грибоедова, 156.
Не было представителя искусства, литературы, адвокатуры, публицистики, чего угодно, который не побывал бы в ее салоне в свое время. З.Гиппиус, слегка ревновала своего мужа Д.Мережковского, который мгновенно влюбился в эту очаровательную женщину, с первого свидания, да иначе и быть не могло, и появились строки:
"Не нужно мне дворцов, благоуханных роз
И чуждых берегов, и моря, и простора!
Я жажду долгого, мерцающего взора,
Простых и тихих слов, простых и теплых слез"...
Тогда же Гиппиус писала критику и писателю Акиму Волынскому: "Вот скука-то была у баронессы! Какая она неинтеллигентная, все-таки, дама! Оттого и люди, ее окружающие, так неинтеллигентны, до неприличия. В.Соловьев читал статью о Случевском и, право, они оба друг друга стоили. После этого разврата баронесса начала читать письмо Толстого на французском языке, длинно, длинно, серо, серо, скучно и старо, все о том же, о непротивлении злу, о воинской повинности"...
Поделился впечатлением о салоне и литератор Д.Мамин-Сибиряк: "на 2-м этаже 3 больших комнаты, сплошь набитых всякими редкостями - китайским фарфором, японскими лаками, старинными материями, редкой мебелью разных эпох и стилей, артистической бронзой, картинами и даже археологией, в виде старинных поставцов, укладок, братин, идолов и всяких цац и погремушек. Получается нечто среднее между музеем и галантерейным магазином, так что даже ходить по комнатам нужно с большой осторожностью, чтобы не своротить какую-нибудь подлую редкость"...
Художник М.Нестеров заметил, что имя баронессы "то фигурировало вместе с какими-нибудь филантропическими учреждениями, с женскими курсами, медицинскими, Бестужевскими, с концертами в пользу недостаточной молодежи, то с какими-нибудь петербургскими сплетнями. Хорошее о ней переплеталось с "так себе"... Быть может, не было и того, чтобы "повествователи" любили ее, но и при всей нелюбви их Варваре Ивановне не отказывали в уме, энергии, находчивости, в сильной воле".
Нередкая в кругу ее "друзей" злая насмешка над баронессой неприятна еще и потому, что эта "великосветская особа", фрейлина императрицы, никогда не отказывала им в помощи. Но сплетни появлялись беспрерывно, пока Варвара Ивановна наслаждалась творческой атмосферой "четвергов" с концертами и лит. чтениями. Завсегдатаем салона был И.Репин, который часто рисовал карандашные портреты гостей - набрался не один альбом! А в своей мастерской он создал полотно "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", на котором в виде одного из казаков, стоящих за спиной писаря, изображен сын Варвары Ивановны.
 
Экстравагантная высокая шляпка с черной вуалью в пол-лица, оттеняющей аристократическую бледность, пышный бант перехватил подбородок с ямочкой, трагическое сочетание алой блузки и черной, задрапированной кружевом юбки, золотыми цепочками обвито тонкое запястье - высокомерно, но очень внимательно смотрит на нас баронесса: "Не успокоится, пока как-то по-своему не разберется". За этим парадным образом светской львицы угадывается яркий темперамент. П.Третьяков сразу же приобрел у Репина "превосходный, наделавший много шума" портрет. Художник писал коллекционеру: "Баронесса пришла даже в восхищение от мысли, что портрет ее будет в такой знаменитой галерее. Она модель интересная и позирует, как статуя . И по сей день "Женщина в красном"- в собрании Третьяковской галереи.
В 1890 г. Чехов писал издателю Суворину: "Баронесса Икскуль издает для народа книжки. Каждая книжка украшена девизом "Правда"; цена правде 3–5 коп. за экземпляр. Тут и Успенский, и Короленко, и Потапенко, и прочие великие люди. Она спрашивала у меня, что ей издавать. На сей вопрос ответить я не сумел, но мельком рекомендовал порыться в старых журналах, в альманахах и проч. Советовал ей прочесть Гребёнку. Когда она стала жаловаться, что ей трудно доставать книги, то я пообещал ей протекцию у Вас. Если будет просьба, то не откажите. Баронесса дама честная и книг не зажилит. Возвратит и при этом еще наградит Вас обворожительной улыбкой".
Издательскую деятельность она развернула по примеру толстовского издательства "Посредник", после того как побывала у графа в Ясной Поляне. Это был чисто просветительский проект, баронесса сама с воодушевлением составляла сборники, адаптировала тексты: "...я огорчалась почти полным отсутствием книги для народа. Мне казалось неотложной необходимостью дать хорошую и разнообразную умственную и духовную пищу тем, кто жаждал и алкал новых светлых впечатлений, новых знаний, открытых окон на свет Божий".
Оформлением бесплатно занимался Репин, ведущие литераторы позволяли безвозмездно перепечатывать свои труды. В общей сложности в московской типографии Сытина в 1891–1896 гг. вышли в свет 64 издания, среди авторов Гоголь, Толстой, Достоевский, Гаршин, Чехов, Мамин-Сибиряк, Некрасов, Жорж Санд. Но как бы ни декларировала этот проект издательница - "помимо чисто утилитарных знаний мы считали желательным расширить вообще кругозор наших будущих читателей, не задавались никакими партийными или иными целями и выбирали только красоту духовных образов и таланта", - а отражал он, по сути, ее либеральные взгляды и дух народничества, столь популярные в те годы. Эта деятельность зарекомендовала Варвару Ивановну в интеллектуальной среде наилучшим образом, хотя...
В рассказе Н.Лескова "Неоцененные услуги" дан весьма выразительный портрет баронессы Икскуль: "неожиданно приехала сюда по своим семейным делам та знаменитая в своем роде русская дама, которую я назвал Цибелою. Она проживает большую часть своей жизни в столицах Западной Европы, и думают, что она дает там тон в некоторых полит. кругах. Не будем говорить - насколько это верно, но многие считают ее даже близкою помощницею русской дипломатии. В этом последнем представлении о ее роли есть, однако, значительная неточность. По правде сказать, она иногда доставляла дипломатии даже совершенно излишние хлопоты...", "она явилась к нам рьяною славянофилкою"...
Барон недолго наслаждался вольной жизнью в отставке - в 1893-м его парализовало, в 1894-м баронесса овдовела, продала дом и переехала на Кирочную ул. Недалеко, на Шпалерной, находились кавалергардские казармы, где служил ее младший сын. В бельэтаже дома № 18 баронесса жила вплоть до Октябрьского переворота.

На "четверги" приходили уже не только люди искусства, но и гос. мужи, и думцы - И.Горемыкин, П.Дурново. По словам М.Нестерова, "были большие связи с так называемыми "нужными людьми". Ее знали обе Императрицы: вдовствующая Мария Феодоровна и царствующая Александра Феодоровна".
Но баронесса была откровенной либералкой, ее салон стал оппозиционным. Революционер В.Бонч-Бруевич был свидетелем того, как у нее прятали архивы левых партий, скрывались нелегалы, ведь к ней охранка прийти не посмеет. Видели у нее и Троцкого, и Распутина, которому какое-то время она благоволила. Варвара Ивановна трижды выручала из тюрьмы Горького, спасала от ссылки известного народника Н.Михайловского. Граф Толстой просил ее похлопотать за духоборов, которых церковь считала еретиками, и баронесса помогала средствами и связями, чтобы те благополучно перебрались через океан в Канаду. Разумеется, для нее все это виделось общественно полезным" - ее благородное служение идеалам и протест против несправедливости, в том числе социальной, не были демагогией, требовали реального подтверждения.
В 1892-м Поволжье охватил голод. Баронесса собрала деньги, организовала бесплатные столовые, поехала в Казанскую губернию, в селе Нижняя Серда заразилась оспой, едва выжила. Тогда-то она и озаботилась состоянием медицины в Российской империи. Медицина, ее развитие, научные изыскания, квалифицированная помощь людям - самое важное направление в деятельности Варвары Ивановны. Она входила в круг этих проблем постепенно, но, разобравшись, что к чему, со свойственной ей страстью бросалась воплощать идеи в жизнь. В конце царствования Александра II закрылись женские мед. курсы, Александр III женского образования не приветствовал. Баронесса использовала все свои связи, чтобы повлиять на императора. Основным аргументом стала ее уверенность в приближении большой войны, когда Русской армии будет жизненно необходима служба медсестер. Варваре Ивановне удалось убедить власти. Дела благотворительности множились: финансирование Бестужевских курсов, членство в "Обществе попечения о бедных и больных детях", Алексеевском главном комитете по призрению детей лиц, погибших в войну с Японией, "Морском благотворительном обществе", Благотворительном обществе при гор. Калинкинской больнице, "Невском обществе устройства народных развлечений.

Набережная Фонтанки, 148. Больница Общины сестер милосердия им. М.П. фон Кауфмана и Школы сиделок
В 1900-м на базе Школы сиделок создана Община сестер милосердия Российского общества Красного Креста под началом генерал-адъютанта Михаила фон Кауфмана - грандиозный проект делался просто с нуля, требуя неимоверных усилий.
"Дисциплина была железная, и сестры Общины, такие выдержанные, бесстрастные, преданные долгу, в накрахмаленных белых повязках и кокошниках, воротничках и нарукавничках, были послушными исполнительницами своей энергичной, не хотевшей стариться попечительницы", - отмечал М.Нестеров. В 1895-м баронесса включается в создание в Петербурге первого в Европе Женского мединститута (ныне Гос. мед. университет им. академика И.П. Павлова), участвует в подготовке Пироговских съездов и учреждает свои стипендии. В научной библиотеке этого заведения и сегодня есть книги, подаренные баронессой Икскуль фон Гильденбанд.
Первый экзамен сестрам Общины пришлось сдавать довольно скоро - на фронтах русско-японской войны: баронесса сформировала и отправила на Дальний Восток несколько сан. отрядов, а на Фонтанке, 148 организовала солдатский лазарет. Она и сама освоила навыки ухода за ранеными и в 1912–1913 гг. вместе с сестрами Общины отправилась на первую Балканскую войну.
"Живем в палатках, землянках, глинобитных избах. Работа предстоит громадная - у нас будет помещение в землянках на 1500 раненых, а сколько их будет, когда начнется штурм, одному Богу известно!" - писала она приятельнице Е.Летковой.
Первая мировая война застала ее в Санкт-Петербурге. В 1914-м к Варваре Ивановне пришел Горемыкин и очень удивился: на столе в рамочке стоял портрет императрицы Марии Федоровны с любезной надписью. Баронесса объяснила: "Мы помирились! Теперь война и не время для мелких ссор!" Уже осенью 1914-го сестры Общины вместе с баронессой Икскуль действовали на передовой, на Юго-Западном фронте, где организовали ряд госпиталей, этапных лазаретов, сан. поезда. В 1916-м баронесса получила Георгиевский крест из рук генерала Каледина - за перевязку раненых под огнем неприятеля в боях под Луцком...
Октябрь 1917-го перечеркнул ее жизнь. Ни репутация, ни почтенный возраст, ни связи с народовольцами и большевиками не уберегли баронессу от катастрофы. Она пережила несколько арестов и обысков, экспроприацию дома на Кирочной - все ее оставшееся имущество уместилось на детские салазки. Зима 1919/20 г. унесла сына Ивана, умершего от тяжелой пневмонии, осложненной голодом. Погиб от голода ее друг и соратник, талантливый хирург, профессор Военно-медицинской академии, лейб-медик Н.А. Вельяминов, с которым она поднимала Кауфманскую общину. Летом 1920-го отчаявшаяся Икскуль просила помощи у Бонч-Бруевича: "Неужели я так жестоко наказана за то, что всю сознательную жизнь помогала политическим. Я в буквальном смысле голодаю, думаю о зиме с ужасом, потому что купить дров не на что. Сын мой скончался в ужасных мучениях - я не могу оправиться от этого горя. Все рухнуло. Кроме несчастий и разочарований, ничего не осталось". В ответ - тишина.

Осенью после обращения к Горькому она получила каморку в Доме искусств на углу набережной Мойки, Невского проспекта и Б.Морской (национализированный Елисеевский дворец) и зарабатывала на хлеб переводами. Часто заходил к ней Ходасевич: "Варвара Ивановна жила в бельэтаже, в огромной комнате "глаголем", с чем-то вроде алькова, с дубовой обшивкой по стенам и с тяжеловесной резной мебелью. Пахло в ней - не скажу духами, какие уж там духи, в Петербурге, в 1921 г, - но чем-то очень приятным, легким. В холоде и голоде тех дней, ограбленная большевиками, пережившая больше десятка "строгих" обысков, Варвара Ивановна сумела остаться светскою дамой. Это хорошее тонкое барство было у нее в каждом слове, в каждом движении, в ее черном платье, в ногах, с такой умелой небрежностью покрытых пледом; в том, как она протягивала сухую, красивую руку с четырьмя обручальными кольцами на безымянном пальце; в том, как она разливала чай, как поеживалась от холода. В Петербурге, занесенном снегом зимою, заросшем травою летом, в пустынном, глухом Петербурге тех лет, когда зимою на улицах грабили, а летом на Мойке пел соловей, дом Искусств был похож на затерянный во льдах корабль. Жили особенной, ни на что не похожей жизнью. И редкий вечер, хоть мимоходом, не заходил я к Варваре Ивановне, всегда радушной, доброжелательной, ровной. Горничная Варя приносила чайник. Было необычайно тихо и - опять не могу подыскать я другого слова - обаятельно. В те вечера рассказывала Варвара Ивановна о разных вещах, о людях, которых ей доводилось видеть, особенно хорошо - о Тургеневе и о Мопассане".
Она попросила власти разрешить ей выезд за границу, большевики отказали. И тогда в ней вновь вспыхнул дух протеста: по льду Финского залива под диким ветром пожилая баронесса с узелком шла за мальчиком-проводником в Финляндию. Оттуда перебралась во Францию, где воссоединилась со старшим сыном Григорием, бывшим моряком. В 1926-м в Ницце на avenue des Fleurs с ней познакомилась Т.Аксакова: "Опираясь на трость, одетая во все черное, с белой камелией в петлице, Варвара Ивановна часто стучала мне в окно, приглашая пойти с ней к морю. Сидя на набережной, мы говорили о России, и я читала по ее просьбе есенинские стихи. При этом я замечала, что она с болезненным интересом слушает подробности о жизни холодного и голодного Петрограда начала 20-х годов..."
Не одна лишь ностальгия терзала ее душу, но и глубочайшее разочарование, опустошающая обида за неблагодарность прежних "друзей".Она скончалась ранним утром от воспаления легких. Упокоена баронесса Икскуль фон Гильденбанд на одном из главных мест захоронения русской эмиграции (наряду с Сен-Женевьев-де-Буа), четвертом по величине кладбище Парижа - Батиньоль...
Ирина Абросимова
05.01. 2022. журнал "Русский мир"
https://rusmir.media/2018/01/05/ikskul
|
| |
| |