| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 17 Янв 2025, 13:40 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ КОРОЛЕВ
(1807–17.01. 1876)
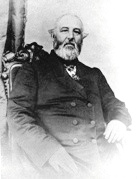
Московский купец 1-й гильдии, коммерции советник (1862), Московский гор. голова в 1861-1863 годах, потомственный почётный гражданин (1859). Если А.А. Закревский, по народному выражению, «счастлив бывал, да бессчастье в руки поймал», то М.Л. Королёв, напротив, «хоть с нуждой, а добился чести» - претерпев унижение от генерал-губернатора, сподобился внимания государя.
Купеческий род Королёвых происходит из деревни Горки Калязинского уезда Тверской губернии. Деревня эта была частновладельческой и до середины 1770-х годов принадлежала двоюродному деду по материнской линии А.С. Грибоедова секунд-майору Ивану Михайловичу. Его дочь Анастасия Ивановна в 1768 г. вышла замуж за А.Ф. Хомякова, деда известного славянофила. С педантичной точностью текст памятной плиты XVIII в. фиксирует даты рождения, бракосочетания и смерти А.Хомяковой (Грибоедовой): «Противу сей надписи погребено тело лейб-гвардии поручика А.Ф. Хомякова супруги ево Настасьи Ивановой, секунд-майора И.М. Грибоедова дочери, которая в Москве преставися 1775 г. февраля 13 числа по полуночи в 11 часу, рождение ее в Москве в 1750 г. в день тезоименитства ее октября 29 числа по полудни в 11 часу. Итого жития ее было 24 года 3 месяца и 15 дней, а супружестве имелась 1768 г. июля 9 числа всего 6 лет 7 месяцев и 4 дни»
В 1913 г. плита была извлечена из подвалов усадебного дома и размещена на восточной стене Сретенского храма имения Хомяковых в селе Богучарово, где её можно найти и поныне.

Вероятно, Иван Михайлович, в ознаменование рождения одного из внуков сделал Хомяковым подарок, который включал небольшую часть тверских владений, что было в духе традиций русского дворянства. Оно также могло быть сразу записано на имя новорожденного, минуя руки родителей. Степан Александрович, к прискорбию деда, распорядился, доставшимся ему наследством не самым лучшим образом. Хорошее образование и задатки интеллектуала не смогли уберечь его от зелёного сукна ломберного столика в Английском клубе и безрассудных ставок, щекотавших нервы. Как итог - крупный проигрыш, который молва раздула за миллион руб., ссора с женой Марией Алексеевной (в девичестве Киреевская), взявшей на себя заботу о дальнейшем материальном благополучии детей, и добровольное изгнание. Так они и жили: жена с детьми в Богучарово Тульской губернии, а муж в Липицах Смоленской губернии. П.И. Бартенев в своих воспоминаниях передаёт примечательный эпизод, прекрасно характеризующий остроту отношений между супругами после «падения» главы семейства и непримиримую суровость Марьи Алексеевны: «Однажды пожаловала она к нему в шестиместной карете. Он вышел к ней на крыльцо и она, выйдя из кареты, при собравшейся дворне, дала ему пощечину и немедленно велела ехать обратно»
За судьбой имущества отныне стала следить Марья Алексеевна. В дальнейшем деревня Горки перешла в руки родственников Хомяковых. Была ли это вынужденная мера, вызванная бедственным положением семьи или же хоз. распорядительность Марьи Алексеевны, но по состоянию на 1851 г. владелицей Горок значилась малолетняя Лидия Григорьевна - дочь майора Г.А. Хомякова, участника войны 1812 г., кавалера орденов и оружия «За храбрость». Крепостные крестьяне Горок в удалении от господских усадеб выплачивали оброк, зарабатывая деньги преимущественно башмачным мастерством. Многие уезжали на заработки в первопрестольную, где успешно занимались изготовлением, ремонтом и продажей обуви, прочие сбывали готовый товар на ярмарках в Талдоме и Кимрах. Одним из таких предприимчивых крестьян был Кирилл Михайлов (1775—1849 гг.). К торговле обувью он приобщил своего юного сына Леонтия (1791-1850 гг.), у которого родился первенец Михаил. Святейший синод определил допустимый минимальный возраст вступающих в брак границей: для мужчин - 15 лет, для женщин – 13. Большаки довольно часто исходя из хоз. соображений, стремились как можно раньше обженить своих сыновей. Помещики тоже поощряли ранние браки, стремясь увеличить поголовье крепостных, поэтому 16-летние отцы, подобные Леонтию Кирилловичу, в русской деревне конца XVIII - начала XIX в. явление достаточно заурядное, а позже Ивана (1801-1879 гг.).
Сыновья служили мальчишками на побегушках, постепенно вникая во все тонкости семейного предприятия. Успешная торговля позволила в 1808 г. выписать домашних из деревенской глуши в Москву, где разворачивалось дело. Неизвестно как семейство пережило нашествие наполеоновских войск, но совершенно определённо центром дальнейшего развития дела стала именно Москва. Всё складывалась довольно успешно. Результаты кооперации позволили выкупить разросшуюся за это время семью из крепостной зависимости. Жили патриархально большим гуртом, сохраняя сельский родовой быт. В 1827 г. в Купеческом отделении дома Московского градского общества рассмотрели и одобрили прошение о дозволении Леонтию Кириллову именоваться «Королёвым» Его отец получит фамилию «Королёв» только через 16 лет. Торговля шла благополучно, приносила хороший доход и признание в купеческой среде. Леонтий Кириллович добился статуса придворного башмачника. Качество товара и надёжность продавца были подтверждены неоднократным пожалованием купцу золотых медалей (1842 г.), одна из которых носилась на Александровской ленте с надписью «За усердие» (1846 г.
Носить обувь от Королёва становилось престижно. Имя купца заслуженно приобретало значение бренда и после смерти Леонтия Кирилловича продолжало привлекать покупателей. Братья Михаил и Василий в 1851 г. получат разрешение на открытие торгового дома под фирмой «Леонтия Королева сыновья». Если в Москве товар Королевых можно было найти на Ильинке напротив Гостиного двора, где размещалась контора и склад фирмы, то в Санкт-Петербурге любой желающий мог посетить собственный магазин Королёвых на Невском проспекте в доме Беггрова, что против Аничкова дворца. В Москве торговля осуществлялась оптом. После 1859 г. семейное предприятие меняет вывеску и получает название «Торговый дом М.Л.Королёва».

Контора помещалась в 2-этажном каменном доме. Первый этаж был заставлен ящиками, в которых можно было найти мужские грубые сапоги, женские полусапожки с резинками по бокам, штиблеты, ботинки на пуговицах, туфли, детские башмаки и калоши. На 2-й этаж вела широкая чугунная лестница, где в светлом помещении располагались уже в картонных коробках образцы обуви более тонкой работы. Здесь же за дверью сидели бухгалтер и конторщик, заполнявшие гроссбухи солидных размеров. В глубине конторы можно было увидеть дверь, ведущую в кабинет Михаила Леонтьевича.

Здесь он вёл деловые переговоры и принимал посетителей. В контору регулярно привозили новый товар, который распаковывался, сортировался и вносился в регистрационные книги. Основными поставщиками продукции были сапожники и башмачники Кимр, Талдома и окрестностей. В Кимрах находился пункт приёма готовой продукции, которая отправлялась в Москву. Выработанный уклад ведения дела по словам Е.Андреевой-Бальмонт по существу не изменился даже после смерти Михаила Леонтьевича: «Дела торгового дома шли очень хорошо, ровно, постепенно развивались и расширялись, отвечая запросам нового времени».
Запланированным в 1915 г. реорганизации торгового дома и постройке собственной фабрики не суждено было состояться из-за революционных событий. В апреле 1859 г. в свежем выпуске «Сенатских ведомостей» внимательный читатель мог обнаружить сообщение об очередной награде, дарованной М.Л. Королёву, - золотой медали на владимирской ленте, а уже в следующем номере сообщалось об отставке московского военного генерал-губернатора А.А. Закревского. Так ирония судьбы или чувство юмора царя связали успех одного и падение другого.

В 1856 г. за несколько месяцев до злополучного обеда, организованного купцами в манеже, Арсений Андреевич имел серьёзный разговор с А.С. Хомяковым, предки которого когда-то владели предками Королёва. Этот эпизод подробно передает Бартенев: «Великим постом 1856 г. в Москву приехал граф Д.Е. Остен-Сакен, под начальством которого некогда в Турецкую войну 1828-1829 гг. служил Хомяков. Ему давали торжественный обед в Московском Дворянском Собрании, как доблестному защитнику Севастополя. В течении обеда герой празднества беспрестанно говорил с Хомяковым, приехавшим на обед в обыкновенном своем платье, вроде полукафтанья. Вскоре затем приехал в Москву Государь и спросил первого тогдашнего Московского вельможу князя С.М. Голицына про этот обед, на котором произносилось много речей в похвалу графа Остен-Сакена. «Не знаю, Государь, не расслышал, но там всех громче говорил какой-то Хомяков, одетый в поддёвку». Вслед за тем, на Страстной неделе утром при мне, полицейский чиновник приехал к Хомякову с бумагою, в которой ему приказывалось обрить бороду (эту бумагу я тогда себе взял). Потом Хомяков был вызван к Закревскому, который сообщил ему Высочайшее повеление не только не печатать стихов своих, но даже не читать их никому. «Ну, а матушке можно?» - спросил Хомяков. «Можно, только с осторожностью», улыбаясь, сказал Закревский, знавший Хомякова ещё с Петербурга, когда тот служил в конной гвардии и бывал у его матери».
Пока Арсений Андреевич давал прощальные обеды по случаю отставки, братья Королёвы пытались добиться потомственного почётного гражданства. Достичь поставленной цели удалось уже после отставки Закревского в 1859 г. Почётное гражданство - второе после дворянства привилегированное сословие, которое пришло на смену званию «именитый гражданин» в 1832 г. Почётное гражданство освобождало от подушного налога, защищало от телесных наказаний и избавляло от рекрутской повинности. Получить почётное гражданство могли совершенно разные люди и не обязательно городские жители. И на ближайших выборах гор. головы Михаил Леонтьевич был выбран большинством голосов. Человек уже пожилой, торговавший башмачным товаром, который хотя и был почти совершенно безграмотным, едва подписывавшим свою фамилию, но принадлежал к бывшим первоприсутствующим Сиротского суда. Он стал последним гор. головой Москвы, избранным по правилам Жалованной грамоты городам от 1785 г.
Гор. голова возглавлял торгово-промышленное население Москвы, выступал посредником между гор. обществом, т.е. уполномоченными от мещан и купцов и коронной администрацией, принимал участие во всевозможных комиссиях, связанных с городской инфраструктурой, выполнял распоряжения генерал-губернатора, осуществлял контроль за содержанием общественных учреждений, следил за прод. снабжением города, его благоустройством и порядком. Довольно часто гор. голова выступал в качестве инициатора по сбору средств на создание образовательных, лечебных и благотворительных учреждений.

в 1861 г. царь неофиц. порядком посетил дом гор. головы.. Так или иначе, 4 декабря 1862 г. улица у дома Королёва была запружена народом по случаю приезда Александра II и царицы Марии Александровны. В память об этих событиях по заказу Королёва были написаны несколько картин. Репродукции нескольких картин хранятся в Историческом музее. На одной из них Александр II и Михаил Леонтьевич у подъезда дома Королёвых. Еще одна картина запечатлела как супруга Михаила Леонтьевича, Татьяна Андреевна подносит в серебряной корзиночке печение государыне, сидящей на диване в голубой гостиной..

Оригинал этой картины хранился в музее в Грузинах. В настоящее время местонахождения картины неизвестно. Диван и кресла, на которых сидел государь с супругой, бережно хранились как реликвия. Для них был изготовлен спец. постамент, выкрашенный под малахит, а на спинках прикреплены золотые орлы. Для большей сохранности гарнитур был покрыт чехлами и больше не использовался по своему прямому назначению. Для купечества подобное офиц. посещение царской четой - целая дата в истории купечества. Королёвы осознавали и ценили значимость события как для себя лично, так и для общества в целом и стремились увековечить память о посещении не только на бытовом уровне. Уже 14 декабря 1862 г. на первом собрании Московского Купеческого Общества присяжных поверенных было принято решение об открытии в Замоскворечье Александро-Мариинского училища для обучения бедных детей обоего пола всех сословий, для чего выделялась единовременно сумма в 15 000 руб. и ежегодная сумма на дальнейшее его содержание в 3 000. Позже братья Королёвы в октябре 1863 г. изъявили желание на свой счёт содержать по одному мальчику и одной девочке в московском мещанском училище, приурочив это благодеяние также к монаршему посещению.
Благотворительная деятельность представителей всего рода Королёвых заслуживает отдельного повествования. 28 июня 1863 г. состоялось последнее заседание Присутствия Дома Московского Градского Общества, которое передало свои права новому учреждению - Московской купеческой управе. Михаил Леонтьевич сложил полномочия гор. головы, но не отошёл от общественной жизни. Он продолжал вести своё торговое дело и занимался благотворительностью. Как вспоминала Е.А.Андреева-Бальмонт, Михаил Леонтьевич «был старик очень красивый, высокого роста, с правильными чертами лица, с орлиным носом. Он держался прямо, голову нес высоко и, несмотря на свою полноту, ступал легко и мягко. Говорил он мало, казался очень важным. Но его все любили, и никто не боялся в его окружении». После смерти он впал в тяжелую депрессию. Возвращаясь из церкви, ложился на большой диван, отворачивался к стене и тяжело вздыхал. Спустя почти год в возрасте 69 лет Михаила Леонтьевича не стало. Похоронен он был как и все Королёвы на Даниловском кладбище.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 17 Янв 2025, 14:39 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | Судьба в очередной раз иронично улыбнулась Михаилу Леонтьевичу. На том же кладбище был похоронен потомок владельцев Королёвых - А.С. Хомяков. Но если дворянину-славянофилу повезло переехать на Новодевичье кладбище, став частью нового мира, то могилы бывших крепостных, ставших «всем», были причислены к «миру насилья» и уничтожены в 1930-х годах. Имя отца пыталась увековечить его дочь Н.А. Андреева, известная московская «сапожница», унаследовавшая его дело. На свои средства она построила новое здание «Вдовьего дома» в Москве, давала деньги на содержание школы в родной деревне отца и финансировала сооружение и обустройство министерской двухкласной школы им. Михаила Леонтьевича в Талдоме. (сгорело в 2022 г.)

10 мая 1906 г. состоялось торжественное освящение школы.
Внучкой М.Л. Королёва от его дочери Натальи Михайловны (в замужестве Андреевой) была Е.А. Андреева, которая стала женой поэта-символиста К.Д. Бальмонта, а ее племянница, правнучка Королёва М.В. Сабашникова, поэтесса и художница, была первой женой поэта М.Волошина. Так имя и потомство М.Л. Королёва оказалось связанным с культурой эпохи « Серебряного века» в России.
https://museum-taldom.mo.muzkult.ru/mkorolev
http://prorossiu.ru/?page_id=1802
ТОРГОВЫЙ ДОМ М.Л. КОРОЛЕВА
Просуществовал около 70-ти лет. Когда праздновалось 50-летие, дедушке было пожаловано звание придворного поставщика. Я помню, как над входной дверью «амбара» появилась новая вывеска с золоченым орлом. Дедушка работал в своем торговом доме с несколькими приказчиками; все они были взяты им из его родных мест, из семей родственных, «породу» которых, как он говорил, он хорошо знал со всеми их достоинствами и недостатками. Начинали они службу в торговом доме чуть ли не мальчиками и оставались там до конца своей жизни. После смерти дедушки по его завещанию торговый дом перешел в собственность его единственной дочери - моей матери. По существу в нем ничего не изменилось. Мать свято хранила заветы своего отца. Только во главе «амбара» стал один из молодых и более просвещенных сотрудников дедушки - С.Г. Соловьев. Это был очень умный и властный человек, державший в ежовых рукавицах своих помощников, между которыми были люди много старше его годами. Вся контора трепетала перед ним. И мы, дети, замечали это и боялись его. Нам он казался существом совершенно особенным и очень страшным. Мы его прозвали «идолом», хотя он держался в нашем доме скромно, даже робко.
Дела торгового дома шли очень хорошо, ровно, постепенно развивались и расширялись, отвечая запросам нового времени, на высоте которого стоял Соловьев. Обороты капитала становились миллионными. Отец мой, поглощенный своим «Колониальным магазином А. В. Андреева», только наблюдал за ведением дел «амбара», а когда умер, это стала делать моя мать. Она следила с большим интересом за отчетами торгового дома. После ликвидации «Магазина А.В. Андреева», которой ей пришлось заняться после смерти отца, у нее уже был опыт, свои мысли и соображения в торговых делах. Ей помогала моя старшая сестра Александра Алексеевна и заменила ее в свою очередь, когда моя мать умерла.
В 1915 г., было решено реорганизовать торговый дом по предложению Соловьева, который давно задумал и подготовлял реформу, менявшую весь характер старого дела. Соловьев хотел купить дом на Ильинке рядом с Биржей, чтобы там устроить обувную фабрику на совсем новых началах. Этот дом уже торговали за миллион. С революцией эти планы рухнули, несмотря на все старания Соловьева, который был передовым человеком, приспособить торговлю к новым формам жизни. Ликвидация торгового дома состоялась, но вырученный капитал был взят государством, и дело в самом расцвете своем погибло. Мы, наследники его, лишились всего нашего состояния.
«Торговый дом М.Л. Королева», то есть склад обуви и контора при нем, «амбар», как это называли тогда, помещался в городе, в одном из переулков между улицами Никольской и Ильинкой, в 2-этажном каменном доме среди других ему подобных «амбаров», где торговали только оптом, но самым различным товаром: ситцем, мехом, пуговицами, шапками. Внизу длинное сараеобразное помещение, где в ящиках и связках лежали груды всякой обуви: мужские грубые сапоги, женские полусапожки с резинками по бокам. Только много позже, уже в моей юности, появились штиблеты (на шнурках), ботинки на пуговицах, туфли, детские башмаки и калоши. В турецкую войну торговый дом делал поставки сапог в армию; за это получил похвальные листы и отличия. Они висели в конторе под стеклом в рамках.
Во 2-м этаже, куда поднимались по широкой чугунной лестнице, было такое же, только немного более светлое, помещение с прилавками и полками, на которых лежала обувь более тонких сортов в картонных коробках. Оттуда дверь в контору, где за конторками на высоких табуретах сидели бухгалтер и конторщики и не отрываясь строчили что-то в огромных гроссбухах. За конторкой находился закуток дедушки, где он принимал посетителей и вел все деловые переговоры. В продолжение 50-ти лет «амбар» оставался таким, как я его помнила в раннем детстве. Наша мать часто брала кого-нибудь из младших детей с собой, чтобы покатать нас, когда ездила в город. Обыкновенно мы сидели в экипаже и ждали ее. Но зимой, в холод, мы входили с ней в магазины, где она делала закупки, или в «амбар». В «амбаре» она поднималась наверх, а нас оставляла внизу, где мы в ожидании ее сидели на единственном клеенчатом продавленном диванчике. Разговаривать там не полагалось.
Мы сидели и наблюдали. Тяжелый запах кожи, полумрак от нагроможденных до потолка ящиков и… тишина. Почему там была такая тишина, спрашиваю я себя и теперь еще. Работа там, особенно внизу, шла беспрерывная: возчики подвозили к задней двери товары со двора, разгружали телеги и уезжали; ящики вносили, ставили на пол, тут же их раскрывали, приказчики принимали по счету, сортировали и ставили по местам. Но шума не было, говорили вполголоса, ходили не топая. Мальчики - их было два - стояли навытяжку, выслушивали приказания приказчиков принести или подать то-то и то-то, причем лица их не выражали ни страха, ни угодливости. «Не бросайся, тише, не стучи», - говорили им (совсем как нам дома), не повышая голоса. И так неизменно, до конца своего существования «амбар» хранил свой строгий, спокойный облик.
(Из воспоминаний Екатерины Алексеевны Андреевны-Бальмонт)
https://biography.wikireading.ru/198405
|
| |
| |