|
Н.В. ГОГОЛЬ: СПАСЕНИЕ В ВЕЧНОСТИ СВОЕЙ ДУШИ...
|
|
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 02 Фев 2014, 21:50 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | Н.В. ГОГОЛЬ: СПАСЕНИЕ В ВЕЧНОСТИ СВОЕЙ ДУШИ

О том, что Гоголь - христианский писатель, мы узнали сравнительно недавно. Долгие годы автор «Ревизора» и «Мертвых душ» литературоведами представлялся лишь как мастер гротеска, обличитель соц. действительности. Во многом благодаря профессору МГУ, автору нескольких книг о Гоголе В.Воропаеву до нас дошло во всей полноте духовное наследие великого русского писателя. В изданном 9-томном академическом собрании сочинений Н.В. Гоголя впервые опубликовано многое из того, что более полно открывает нам внутренний мир великого христианского писателя, и заставляет по-иному взглянуть на известные еще со школьной скамьи его сочинения.
Профессор МГУ считает, что образ ревизора в одноименном произведении Гоголя следует трактовать в свете Второго Пришествия в мир Христа Спасителя и соответственно, образ Хлестакова, этого лже-ревизора, можно понимать как изображение самозванца - Антихриста. Главной идеей писателя, главным его стремлением было спасение в вечности своей души. Он одним из первых на деле осуществил свою заветную мечту: служение литературе, русскому слову - сделать спасительным в христианском значении этого слова. В этом заключалось своего рода бескровное мученичество писателя, своей судьбой, своим творчеством и своей верой искупавшего грехи отечественной словесности, к тому времени уже окончательно оторвавшейся от церковной ограды, и попытавшегося подвижническим усилием вновь вернуть вольнодумную словесность под покров Церкви. В своей личной судьбе ему это удалось осуществить лишь отчасти, но судьба российской словесности после этого беспримерного подвига стала уже иной.
Его пророческое служение подхватил Достоевский. Эта святая искра, зажженная Гоголем, несмотря ни на какие потуги многочисленных лит. карликов всех времен, не угасла в великой русской литературе и по сей день, ведь его православные книги: «О Божественной Литургии» и «Избранные места из переписки с друзьями» должны по праву стать настольными для каждого русского, серьезно относящегося к делу спасения своей души.
Антон Жоголев
Любовь к церковному пению
Школьный приятель Гоголя В.Любич-Романович вспоминал, что в церкви тот молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную Литургию. Как-то раз, недовольный пением, он поднялся на клирос и стал подпевать хору, ясно произнося слова молитв. Но священник, услыхавший незнакомый голос, выглянул из алтаря и, увидев постороннего, велел ему удалиться.
Как Гоголь притворился сумасшедшим
В Нежинской гимназии, хотя и редко, но применялись телесные наказания. Однажды, еще в нижних классах, Гоголь чем-то провинился и, чтобы избежать наказания, притворился сумасшедшим.
- Плохо, брат, высекут! - сказал ему кто-то из товарищей.
- Завтра! - отвечал Гоголь.
Но приговор утвержден, явились классные надзиратели. Вдруг Николай вскрикивает так пронзительно, что все испугались, что он сходит с ума. Поднялась суматоха; его повели в больницу. Директор гимназии, И.С. Орлай, дважды в день навещает его. Гоголя лечат, друзья ходят к нему в больницу тайком и возвращаются с грустью: помешался, решительно помешался!
Словом, до того мальчик искусно притворился, что все были убеждены в его помешательстве. И когда после 2-х недель успешного лечения его выпустили из больницы, приятели долго еще поглядывали на него с сомнением и опасением.
По рассказам нежинских соучеников Гоголь еще в школьные годы никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, и если нечего было дать, то всегда говорил: «Извините». Однажды ему даже случилось остаться в долгу у одной нищенки. На ее слова: «Подайте Христа ради» он ответил: «Сочтите за мной». И в следующий раз, когда та обратилась к нему с той же просьбой, он подал ей вдвойне, добавив при этом: «Тут и долг мой».
Писатель никогда не расставался с Евангелием. «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии. Сколько раз уже отшатывалось от него человечество и сколько раз обращалось». - говорил он.
Ежедневно читал по главе из Ветхого Завета, а также Евангелие на церковнославянском, латинском, греческом и английском языках. О.В. Гоголь-Головня, сестра писателя, вспоминала: «Он всегда при себе держал Евангелие, даже в дороге. Когда он ездил с нами в Сорочинцы, в экипаже читал Евангелие. Видна была его любовь ко всем. Никогда я не слыхала, чтобы он кого осудил».
Эмилия Ковриго, сирота, воспитанница матери Гоголя, рассказывала, что в ее отроческие годы он учил ее грамоте, и когда выучил, то первой книгой, которую она с ним прочитала, было Евангелие. «И эти уроки и беседы о любви к ближнему так глубоко запали в мою детскую душу, что никакие невзгоды жизни не могли бы поколебать во мне веры в истину христианской любви, о которой он мне с такой силой говорил и которая на каждом шагу осуществлялась в семье Гоголей».
Как-то в разговоре со своим земляком О.М. Бодянским, Гоголь сказал: «Я знаю и люблю Шевченко как земляка и даровитого художника. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс - это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой невозможно. Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня - язык Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан».
Гоголю не нужно было выяснять, малороссиянин он или русский - в споры об этом его втянули друзья. В 1844 г. он так отвечал на запрос А.О. Смирновой: «Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, как я вижу из письма вашего, служило одно время предметом ваших рассуждений и споров с другими. На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, - явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характера, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».
Т.Берг вспоминает, как однажды на вечере у С.П. Шевырева кто-то из гостей, несмотря на принятое всеми знавшими Гоголя правило не спрашивать его о лит. работах и замыслах, не удержался и заметил ему, что это он смолк: «Ни строки, вот уже несколько месяцев сряду!» Ожидали простого молчания, каким отделывался обычно писатель от подобных вопросов, или ничего не значащего ответа. Николай Васильевич грустно улыбнулся и сказал: «Да! Как странно устроен человек: дай ему все, чего он хочет, для полного удобства жизни и занятий, тут-то он и не станет ничего делать; тут-то и не пойдет работа! Со мною был такой случай: ехал я раз между городками Джансано и Альбано, в июле месяце. Среди дороги, на бугре, стоит жалкий трактир, с бильярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все приезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том «Мертвых душ», и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в трактир, захотелось мне писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением».
В Оптиной Пустыни сохранилось предание, пересказанное прп. Амвросием. Во время пребывания в этой обители Гоголь рассказывал отцу Порфирию Григорову, издателю жития и писем затворника Задонского Георгия, что он видел мощи св. Спиридона Тримифунтского и был свидетелем происшедшего от них чуда. При нем мощи, которые были не только нетленны, но в продолжение XV веков сохраняли мягкость, обносились вокруг города, как это ежегодно совершается 12 декабря (по ст. ст) с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мощам, а один англ. путешественник не хотел оказать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы прорезана и тело набальзамировано, потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней. Этому были свидетелями многие, в том числе и Гоголь.
В своих странствиях по миру Николай Васильевич не расставался с иконой свт. Николая, своего Небесного покровителя. Священник П.Соловьев, находившийся в составе Русской Духовной миссии в Иерусалиме, оставил воспоминания о встрече с писателем в январе 1848 г. на пароходе «Истамбул», следовавшем к берегам Сирии. Гоголь показал ему образ св.Николая Чудотворца и спросил его мнения о качестве изображения: «По всему видно было, что он высоко ценил в худ. отношении свою икону и дорожил ею, как святынею». Священник Иоанн Базаров рассказывает, как однажды в 1847 г. в Висбадене Гоголь обратил его внимание на то, что немцы строят русские православные храмы на горе: «Как будто самый Промысл указывает на то, что Православная Церковь должна стоять выше всех других. И подождите недолго, и она загорится звездою первой величины на горизонте Христианства».
Е.А. Хитрово передает сказанные Гоголем слова: «Если мысли писателя не обращены на важные предметы, то в нем будет одна пустота. Надобно любовью согреть сердца; творить без любви нельзя. А что без любви написано, то холодно. Иногда бывает самодовольство: делаешь что-нибудь хорошо, доволен собою, а после увидишь, как недостаточно. Святые падали, гордясь тем, что благодать им сошла. Однажды Гоголь читал вслух проповедь свт. Филарета, Митрополита Московского, на евангельский стих: «Ищите Царствия Божия». Святитель говорил о краже, то есть, несоблюдении, воскресных дней. По этому поводу Гоголь заметил: «Как это часто со мной случалось! А проку-то и не выходило. Когда внутренне устроен человек, то у него все ладится. А чтобы внутренне устроенным быть, надобно искать Царствия Божия, и все прочее приложится вам».
Екатерина Александровна приводит сказанные Гоголем слова: «Как странно иногда слышать: «К стыду моему, должна признаться, что я не знаю славянского языка!» Зачем признаваться? Лучше ему выучиться: стоит две недели употребить».
Г.П. Галаган, богатый украинский помещик, живший в начале 1840-х годов в Риме, вспоминал, что писатель уже тогда показался ему очень набожным: «Один раз собирались в русскую церковь все русские на Всенощную. Я видел, что и Гоголь вошел, но потом потерял его из виду и думал, что он удалился. Немного прежде конца службы я вышел в переднюю, потому что в церкви было слишком душно, и там, в полумраке заметил его, стоящего в углу за стулом на коленях и с поникшей головой. При известных молитвах он бил поклоны». Гоголь верил в простоте сердца, так, как верит народ.
Княжна В.Н. Репнина-Волконская вспоминала, имея в виду пребывание писателя в Одессе зимой 1850-51 года: «У матери моей была домовая церковь. Гоголь приходил к обедне, становился в угол за печкой и молился «как мужичок», по выражению одного молодого слуги, то есть клал поклоны и стоял благоговейно» Она описывает приезд Гоголя в их имение Яготино по возвращении из Иерусалима в 1848 г: «Лицо его носило отпечаток перемены, которая воспоследовала в душе его. Прежде ему были ясны люди; но он был закрыт для них, и одна ирония показывалась наружу. Она колола их острым его носом, жгла его выразительными глазами; его боялись. Теперь он сделался ясным для других; он добр, он мягок, он братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходителен, он дышит Христианством». Потом в Одессе княжна дала Гоголю прочесть эти строки, и он сказал: «Вы меня поняли, но слишком высоко поставили в своем мнении».
В.Шенрок, биограф Гоголя, рассказывает со слов родственников писателя, что однажды в 1848 г., гостя у своих в Васильевке, он куда-то выехал из деревни, но вдруг, в половине пути, что-то вспомнил, вернулся домой, заказал в церкви молебен о здравии болящей рабы Божией Александры и сейчас же снова отправился в путь. Родные догадались, что он молился за А.О. Смирнову.
В один из приездов в Оптину Пустынь Гоголь прочитал рукописную книгу - на церковнославянском языке - прп. Исаака Сирина, с которой в 1854 г. старцем Макарием было подготовлено печатное издание, ставшую для него откровением. В монастырской библиотеке хранился экземпляр 1-го издания «Мертвых душ», принадлежавший графу А.П. Толстому, а после его смерти переданный отцу Клименту (Зедергольму), с пометами Гоголя, сделанными по прочтении этой книги. На полях XI главы, против того места, где речь идет о прирожденных страстях, он набросал карандашом: «Это я писал в «прелести» (обольщении), это вздор - прирожденные страсти - зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей - теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души, встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, - не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души».
Прп. Варсонофий Оптинский рассказывал в беседе со своими духовными чадами, что есть предание, что незадолго до смерти Гоголь говорил своему близкому другу:
- Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял...
- Чего? Отчего потеряли вы?
- Оттого, что не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?
Это предание отчасти подтверждается свидетельством сестры Гоголя Анны Васильевны, которая в 1888 г. писала В.Шенроку, что брат ее мечтал поселиться в Оптиной Пустыни. Л.И. Арнольди свидетельствует, что Гоголь был необыкновенно строг к себе и боролся со своими слабостями. Так, в Италии он сам бегал на кухню и учился приготовлять макароны. А между тем очень редко позволял себе такие увлечения и был в состоянии довольствоваться самою скудною пищей, и постился иногда как самый строгий отшельник, а во время говенья почти ничего не ел. Историк В.А. Чаговец, хорошо знавший быт семьи Гоголей, рассказывает, что Николай Васильевич не превосходил набожностью своих родных, проникнутых с самых младенческих лет религиозным настроением. Лишь в отношении соблюдения поста он держался несколько иного взгляда; в постные дни, когда в деревнях готовились разнообразные постные блюда, различные винегреты и т.п., он даже иногда бывал недоволен. «Какой же это пост, когда все объедаются еще хуже, чем в обыкновенные дни?» - говорил он, отодвигая подальше блюдо с какою-нибудь заманчивой постной пищей.
Графиня А.Г. Толстая была женщиной глубоко религиозной. В.Гиляровский передает со слов ее бывшей компаньонки Ю.А. Троицкой, что графиня постилась до крайней степени, любила есть тюрю из хлеба, картофеля, кваса и лука и каждый раз за этим кушаньем говорила: «И Гоголь любил кушать тюрю. Мы часто с ним ели тюрю». Настольной книгой ее были «Слова и речи преосвященного Иакова, Архиепископа Нижегородского и Арзамасского» в 4-х частях, изданные в 1849 г. На книге имелись отметки карандашом, которые делал Гоголь, ежедневно читавший Анне Георгиевне эти проповеди. Она обыкновенно ходила по террасе, а Гоголь, сидя в кресле, читал ей и объяснял значение прочитанного. Самым любимым местом книги у него было «Слово о пользе поста и молитвы».
Ни при каких трудных обстоятельствах Гоголь не оставлял заботы о ближних, в том числе и о крестьянах. О.В. Головня, сестра писателя, вспоминает, как однажды они были в церкви, и брат увидел, что священник им раздал просфоры, а крестьянам нет. Когда возвращались из церкви, он положил руку на плечо сестры и попросил, чтобы она велела к каждой службе печь по 25 просфор, резать их на 4 части и отправлять в церковь, чтобы священник мог раздавать людям. При этом дал ей 25 руб, чтобы не брать у матери муку, и впредь обещал присылать денег. Вместе с сестрой Гоголь заходил в избы мужиков, смотрел, как они живут; ездил на поле к жнецам.
«В то время был плохой урожай и хлеб такой низкий был, что нельзя было жать, и они руками вырывали с корнями. Мы подъехали к жнецам, брат встал, подошел к ним, спрашивал: «Тяжелее рвать, как жать?» - «Жать легче, а рвать - на ладони мозоли поробилися». А он сказал им в утешение: «Трудитесь, чтобы заслужить Царство Небесное». И по отъезде из Васильевки Гоголь не оставлял попечения о крестьянах. Со временем брат присылал матери денег, чтобы она купила хоть по теленку тем мужикам, у кого не было скота, и мне прислал 50 руб., чтобы я по усмотрению своему помогала нуждающимся. Как-то он сказал: «Нельзя осудить человека в чем бы то ни было, сейчас сам то же сделаешь». - рассказывает Ольга Васильевна.
Г.Данилевский, автор исторических романов, лично знавший Гоголя и совершивший в мае 1852 г. поездку на его родину, рассказывал в своих воспоминаниях, что местные крестьяне не хотели верить, что Гоголь умер, и среди них родилось сказание о том, что похоронен в гробе кто-то другой, а барин их будто бы уехал в Иерусалим и там молится за них. В этом сказании есть глубокая духовная правда: Гоголь действительно переселился в Горний Иерусалим и там из своего чудного, но таинственного и неведомого нам далека, у Престола Господня, молится за всю Русскую землю, чтобы непоколебимо стояла она в Православной вере и чтобы больше было в ней правды и любви, - ведь это и являлось главной заботой великой души великого русского писателя.
Владимир Воропаев
http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=38&article=6401
СВАТАЛСЯ ЛИ ГОГОЛЬ К ГРАФИНЕ ВИЕЛЬГОРСКОЙ?
Николай Васильевич, по-видимому, никогда не имел намерения жениться. Современных исследователей продолжает волновать эта тема.

В апреле 1840 г. он писал Н.Белозерскому, черниговскому помещику, с которым был знаком с нежинской поры: "Я же теперь больше гожусь для монастыря, чем для жизни светской"
А в феврале 1842-го признавался Н.Языкову: "Я чувствую, что разорвались последние узы, связывавшие меня со светом. Мне нужно уединение, решительное уединение. Я не рожден для треволнений и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха". Эти слова могут служить ответом на вопрос, поставленный Гоголем спустя 3 года в названии статьи "Чей удел на земле выше", вошедшей в книгу "Выбранные места из переписки с друзьями".
Последнее 10-летие его жизни проходит под знаком все усиливающейся тяги к иночеству. Не давая монашеских обетов целомудрия, нестяжания и послушания, он воплощал их в своем образе жизни. Николай Васильевич не имел собственного дома и жил у друзей - сегодня у одного, завтра у другого. Свою долю имения он отказал в пользу матери, и если бы не деньги, получаемые за издания своих сочинений, остался бы нищим. При этом он еще помогал бедным студентам. После смерти писателя все личное имущество его состояло из нескольких десятков рублей серебром, книг и старых вещей, а между тем созданный им фонд "на вспоможение бедным молодым людям, занимающимся наукою и искусством", составлял более 2,5 тыс. руб.
О силе его послушания говорит тот поразительный факт, что по указанию своего духовного отца он сжег главы незаконченного труда и фактически отказался от худ. творчества. Насколько труден этот шаг был для Гоголя, можно судить по его признанию в "Авторской исповеди" "Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни, и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего".
Современники не оставили никаких свидетельств о его близких отношениях с какой-либо женщиной. В письме к В.Жуковскому от 10 января 1848 г., излагая свои воззрения на искусство, он говорит, что не должен он связывать себя никакими узами на земле, в том числе и жизнью семейной. Живописцу А.Иванову он замечал, что для него едва ли позволительны мечты о женитьбе. "Вы нищий, и не иметь вам так же угла, где приклонить главу, как не имел его и Тот, Которого пришествие дерзаете вы изобразить кистью! А потому евангелист прав, сказавши, что иные уже не свяжутся никогда никакими земными узами" (из письма от 24.06. 1847 г.). В литературоведении, однако, сложилось убеждение, что Гоголь был влюблен в графиню А.М. Виельгорскую и даже пытался сделать ей предложение.
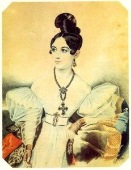
В новейшем издании переписки Гоголя с Виельгорскими этот эпизод освещается следующим образом: "По семейному преданию Виельгорских, в конце 1840-х годов Гоголь решился сделать предложение Анне Михайловне. Однако предварительные переговоры с родственниками сразу же убедили его, что неравенство их общественного положения исключает возможность такого брака".
В биографическом словаре "Русские писатели" об этом сказано более подробно. Весной 1850 г. Гоголь предпринимает первую и последнюю попытку устроить свою семейную жизнь - делает предложение А.М.Виельгорской, но получает отказ. Было ли причиной отсутствие ответного чувства или же сопротивление знатных родителей (ее мать - урожденная принцесса Бирон), но факт тот, что отказ глубоко ранил Гоголя. С чувством уязвленной гордости и горького смирения пишет он Виельгорской, что должен был лучше узнать свою роль: "Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас: Бог не даром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении (вас), как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего".
Несмотря на то, что авторы по-разному датируют сватовство Гоголя, их суждения основываются на одном и том же источнике - разысканиях В.Шенрока, посвятившего отношениям Гоголя с Виельгорскими спец. работу. На основании его переписки с графиней Анной Михайловной и некоторых устных свидетельств биограф пришел к заключению, что Николай Васильевич сделал предложение, вероятно, в 1848 г., когда после возвращения из Иерусалима ездил на короткое время в Петербург. Позднее, в IV томе своих "Материалов для биографии Гоголя", Шенрок относит сватовство писателя предположительно к 1850 г ,оговаривая, что это не больше, как предположение, когда прекратилась переписка Гоголя с Виельгорскими. Обоснование самого факта сватовства осталось прежним. Каково же это обоснование?
Известно, что графиня Анна Михайловна была одной из постоянных корреспонденток Гоголя, в отношении которой он мыслил себя духовным наставником и учителем, стремясь поддерживать в ней интерес к России и всему русскому. "Тут-то, по-видимому, и явилось у Гоголя желание видеть Анну Михайловну своей женой. Давая ей советы и наставления, касающиеся русской литературы, он начинает в то же время затрагивать вопросы, относящиеся к разным сторонам жизни. Он советует ей не танцевать, не вести праздных разговоров, откровенно высказывает ей, что она нехороша собой, что ей не следует искать избранника в большом свете посреди пустоты. В свою очередь, исполненные задушевного участия расспросы Анны Михайловны о здоровье Гоголя, об успехе его лит. занятий поддерживали в нем надежду на взаимность. Одним словом, отношения ее к Гоголю незаметно перешли за черту обыкновенной дружбы и сделались чрезвычайно интимными. Но здесь-то началась фальшь их положения. Виельгорские, как большинство людей титулованных и принадлежащих высшему кругу, никогда не могли бы допустить мысли о родстве с человеком, так далеко отстоявшим от них по рождению. Анна Михайловна, конечно, не думала о возможности связать свою судьбу с Гоголем. Оказалось, что Виельгорские, при всем расположении к Гоголю, не только были поражены его предложением, но даже не могли объяснить себе, как могла явиться такая странная мысль у человека с таким необыкновенным умом. Впрочем, мы должны сделать оговорку: собственно говоря, Гоголь только обратился с запросом к графине через А.В. Веневитинова, женатого на старшей дочери Виельгорских, Аполлинарии Михайловне. Зная взгляды своих родственников, Веневитинов понял, что предложение не может иметь успеха, и напрямик сказал о том Гоголю". - пишет Шенрок.
В свое время профессор А.И.Кирпичников высказал сомнение в сватовстве Гоголя, отмечая противоречия в построениях биографа: если Гоголь делал предложение в 1848 г., то все интимности, отмеченные им в переписке молодой графини с Гоголем, являются после предполагаемого сватовства и отказа; если же оно произошло в 1850 г., то нельзя не признать крайне странным сватовство Гоголя через посредников на девушке, которую он не видел 1,5 года. Да и сам Шенрок, чувствуя неубедительность своих умозаключений и колеблясь в выборе даты - к какому году следует отнести предложение Гоголя, замечает, что "воспоминание о нем сохранилось в семейных преданиях родственников Анны Михайловны, а из переписки о существовании его можно догадываться только по единственному письму..."
Письмо Гоголя не датировано и начинается словами: "Мне казалось необходимым написать вам хотя часть моей исповеди".
Шенрок полагает, что оно было написано после получения Гоголем отказа по поводу сделанного им предложения, и склонен приурочивать его к 1850 г. когда прекратилась переписка Гоголя с Виельгорскими. Комментаторы Академического издания датируют это письмо 1850 г. Весной Николай Васильевич предлагает графине с семьей пожить в их подмосковной деревне. Свою схему выстраивает И.Золотусский, относя вышеуказанное письмо к маю 1849 г., что совершенно справедливо. Прямая ссылка на него есть в письме Гоголя к графине Анне Михайловне от 3 июня 1849 г.: "Вот отчего мне казалось, что жизнь в деревне могла бы больше доставить пищи душе вашей, нежели на даче". Золотусский называет слухами и легендой устные сообщения Веневитиновых о сватовстве и основывает его единственно на майском письме Гоголя к графине, при этом он не берет в расчет внутреннего, почти монашеского устроения Гоголя.
Между тем при внимательном прочтении этого письма нельзя найти никаких указаний на сватовство Гоголя. Речь идет о неких недоразумениях, рожденных на определенной почве. Можно предположить, что на мгновение он утратил свой обычный строгий контроль над собой и незадолго до этого признавался графине: "Наконец, я испытал в это время, как не проходит нам никогда безнаказанно, если мы хотя на миг отводим глаза свои от Того, к Которому ежеминутно должны быть приподняты наши взоры, и увлечемся хотя на миг какими-нибудь желаньями земными наместо небесных. Но Бог был милостив и спас меня, как спасал уже не один раз" (из письма от 30 марта 1849 г).
Не следует преувеличивать полушуточных любезностей Гоголя о "верном псе, обязанном беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего". Это никак не похоже на любовное признание, хотя исследователи на подобные слова и опираются в своих заключениях. В том же письме он настойчиво возвращает себя на уровень прежнего наставника графини, приглашая ее пожить в деревне и заботиться там о крестьянах, а не о себе. Тем более, что после этих недоразумений переписка Гоголя с Виельгорскими не прервалась. Меньше всего можно доверять как документу неким семейным преданиям. Еще протопресвитер В. Зеньковский заметил, что рассказ Шенрока слишком неопределенен, чтобы на него можно было серьезно опираться. Высказывание графа В.Соллогуба, женатого на дочери Виельгорских, Софье, что Анна Михайловна - единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь, на которое обычно ссылаются, также не содержит в себе никаких свидетельств о его сватовстве.
В Рукописном отделе РНБ в Санкт-Петербурге хранятся письма Анны Васильевны, сестры писателя, к А.М. Черницкой, автору статей о Гоголе, в том числе об отношении его к матери. Из этих писем видно, что в семье Гоголя отвергали саму возможность подобного сватовства: "Меня очень огорчил Шенрок, хотя еще не читала его статьи, но из его писем знала, и писала ему, что это сватовство невероятно! Возвратясь из Иерусалима, он не в таком был настроении, говорил, что желает пожить с нами в деревне, хозяйничать, построить домик, где бы у каждого была своя комната. Мне кажется, он не думал о женитьбе, всегда говорил, что он не способен к семейной жизни! Я написала Шенроку об этом".
В другом письме к тому же адресату Анна Васильевна сообщает, что Н.Берг (поэт-переводчик и историк, автор воспоминаний о Гоголе) предлагал Шенроку написать статью "Сватовство Гоголя" (вероятно, для редактировавшейся им газеты "Варшавский Дневник"): "Я в негодовании, как ему могут это предлагать! Берется писать его биографию и совсем его не знает".
Итак, нельзя не признать, что вопрос о сватовстве Гоголя к графине Виельгорской не имеет сколько-нибудь серьезного научного обоснования. В этой связи вспомним слова о нем, сказанные В.Жуковским: "Настоящее его призвание было монашество. Я уверен, что если бы он не начал свои "Мертвые души", которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы стал монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно"
В.А. Воропаев , Московский журнал
http://www.mosjour.ru/index.php?id=780
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 16 Апр 2018, 16:45 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | ЖИВАЯ ДУША ГОГОЛЯ
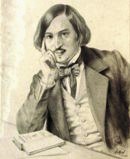
Более 200 лет прошло со дня смерти писателя, но до сих пор не утихают споры вокруг этой личности. Кем был Николай Васильевич? Почему так жил и так умер? Что питало его бессмертное творчество?.. Гоголь остро ощущал свою нерасторжимую связь с Родиной, предчувствовал заповеданную ему высокую миссию, он благословил русскую литературу на служение идеалам добра, красоты и правды. Все отечественные писатели, по известному выражению, вышли из гоголевской «Шинели», но никто из них не решился сказать подобно Гоголю: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..»
Он был воодушевлён идеей патриотического и гражданского служения: «Назначение человека - служить, и вся наша жизнь есть служба. Писатель, если только он одарён творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде всего как человек и гражданин земли своей...» - повторял автор «Ревизора» и «Мёртвых душ». Размышляя о церкви, о православном и католическом духовенстве, Гоголь замечал: «Римско-католические попы именно оттого сделались дурными, что чересчур сделались светскими».
Православные же священники призваны избегать тлетворного светского влияния и напротив - оказывать душеспасительное воздействие на мирян через самоотверженное проповедническое служение Слову Истины: «Духовенству нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми. У Духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: Исповедь и Проповедь. На этих двух поприщах, из которых первое бывает только раз или два в год, а второе может быть всякое воскресение, можно сделать очень много. И если только Священник, видя многое дурное в людях, умел до времени молчать о нём, и долго соображать в себе самом, как ему сказать таким образом, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то он уже скажет об этом так сильно на Исповеди и Проповеди. Он должен с Спасителя брать пример».
Творчество самого писателя имеет исповедальный характер, носит учительную направленность, звучит как художественно-публицистическая проповедь. Пророческие предвидения об общественно-духовном кризисе и путях выхода из него не только стали нравственным ориентиром для следующего поколения русских классиков, но и проливают свет на эпоху сегодняшнюю, звучат на удивление современно: «Я почувствовал презренную слабость моего характера, моё подлое равнодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрёк себе во всём, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгли великим простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращение к Руси: “В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?..” В России теперь на каждом шагу можно сделаться богатырём. Всякое звание и место требуют богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места (все места святы), что нужно богатырских сил, чтобы вознести их на законную высоту. Важно, чтобы мы всей душой осознали свою причастность всеобщему делу возрождения России, усовершенствования жизни, а для этого, необходимо осуществление простого правила. чтобы каждый честно выполнял своё дело на своём месте. Пусть каждый возьмёт в руки по метле! И вымели бы всю улицу».
Эти строки из «Ревизора» неоднократно цитировал Н.Лесков, и нам не мешает вспоминать их чаще.

Единственный дошедший до нас фотопортрет Н.В. Гоголя. Фото С.Левицкого
В апокрифическом рассказе о Гоголе» «Путимец» Лесков вложил в уста молодого Гоголя - заветную мысль о способности русских людей к быстрому нравственному возрождению: «А мне всё-таки то дорого, что им всё дурное в себе преодолеть и исправить ничего не стоит; мне любо и дорого, что они как умственно, так и нравственно могут возрастать столь быстро, как никто иной на свете я ценю, я очень ценю! Я люблю, кто способен на такие святые порывы, и скорблю о тех, кто их не ценит и не любит!»
Велико было внимание писателя к тайнам бытия, разделённого на уделы света и мрака. Борьба с чёртом, с силами зла - постоянная гоголевская тема. Он ощущал действенность этих сил и призывал не бояться их, не поддаваться, противостоять им. В письме к Аксакову 16 мая 1844 г. он предлагал использовать в борьбе с «нашим общим приятелем» простое, но радикальное средство в духе кузнеца Вакулы, отхлеставшего напоследок чёрта хворостиной, в повести «Ночь перед Рождеством»: «Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он, точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечёт, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад - тут-то он и пойдёт храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмёт. Мы сами делаем из него великана, а на самом деле он чёрт знает что. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: “Хвалился чёрт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньёй не дал власти”».
Мысль о бессилии нечистой силы перед лицом твёрдого духом и стойкого в вере человека - одна из любимых у Гоголя - восходит к древнерусской житийной традиции. В «Повести временных лет» говорится: «Бог один знает помышления человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом».
В то же время посрамление и одоление чёрта даётся совсем не просто, что и показывает Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Высмеять зло, выставить его напоказ в комическом и уродливом виде, значит почти победить его. Однако в финале повести есть намёк на несмягчаемую силу чертовщины. В образе плачущего ребёнка воплощается тема страха перед нечистью. При виде изображения чёрта в аду дитя, «удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось к груди матери».
Писатель даёт понять, чтобы окончательно победить «врага рода человеческого», нужны радикальные средства иного порядка - противоположно направленная, высшая Божья сила.
Болея душой за судьбу Руси, Гоголь, согласно его глубоко лирическому, одухотворённому признанию, дерзнул «вызвать наружу всё, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, - всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздроблённых, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога». Для этого «много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести её в перл создания». Эти творческие жемчужины, несомненно, из духовной, Божественной сокровищницы Творца.
Основное свойство классики - быть современной во все времена. Так же, как и Новый Завет в каждое мгновенье и для каждого остаётся новым, каждый раз заново обновляя и возрождая человека. Гениальные гоголевские типы оживают и воплощаются постоянно. Белинский справедливо размышлял: «Каждый из нас, какой бы он ни был хороший человек, если вникнет в себя с тем беспристрастием, с каким вникает в других, то непременно найдёт в себе, в большей или меньшей степени, многие из элементов многих героев Гоголя. Не все ли мы после юности, так или иначе, ведём одну из жизней гоголевских героев? Один остаётся при маниловской тупой мечтательности, другой буйствует a la Nosdreff, третий - Плюшкин и проч.».
Путешествуя в пространстве и во времени, приспосабливаясь к нему, гоголевские персонажи по-прежнему вполне узнаваемы и в нынешней жизни - продолжают оставаться жидоморами -чичиковыми, собакевичами, дубинноголовыми коробочками, петрушками, селифанами, кувшинными рылами, ляпкиными-тяпкиными, городничими, держимордами. В современной коррумпированной чиновничьей среде, как в гоголевских «Мёртвых душах», по-прежнему «мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы». Хлестаков в «Ревизоре» - это уже не просто нарицательный тип, а всепроникающее явление.
«Этот пустой человек и ничтожный характер заключает в себе собрание многих тех качеств, которые водятся и не за ничтожными людьми. Редко кто им не будет хоть раз в жизни. Предуведомлении для тех, которые хотели бы сыграть как следует “Ревизора”» Не случайно Хлестаков кричит оцепеневшим от подобострастного ужаса чиновникам: «Я везде, везде!»
Открыв всеобъемлющую фантасмагорию хлестаковщины, Гоголь приходил к суду и над самим собой. Относительно своей книги «Выбранные места из переписки с друзьями» он писал В.Жуковскому: «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в неё. Право, во мне есть что-то хлестаковское».
В апреле 1847 г. в письме к А.Россет писатель каялся: «Я должен Вам признаться, что доныне горю от стыда, вспоминая, как заносчиво выразился во многих местах, почти а la Хлестаков. Я не любил никогда моих дурных качеств... взявши дурное свойство моё, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его как смертельного врага...»
Писатель обращался к исследованию глубин человеческой природы. В его произведениях не просто помещики и чиновники; это типы общенационального и общечеловеческого масштаба, сродни героям Гомера и Шекспира. Русский классик формулирует законы национальной жизни и целого мира. Вот один из его выводов: «Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина!»
Мысль о Божественной сущности слова была основополагающей для Гоголя. Он обострённо ощущал священную сущность слова: «Чувствовал чутьём всей души моей, что оно должно быть свято».
Это привело его к основным убеждениям: «Опасно шутить писателю со словом»; «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними»; «Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку».
Эти афористически выраженные христианские писательские убеждения определили смысл главы IV «О том, что такое слово» «Выбранных мест из переписки с друзьями» и пафос этой книги в целом: «Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще - слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздаётся гнилое слово о гнилых предметах».
Как никогда актуальны гоголевские мысли об особой ответственности всех, кто наделён этим Божественным даром: со словом надо обращаться трепетно, бесконечно бережно, честно.
Незадолго до смерти, после посещения Оптиной Пустыни - писатель изменился и внешне, и внутренне. По свидетельству А.К. Толстого, «он был очень скуп на слова, и всё, что ни говорил, говорил как человек, у которого неотступно пребывала в голове мысль, что “с словом надо обращаться честно”. По его собственному признанию, он стал умнее и испытывал раскаяние за гнилые слова, срывавшиеся с уст его и выходившие из-под пера под влиянием дымного надмения человеческой гордости - желания пощеголять красным словцом.
Монах Оптиной Пустыни отец Порфирий, с которым был дружен Гоголь, в письме убеждал его: «Пишите, пишите и пишите для пользы соотечественников, для славы России, и не уподобляйтесь оному ленивому рабу, скрывшему свой талант, оставивши его без приобретения, да не услышите в себе гласа: “ленивый и лукавый раб”».
Писатель много молился, виня и себя самого в духовном несовершенстве. «Помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, и с Богом за дело. Учиняя строжайший суд над самим собой, предъявляя себе высочайшие духовно-нравственные требования, писатель являлся поистине титанической и трагической личностью и готов был пройти своим многотрудным путём до конца. - писал он накануне паломнической поездки по святым местам.
После его смерти И.С. Тургенев писал И.Аксакову 3 марта 1852 г.: «Скажу вам без преувеличения: с тех пор, как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя. Эта страшная смерть - историческое событие, понятное не сразу: это тайна, тяжёлая, грозная тайна - надо стараться её разгадать, но ничего отрадного не найдёт в ней тот, кто её разгадает... все мы в этом согласны. Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к её недрам, - ни одному человеку, самому сильному духу, не выдержать в себе борьбу целого народа, и Гоголь погиб! Главное, он сумел пробудить в нас сознание о нас самих».

Посмертная маска Гоголя
По справедливому суждению Н.Чернышевского, Гоголь «сказал нам, кто мы таковы, чего недостаёт нам, к чему должны стремиться, чего гнушаться и что любить». В предсмертных записях он оставил пасхальный завет воскрешения «мёртвых душ»: «Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник».
Непреходящими остаются православные идеи христианского писателя о духовном возрождении России, воскрешении «мёртвых душ». Полная ожиданий и надежд Россия и сегодня всё так же обращается к своему великому сыну в поисках правды о себе самой. И недалеко уже то время, которое виделось Гоголю, «когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облечённой в святый ужас и блистанье главы, и почуют в смущённом трепете величавый гром других речей...»
Алла Новикова-Строганова, доктор фил. наук, профессор, член СП РФ
05.03. 2018. газета "Вечный зов"
https://www.vzov.ru/2018/03-05/24.html
ТАЙНА ХУТОРА БЛИЗ ДИКАНЬКИ

Три огромных дуба, как три богатыря, замерли у опушки небольшого леса, словно охраняя оживленную автотрассу Полтава - Шишаки. Между их мощными стволами прорисовывается живописная картина виднеющегося вдали села, украшенного разноцветными хатынками. Это легендарная Диканька. Это название очевидно, было связано с окружавшими ее лесами. Впервые в документах она упоминается в 1658 г., когда возле нее произошел бой между полковником Мартином Пушкарем и гетманом И.Виговским: первый тянулся к России, второй - к Польше. Сегодня Диканька - небольшой районный центр, находящийся в 29 км. от Полтавы, с населением всего 9 тыс. чел. Уже почти 200 лет она хранит тайну о своем знаменитом земляке. У Николая Васильевича прадед был священником, дед окончил Киевскую Духовную академию, отец - Полтавскую семинарию.
В диканьском краеведческом музее мне прочитали отрывок из письма Гоголя к своей матери: «Я просил Вас рассказать мне о Страшном Суде, и Вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии самые высокие мысли».
Современники Гоголя утверждали, что он был очень набожным, во время молитв стоял в церкви на коленях с поникшей головой и часто бил поклоны. Сильное влияние на творчество будущего писателя оказала и тайна его рождения, и удивительная судьба родителей - Василия Опанасовича и Марии Ивановны.
Еще в 14-летнем возрасте Василию Опанасовичу приснился чудный сон: в церкви священник показал ему девушку, с которой нужно было идти под венец, Утром он сказал родителям, что сегодня увидит свою будущую невесту, а вечером, возвращаясь домой, они заехали в гости к своим знакомым Трощинским, у которых на воспитании была годовалая девочка (родная мать, будучи многодетной, отдала ребенка своей сестре). Увидев ее, юный Вася тут же объявил, что это и есть его будущая супруга…Когда Маше исполнилось 13 лет, жених попросил ее руки, но получил от ворот поворот: родная тетя, сославшись на очень юный возраст племянницы, попросила его немного подождать. Через год молодые, несмотря на волнение родственников, все-таки сыграли свадьбу. Их первые двое детей родились мертвыми. Опасаясь за жизнь третьего, юная Мария Гоголь-Яновская, несмотря на беременность, отправилась из своей Васильевки в соседнюю Диканьку. Возможно, она тоже хотела стать свидетельницей одного чуда, о котором долгое время гудела вся Полтавская губерния: после большой грозы в диканьском лесу вдруг появилась икона Николая Чудотворца (с тех пор тот лес называется Николаевским). После того как ее отнесли в сельский храм, снова прогремела молния, и снова икона оказалась на том же самом лесном пне, где ее обнаружили впервые. Духовенство восприняло это знамение как указание свыше: на том месте в лесу построили церковь, а в ее иконостасе поместили чудотворный образ Николая Угодника. Говорят, что именно перед ним юная Мария дала свой обет: в случае появления на свет долгожданного сына его назовут Николаем…
Сейчас эта явленная икона находится в Полтавском худ. музее. По мнению специалистов, она уже не подлежит реставрации из-за сильно потрескавшейся и осыпавшейся краски - уцелел только фрагмент руки. Но не случайно вышло так, что когда кто-то из верующих принес священнику другой образ Николая Чудотворца, его размеры точь в точь совпали с размерами прежней иконы. А вот сам Николаевский храм сохранился до сих пор. В годы гонений его закрыли, а батюшку, невзирая на преклонный возраст, откомандировали на принудительные работы за то, что он скосил бурьян: по мнению компартийцев, трава, растущая на церковном дворе, не должна принадлежать батюшкиной буренке.
Если издали посмотреть на белоснежное круглое здание церкви, то создается впечатление, что она зависла в воздухе. По мере приближения ощущения будут усиливаться из-за разноцветной гаммы, характерной для украинского села гоголевской эпохи: белые стены, зеленая полусфера купола, маленькая позолоченная маковка с крестом, сделанный из дуба иконостас, бело-серый мрамор пола, живописные картины. По-настоящему насладиться этой неописуемой красотой можно лишь во время Божественной литургии, когда раскрываются лепестки купола. В этот миг трудно понять, где ты находишься - на Небе или на земле…
Валентин Ковальский, Кмев
14.10. 2005. газета "Благовест"
https://blagovest.cofe.ru/Pravosl....Dikanki
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 25 Мар 2019, 17:25 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | «СЛУЖИТЬ И НЕБУ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»

4 марта исполнилось 167 лет со дня смерти великого писателя. Что сделало его особенным не только для всей русской литературы, но для русского православия? Каким он был на самом деле? И какую борьбу вел, чтобы оставаться честным перед собой и своим читателем? Рассказ «Храни Бог всякого от битвы с друзьями» из книги Н.Голдовской «О верных друзьях и вере. Живые портреты классиков».
Как-то на улице меня остановил пожилой мужчина. Я думала, ему нужна помощь. А он, может, пошутить хотел. Сказал:
- Вы похожи на нашего русского писателя Гоголя. Он ваш родственник?
- Да, - ответила ему.
И я действительно ощущаю себя его родственницей. Прежде всего - мы в одной Церкви, а здесь все братья и сёстры, соединены Кровью Христовой. К тому же он задавал себе в жизни такие же вопросы, которые мне тоже близки. Ошибался, путался, но всегда искал Истину. С большой буквы.
«Много, много в это трудное время совершилось в душе моей, и да будет вовеки благословенна воля Пославшего мне скорби и всё то, что мы обыкновенно приемлем за горькие неприятности и несчастья. Без них не воспиталась бы душа моя, как следует, для труда моего; мертво и холодно было бы всё то, что должно быть живо, как сама жизнь, прекрасно и верно, как сама правда». - писал Гоголь осенью 1845 г,
Николай Васильевич родился в местечке Великие Сорочинцы Полтавского уезда. До него в семье уже появилось двое детей и оба умерли. Мать писателя дала обет перед образом Николая Чудотворца: если родится мальчик, назовёт его именем этого святого. Видно, по молитвам святителя, ребёнок был особенно восприимчив к вере. Когда поступал в Нежинскую гимназию, только один предмет сдал хорошо - Закон Божий. Довольно быстро он завоевал признание. Его «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» (а здесь был и «Тарас Бульба»), «Петербургские повести» читала вся Россия. Его пьесы шли на лучших сценах, в том числе на сценах императорских театров. «Мёртвые души» произвели буквально ошеломляющее впечатление на читающую публику. Он прочно стал писателем №1 в России. Критики и поклонники ждали продолжения поэмы, да и автор считал её главным делом своей жизни. Но как могла продолжиться книга? Кое-кто из читателей надеялся, что во II томе будет острая сатира, смех сквозь невидимые миру слёзы, а писатель решил иначе. Он хотел, чтобы души его героев ожили, узнали Христа, возродились - через покаяние. И начинает готовить публику к такому повороту: он пишет книгу
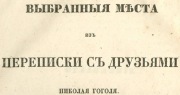
Его главная мысль проста: Россия имеет бесценное богатство - Православие. Научиться бы жить им. 30 июля 1846 г. Гоголь сообщает своему другу П.Плетнёву: «Все свои дела в сторону и займись печатаньем этой книги. Она нужна, слишком нужна всем. Эта книга разойдётся более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга…»
Ещё одно письмо Плетнёву - 20 октября: «Ради Бога, употреби все силы и меры к скорейшему отпечатанью книги. Это нужно, нужно и для меня, и для других; словом, нужно для общего дела. Мне говорит это моё сердце и необыкновенная милость Божия, давшая мне силы потрудиться тогда, когда я не смел уже и думать о том, не смел и ожидать потребной для того свежести душевной.И всё мне далось вдруг на то время: вдруг остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось это всё до тех пор, покуда не кончилась последняя строка. Это просто милость Божия, и мне будет грех тяжкий, если стану жаловаться на возвращение трудных, болезненных припадков.Друг мой, я действовал твёрдо во имя Бога, когда составлял мою книгу; во славу Его святого имени взял перо; а потому и расступились передо мною все преграды и всё, останавливающее бессильного человека».
В январе 1847 г. Плетнёв пишет Гоголю: «Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние своё только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Всё, до сих пор бывшее, мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Обнимаю тебя, друг. Будь непреклонен и последователен. Что бы ни говорили другие, иди своей дорогою…»
Гоголь начинает получать отклики на новую книгу. А.О. Смирнова, супруга калужского губернатора: «Книга Ваша вышла под Новый год. И Вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую Вы подарили этим сокровищем. Странно! Но Вы, всё то, что Вы писали доселе, Ваши „Мёртвые души“ даже, - всё побледнело как-то в моих глазах при прочтении Вашего последнего томика. У меня просветлело на душе за Вас». Крупный помещик и писатель С.Т. Аксаков: «Друг мой! Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и Бога, и человека».
Читающее общество разделилось. Многие, считавшие Гоголя своим, пришли в негодование, но самые уничтожающие слова адресовал писателю В.Белинский: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов - что Вы делаете! Взгляните себе под ноги, ведь Вы стоите над бездною. Что Вы подобное учение опираете на православную церковь, это я ещё понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницею деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более, православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину Своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь…»
Тут, как ни странно, демократ Белинский проявил себя как правоверный иудей времён Христа. Именно иудеи ждали, что Господь освободит их от римского владычества, но Христос говорил об ином: «…создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её». Белинский громил Гоголя: «…русский человек произносит имя Божие, почёсывая себе зад. Он говорит об образе (иконе): "Годится - молиться, а не годится - горшки покрывать". Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. Если Вы любите Россию, порадуйтесь со мною, порадуйтесь падению вашей книги! Она не будет иметь успеха, и о ней скоро забудут. Пусть Вы или само время докажет мне, что я заблуждался в моих об Вас заключениях. Я не раскаюсь в том, что сказал Вам, что должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех её издания в свет искупить новыми творениями, которые бы напомнили Ваши прежние».
Получив это послание, Гоголь не на шутку рассердился. В порыве гнева начал писать Белинскому такой же обличительный памфлет, повторял его слова: «Вы стоите над бездною!» Но всё-таки Николай Васильевич был христианином. Покровительство Николая Угодника помогало ему всегда. И Гоголь ответил Белинскому: «Желаю Вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще».
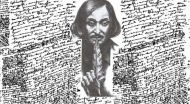
Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, ещё сильнейшая оплеуха мне самому. После неё я очнулся, точно после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в неё. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть всё своё неряшество и меньше грешить вперёд…» - делился Гоголь с В.Жуковским.
Его не покидает его природный юмор, он не теряет спокойствия и присутствия духа. Но вот что сообщает Аксакову 10 июня 1847 г.: «Знаю только, что сердце моё разбито и деятельность моя отнялась. Можно вести брань с самыми ожесточёнными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут всё изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой, я изнемог…»
Через некоторое время Николай Васильевич выполняет своё давнее желание и отправляется на Святую землю. В его письме Жуковскому есть такие слова: «Моё путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика чёрствость моего сердца. Друг, велика эта чёрствость! Я удостоился провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом Гробе вместо алтаря, и при всём том я не стал лучшим, тогда как всё земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное».

Время всё расставило по местам. Книга действительно совершила переворот. Она заговорила о духовном поиске человека на земле, об очень непростой, запутанной, больной и всё-таки такой прекрасной нашей жизни. Священномученик Иоанн Восторгов сказал о Николае Васильевиче: «Это был писатель и человек, который правду свою и правду жизни и миропонимания проверял только правдой Христовой».
«Выбранные места» Гоголя уже в XIX в. помогали людям разбираться, где - правда, где - ложь. Это, оказывается, нужно во все времена. Благодаря этой книге искренне обратился к вере, стал оптинским иеромонахом отец Климент (Зедергольм). А в XX в. через «Выбранные места» приходили к вере тысячи людей. Гоголь стал для них, как и для меня, ближайшим родственником.
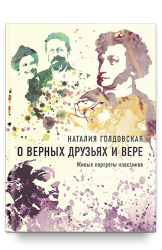
Книга представляет собой сборник коротких историй о выдающихся личностях XIX–XX вв., об их взаимоотношениях, дружбе, творчестве, пути к вере. Написанные с тонким чувством юмора, изящным слогом, истории легко читаются и, несмотря на простую форму, отличаются глубиной и превосходным знанием темы.
04.03. 2019. Православие и мир.
https://www.pravmir.ru/sluzhit....gogolya
ГОГОЛЬ. ИСКУШЕНИЯ ТАЛАНТА

«В сей день я только получил ваше письмо с деньгами. Около 20-ти дней шло оно, да более недели пролежало уже здесь на почте по той причине, что я переменил прежнюю свою квартиру. Вы не ошиблись, почтеннейшая маменька, я точно сильно нуждался в это время, но, впрочем, всё это пустое; что за беда посидеть какую-нибудь неделю без обеда, того ли ещё будет на жизненном пути, всего понаберёшься, знаю только, что если бы втрое, вчетверо, всотеро раз было более нужд, и тогда они бы не поколебали меня и не остановили меня на моей дороге». - сообщал матери Николай Васильевич,
Над письмом стоит дата: 30 апреля 1829 г. Н.Гоголю только-только исполнилось 20 лет. Он ещё не знаком с Пушкиным и Жуковским, но уже верит: лит. путь им выбран верно. Правда, обстоятельства - жмут. И ему всё-таки хочется пожаловаться родному человеку: «Вы не поверите, как много в Петербурге издерживается денег. Несмотря на то, что я отказываюсь почти от всех удовольствий, что уже не франчу платьем, как было дома, имею только пару чистого платья для праздника и халат для будня; что я тоже обедаю и питаюсь не слишком роскошно и, несмотря на это всё, по расчёту менее 120 руб. никогда мне не обходится в месяц. Как в этаком случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добиться этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире…»
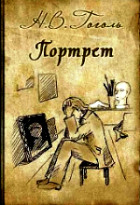
Через 3 года уже известный молодой писатель Гоголь начал новую повесть «Портрет». Герой её 1-й части тоже молод. Почти ровесник писателя. Это художник Чартков: «Старая шинель и нещегольское платье показывали в нём того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своём наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости».
Художнику интересно, какие картины ценят. И он останавливается возле лавки, где ими торгуют. Простой народ предпочитает что-то яркое, лубочное. Ему не нужны творческие открытия и поиски. Не нужно то, чем занимается Чартков, а это - великое искушение: зачем что-то делать, если только единицы поймут и оценят? Но у Чарткова талант. Учитель требует от него самоотверженной работы: шаг за шагом изучать основы профессии, худ. приёмы. Вглядываться в мир, свет, краски. Талант дан сверху. Он требует умножения. За отношение к нему придётся отвечать перед Небом. Денег у художника нет. А тут ещё на последний двугривенный (20 коп.) он купил портрет старика с лицом бронзового цвета: «Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и всё старательное тщание своё художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью».
Ночью то ли явно, то ли во сне Чартков увидел: старик вышел из портрета и пересчитывал золотые монеты. А утром хозяин квартиры с квартальным полицейским пришёл выселять Чарткова. Потому как тот за жильё задолжал. У квартального благожелательное отношение к художникам и художествам. Он посоветовал Чарткову расплатиться с хозяином квартиры картинами, но хозяин отказался. Молодой человек снова услышал: его творения не нужны. Под рукой квартального рассыпалась рамка портрета старика. Оттуда выпала трубочка с тысячей золотых. В одно мгновение подхватил её художник. У него не было ни гроша - и вдруг такое богатство! Началось ещё одно искушение - деньгами. Чартков смотрел на золотые монеты и думал, что с ними делать? Перед художником открылись два пути.
Первый: «Теперь я обеспечен по крайней мете на 3 года, могу запереться в комнату, работать. На краски у меня теперь есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть и если поработаю 3 года на себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех и могу быть славным художником».
Путь второй: «но из внутри раздавался другой голос слышнее и звонче. И как взглянул он ещё раз на золото, не то заговорили в нём 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было всё то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нём забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую… и прочее, и он, схвативши деньги, был уже на улице. Прежде всего, зашёл к портному, оделся с ног до головы и, как ребёнок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте…»
Чартков стал использовать талант для себя - для материального обеспечения жизни. Сделался модным живописцем, стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться. В общем, превратился в ремесленника, возможно, хорошего. Ценили же его картины, но вот беда: душа чувствовала в себе силу таланта, - неразвитого, задавленного, не вошедшего в область духа. Но слава к нему пришла - ещё оно искушение. Гоголь уверен: «Слава не может дать наслажденья тому, кто украл её, а не заслужил и потому все чувства и порывы его обратились к золоту».
Художник разбогател, набил сундуки миллионами, уже начинал верить он, что всё на свете делается просто, вдохновенья свыше нет. Однажды он увидел картину подлинного мастера и пришёл в ужас от своего выбора. Бросился домой, начал писать, но основы для свободного, полётного творчества он не заложил. Этим надо было заниматься с молодости, годами, постепенно. И Чартков возненавидел тех, кто остался верен таланту, возненавидел их произведения, на аукционах скупал, а потом уничтожал картины высоких мастеров. Рассудок его помутился, наступила тяжёлая смерть.
Действие 2-й части повести проходит на аукционе. Там продаётся портрет старика с живыми глазами. Молодой человек, художник, убеждает публику уступить картину ему. И рассказывает историю портрета - историю зла, погубившего много талантливых людей. Написан портрет его отцом по заказу самого старика-ростовщика. Отец был самоучкой: «Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого».
Отец художника говорил: «Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймёт меня, поблагодарит, не поймёт - всё-таки помолится Богу». В конце жизни он пришёл в монастырь, сын навестил его и получил такое благословение: «Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар Бога - не погуби его. Исполни, сын, одну мою просьбу. Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению - во что бы то ни стало, истреби его…» Тут рассказчик посмотрел в сторону портрета, висевшего на стене. Публика тоже повернулась к нему, но портрета - не было. Его украли под шумок: зло продолжает действовать в мире и искушать таланты.
Некоторые современники Гоголя повесть не приняли. Особенно один критик. И в 32-33 года Николай Васильевич её переписал. Но все мысли о таланте, его небесном происхождении и искушениях оставил. Так что критик опять негодовал. Почему? Можно предположить. Во-первых, Гоголь говорил о служении и молитве Богу через талант. Это раздражало неверующих людей. Во-вторых, повесть обличала тех, кто не захотел посвятить жизнь умножению таланта и предпочёл служить себе - используя талант. Так или иначе, эти люди оправдывали свой выбор. Но оправдания - нет. Есть только покаяние. Таланты освещают нашу жизнь. Зло усиленно борется с ними. И всегда будет искушать их деньгами, сиюминутной известностью, якобы ненужностью для других: «Никому это не надо!»
Идут века. Бог по-прежнему щедро раздаёт людям таланты: слова, рисования, композиции, целительства, милосердия, любви… Каждому человеку, получившему талант, надо пройти через искушения. Те же самые. Ничего нового. И сделать выбор: стать преуспевающим середнячком - или светочем. Искушения продолжаются всю жизнь. Молодой Гоголь чувствовал это: «что за беда посидеть какую-нибудь неделю без обеда, того ли ещё будет на жизненном пути, всего понаберёшься, знаю только, что если бы втрое, вчетверо раз было более нужд, и тогда они бы не поколебали меня и не остановили меня на моей дороге».
Наталия Голдовская
15.09. 2022. Семейная православная газета
http://sp-g.ru/?p=4372#more-4372
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 06 Апр 2019, 19:22 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | К 210-летию со дня рождения
«Мне хочется знать, оживет ли как следует Чичиков?» И Гоголь ответил: «Да, это непременно будет»

Какое прозвище получил Гоголь в гимназии за любовь к одиночеству, почему наборщики фыркали, когда печатались “Вечера на хуторе близ Диканьки”, правда ли, что “Мертвые души” были названы поэмой в шутку, в чем, по идее Гоголя, причина всех пороков и как смерть писателя от меланхолии стала потрясением для всех его друзей.
 
Свой талант Николай получил от отца: помещик средней руки и мелкий чиновник В.А. Гоголь-Яновский был хорошим рассказчиком и большим мечтателем. В свободное время баловался сочинительством и актерской игрой, но серьезно к этим увлечениям никогда не относился. Мать, М.И. Косяровская, была первой красавицей Полтавщины. Сын, похоже, внешне был не в нее, зато унаследовал от маменьки глубокую веру и богобоязненность.
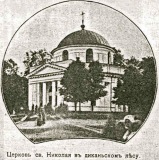
Церковь в соседней деревне – Диканьке – в которой был крещен будущий писатель, была освящена в память Николая Угодника.
"Таинственный Карло" – такое прозвище получил мальчик в гимназии за любовь к одиночеству. Учебное заведение было весьма посредственным: орфографические ошибки можно найти даже в классных журналах, а учитель русской словесности открыто презирал Пушкина и не знал его творчество настолько, что правил его стихи, которые гимназисты в шутку выдавали за свои. Но даже при таком низком уровне образования Коля был средним учеником, да и в кругу товарищей так и не стал своим. Учеба в гимназии особого следа в воспоминаниях писателя не оставила.

Первым его настоящим успехом в литературе стала повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть из народного предания, рассказанная дьячком Покровской церкви». Повесть положила начало сборнику «Вечера на хуторе близ Диканьки», который заметил и высоко оценил сам Пушкин. Александр Сергеевич писал: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыгать и фыркать. Фактор (распорядитель работ) объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою».
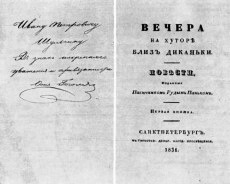
Николай I присутствовал на премьере «Ревизора». Много смеялся, произнес историческую фразу: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!» – и велел смотреть комедию министрам. Но мнения просвещенной публики резко разделились. Одни восхищались пьесой, видели в ней глубокий смысл, другие возмущались, обвиняли в клевете и очернении русской жизни, третьи просто недоумевали. Гоголя постоянно преследовали припадки тоски. «Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего, и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно» («Авторская исповедь», 1847).
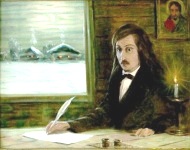
Идею «Мёртвых душ» писателю подсказал Пушкин: «Пушкин находил, что такой сюжет «Мёртвых душ» хорош для меня тем, что даёт полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество разнообразных характеров».
Сам Гоголь считал, что для того, чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней поездиться самому. В октябре 1835 г. он сообщал Пушкину: «Начал писать «Мёртвые души». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтись. Мне хочется в этом романе показать хотя бы с одного боку всю Русь».

Почему прозаический текст назван поэмой? Одни считали, что Гоголь сделал это в шутку – человек, с первых шагов заявивший о себе как о сатирике, просто обязан быть несерьезным. С этим мнением категорически был не согласен Белинский. В своей статье о «Мертвых душах» критик писал: «Нет, не в шутку назвал свой роман поэмой Гоголь. И не комическую поэму он разумел под этим. И грустно думать, что этот высокий лирический пафос, эти поющие, гремящие дифирамбы блаженствующего в себе национального самосознания будут далеко не для всех доступны. Высокая вдохновенная поэма пойдет для большинства за преуморительную шутку».

Обложку к первому изданию «Мертвых душ» Гоголь рисовал сам: домики с колодезным журавлем, бутылки с рюмками, танцующие фигурки, греческие и египетские маски, лиры, сапоги, бочки, лапти, поднос с рыбой, множество черепов в изящных завитках, а венчала всю эту причудливую картину стремительно несущаяся тройка – и надпись крупным шрифтом: «поэма» – крупнее даже, чем название. Возможно, это жанровое определение было связано с общим замыслом произведения, с содержанием задуманных II и III томов, которые были обещаны читателю в последней, 11-й главе первого тома.
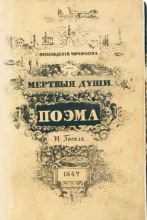
Это центральное произведение Гоголя, в создании которого он видел смысл своей жизни. Он был убежден, что Господь для того и дал ему писательский дар, чтобы создать «Мертвые души». П.Анненков замечал, что «Мертвые души» «…стали для Гоголя той подвижнической кельей, в которой он бился и страдал до тех пор, пока не вынесли его бездыханным из нее».
Сохранилось свидетельство А.М. Бухарева, в монашестве архимандрита Феодора, лично знакомого с Николаем Васильевичем: «Я спросил у Гоголя, чем закончатся «Мертвые души». Он как бы затруднился ответить на это. Но я спросил только: «Мне хочется знать, оживет ли как следует Чичиков?» И Гоголь ответил: «Да, это непременно будет» и что этому будет способствовать его встреча с царем». «А другие герои? Воскреснут ли они?» Гоголь ответил с улыбкой: «Если захотят».
По всей видимости, пути к такому возрождению Гоголь и собирался показать во II и III томах «Мертвых душ».
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 06 Апр 2019, 19:47 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | 
Гоголь лепил героев поэмы из русских пословиц. И.М. Снегирев, виднейший фольклорист, издавший в IV томах сборник русских пословиц. Николай Васильевич активно пользовался этим изданием во время написания своей поэмы. Так, Манилов стал воплощением пословицы «ни в городе Богдан, ни в селе Селифан», Собакевич вырос из пословицы «Неладно скроен, да крепко сшит». И даже эпизодические герои, вроде сапожника М.Телятникова (промелькнувшего лишь строчкой в списке купленных Чичиковым у Собакевича крестьян) отмечены меткой пословицей: «Что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо».
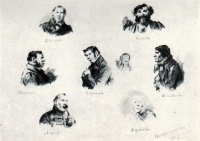
I том «Мертвых душ» создавался в течение 7 лет. С каждым годом задуманный как легкий шуточный плутовской роман, этот труд все больше воспринимался писателем как оправдание всей жизни: «Ты спрашиваешь, пишутся ли «Мертвые души». И пишутся, и не пишутся. Пишутся слишком медленно и не так, как бы хотел, и препятствия этому часто происходят и от болезни, а еще чаще от меня самого. На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть, и притом так самый предмет и дело связаны с моим собственным внутренним воспитанием, что никак не в силах я писать мимо меня самого, а должен ожидать себя. Я иду вперед, – идет и сочинение; я остановился, – нейдет и сочинение. Поэтому мне и необходимы бывают часто перемены всех обстоятельств, переезды, обращающие к другим занятиям, не похожим на вседневные, и чтенье таких книг, над которыми воспитывается человек».
Все чаще Николай Васильевич сосредотачивает внимание на своем внутреннем мире и прибегает к религиозной литературе. Все пороки, которыми наделены герои «Мертвых душ», очень узнаваемы. Но целью своей Гоголь видел не обличение, а поиск причин падения и – главное – путей его преодоления. Ведь «Собакевич плох не тем, что груб и недалек, а тем, что смотрит на жизнь абсолютно материалистически, для него не существует ничего такого, что нельзя потрогать и съесть. Манилов плох не тем, что обладает развитым воображением, а тем, что без веры в Бога работа его воображения оказывается абсолютно бесплодной. Плюшкин плох не тем, что бережлив, а тем, что ни на минуту не задумывается о Боге и о заповедях Божиих, и потому его бережливость превращается в безумие». Причина всех пороков, таким образом, по Гоголю – это безбожие.
«Именно безбожие превращает их личностные черты - порой сами по себе вполне нейтральные - в нечто чудовищное».

Летом 1845 г. писателя одолевает мучительный душевный кризис. Он пишет завещание, сжигает рукопись II тома «Мёртвых душ» и решает уйти в монастырь. Замыслу этому не суждено было исполниться – было решено продолжать работу над поэмой, служа обществу на лит. поприще. Так была возобновлена работа над поэмой, а в уме зародилась еще одна идея – стать наставником для находящихся в поиске истинного пути душ. Для этого Николай Васильевич решает собрать в одну книгу всё писанное им в последние годы к друзьям в духе поучений и наставлений. Так появились «Выбранные места из переписки с друзьями». Этот сборник вызвал неоднозначную реакцию общественности, от писателя отвернулись многие друзья. Гоголя обвиняли в прелести и самомнении. Он мучительно переживал провал этой книги и с 1847 г. в его письмах уже практически не слышно прежнего высокомерного тона проповедничества и назидания.

худ. И.Репин. Гоголь сжигает "Мертвые души"
Создание II тома шло трудно и с надрывом. Гоголь старается сосредоточиться на своих духовных переживаниях, соблюдает все посты, читает душеполезные книги и превращается чуть ли не в монаха в миру, подвижника и аскета. В поисках ответов на одолевающие неразрешенные вопросы писатель отправляется в Иерусалим, но и там не находит утешения.
«Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное» (Гоголь - В. Жуковскому, 28.02. 1850.)
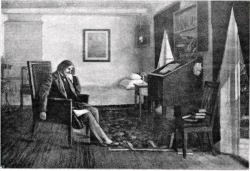
В последние годы жизни писатель еще раз вернулся к духовной теме и уже более сдержанно и смиренно написал «Размышления о Божественной Литургии», где высказал все свои мысли о пути спасения. Б.Зайцев отмечал, что в этой книге Гоголь «как музыкант в конце своей жизни перешел от сочинения светских произведений к сочинению произведений духовных».
«Размышления» по праву можно назвать одним из лучших сочинений русской духовной прозы.

В ночь с 11 на 12 февраля 1852 г. Гоголь снова сжег рукопись II тома «Мертвых душ». В слезах он признавался знакомому: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, вот он к чему меня подвинул!». Уничтожение рукописи, создававшейся долгие годы, стало для писателя трагедией, потрясшей и без того расстроенный рассудок. «Надо меня оставить; я знаю, что должен умереть», – произносит Гоголь за неделю до своей кончины.
Лечащий доктор А.Т.Тарасенков безуспешно пытается отыскать причину болезни и способы лечения: «Никаких объективных симптомов, которые бы указывали на важное страдание».
Современники, видевшие писателя в последние дни, не могли поверить, что меланхолия может стать причиной смерти.
«Он все-таки не казался так слаб, чтоб, взглянув на него, можно было подумать, что он скоро умрет. Он нередко вставал с постели и ходил по комнате совершенно так, как бы здоровый», – вспоминал Н.Берг.
Гоголь, несмотря на уговоры друзей, продолжал строго поститься, а 18 февраля слёг в постель и вовсе перестал есть. 20 февраля врачебный консилиум принял решение о принудительном лечении. Результатом стало окончательное истощение и утрата сил; вечером того же дня писатель впал в беспамятство.

«Для нас он был не просто писатель. Он открыл нам нас самих», – написал Тургенев после смерти Гоголя.
«Мертвые души» стали зеркалом, в которое не страшно смотреться только при одном условии: если в голове звучит ободряющее напутствие автора «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник».
Людмила Кириллова
01.04. 2019. Православие и мир
https://www.pravmir.ru/mne-hoc....o-budet
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 10 Апр 2019, 10:24 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | В СЕРДЦЕ ПОЛУЧЕННЫЙ УРОК ИЛИ ТАЙНА ПРЕДСМЕРТНЫХ ДНЕЙ ГОГОЛЯ
Предсмертная болезнь, сожжение рукописей и кончина Гоголя доныне являются предметом размышлений для биографов. События эти произошли с такой быстротой, что для многих современников стали полной неожиданностью.

Гоголь жил в Москве в доме графа А.П. Толстого на Никитском бульваре, занимая переднюю часть нижнего этажа: 2 комнаты окнами на улицу (покои графа располагались наверху). Н.Берг вспоминал: «Здесь за Гоголем ухаживали, как за ребёнком, предоставив ему полную свободу во всём. Он не заботился ровно ни о чём. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, где он прикажет. Бельё его мылось и укладывалось в комоды невидимыми духами, если только не надевалось на него тоже невидимыми духами. Кроме многочисленной прислуги дома служил ему, в его комнатах, собственный его человек, из Малороссии, именем Семён, парень очень молодой, смирный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина во флигеле была необыкновенная».

В начале 1852 г. Гоголь ещё готовит к печати собрание своих сочинений. Намёков на болезнь в это время не было. За 9 дней до Масленицы, то есть 25 января, его посетил О.М. Бодянский. Он застал писателя за столом, на котором были разложены бумаги и корректурные листы. Гоголь пригласил его на воскресенье (27 января) к О.Ф. Кошелевой (жившей неподалёку, на Поварской) слушать малороссийские песни, днако встреча не состоялась.

26 января умерла после непродолжительной болезни Е.М. Хомякова, 35 лет от роду, оставив 7-х детей, - человек Гоголю близкий и дорогой. Она была женой Алексея Степановича и сестрой одного из ближайших друзей Гоголя, поэта Н.Языкова. Смерть эта тяжело отозвалась в душе писателя. Наутро, после первой панихиды, он сказал Хомякову: «Всё для меня кончено».
Тогда же он произнёс над гробом покойной: «Ничего не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти».
На следующий день Гоголь зашёл к сёстрам Аксаковым, жившим в ту зиму на Арбате, в Николо-Песковском пер., спросив, где похоронят Екатерину Михайловну. Получив ответ, что в Даниловском монастыре, возле брата Николая Михайловича, он, вспоминает В.С. Аксакова, «покачал головой, сказал что-то об Языкове и задумался так, что нам страшно стало: он, казалось, совершенно перенёсся мыслями туда и оставался в том же положении так долго, что мы нарочно заговорили о другом, чтоб прервать его мысли». 29 января состоялись похороны Хомяковой, на которые Гоголь не пришёл. Существует предположение, что в этот день он ездил в Преображенскую больницу для умалишённых, находившуюся в Сокольниках, к знаменитому московскому блаженному И.Я. Корейше.
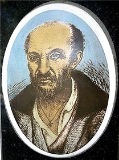
В записках доктора А.Т. Тарасенкова упоминается об этой загадочной поездке, которую он относит ко времени после 7 февраля: «В один из следующих дней он поехал в Преображенскую больницу на извозчике. Подъехав к воротам больничного дома, он слез с санок, долго ходил взад и вперёд у ворот, потом отошёл от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой».

Тарасенков не сообщает источника этих сведений. Вероятнее всего предположить, что он получил их от графа Толстого. О Корейше Гоголь мог узнать от многих лиц. 10 мая 1849 г. (на другой день после празднования именин Гоголя), у Корейши побывал историк М.П. Погодин, который записал в своём дневнике: «Ездил в Преображенское смотреть Ивана Яковлевича. Примечательное явление. Как интересны приходящие. Некоторые особо. Я не спрашивал, но, может быть, он говорил нечто и на мой счёт, впрочем, неясно».
Биографам Гоголя остался неизвестным факт посещения Корейши духовным отцом писателя протоиереем Матфеем Константиновским. Об этом посещении рассказывает со слов самого отца Матфея архимандрит Михаил (Козлов) в своих записках: «Года два тому назад вздумал я устроить придел во имя прп. Дионисия, архимандрита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в нашем Ржевском соборе, но средств к этому никаких не было. В это время по неожиданному случаю я вызван был в Москву, где по окончании своих дел вздумал посетить Ивана Яковлевича, о котором много слыхал хорошего. На вопрос мой, будет ли успех в моём намерении устроить придел в соборе, он вместо ответа позвал к себе служителя и приказал ему принести маленький рассыпавшийся бочонок, что служитель немедленно и исполнил. Иван Яковлевич начал прилежно исправлять бочонок, который через несколько минут и был готов, так что как будто нисколько не был повреждён: дощечки, донышки и обручи были все на своем месте, ни одной щёлочки было не видно. Исправленный бочонок он передал мне с сими словами: “На-ка, посмотри, ведь, кажется, хорош будет, не потечёт”. После этого я ничего не слыхал от Ивана Яковлевича и возвратился в Ржев. Находясь дома, при разговоре с одним благотворительным лицом я объяснил ему своё намерение устроить новый придел. “Что же, это дело хорошее, начинайте, Бог вам поможет”, - так мне ответил благотворительный собеседник и ушёл из моего дома. Через несколько дней после этого разговора начали являться ко мне один по одному из богатых граждан, каждый со своим заявлением помогать доброму задуманному мною делу материальными средствами: один обещался пожертвовать кирпичи, другой - лесу, третий - написать иконы, четвёртый - устроить иконостас, а пятый заплатить за работу. И таким образом, без дальних хлопот с моей стороны, при Божией помощи и помощи благотворительных граждан наших, которых я и не просил о пособии, придел устроен был в прекрасном виде, как вы видите, через непродолжительное время. Значит, предсказание Ивана Яковлевича посредством собранного им рассыпанного бочонка сбылось со мною на самом деле, заключил покойный отец Матфей».
Доктор Тарасенков к рассказу о поездке Гоголя сделал примечание: «По случаю дурной погоды он мог в такую прогулку простудиться; впрочем, начало и течение болезни не показывали простудного характера. В Преображенской больнице находится один больной, признанный за помешанного; его весьма многие навещают, приносят ему подарки, испрашивают у него советов в трудных обстоятельствах жизни, берегут его письменные замечания. Некоторые радуются, если он входит с ними в разговор; другие стыдятся признаться, что у него были. Зачем ездил Гоголь в Преображенскую больницу - Бог весть».
У Корейши бывали и люди высшего света - их привлекала к нему его прозорливость. Не пришло ли и к Гоголю желание узнать волю Божию о себе через Божьего человека? И вот он поехал, а в последнюю минуту убоялся (страшной могла оказаться правда). 30 января Николай Васильевич в своём приходе заказал панихиду по Екатерине Михайловне. Дом графа Толстого относился к приходу церкви прп. Симеона Столпника, что на Поварской.

После панихиды он зашёл к Аксаковым, признался, что ему стало легче:
- Но страшна минута смерти, - сказал Гоголь.
- Почему же страшна? - возразил кто-то из Аксаковых.
- Только бы быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать о смерти».
- «Ну, об этом надобно спросить тех, кто перешёл через эту минуту», - сказал он.
На вопрос, почему его не видели на похоронах Хомяковой, Гоголь ответил: «Я не был в состоянии».
- Вполне помню,он тут же сказал, что в это время ездил далеко.- рассказывает Вера Сергеевна.
- Куда же?
- В Сокольники.
- Зачем? - спросили мы с удивлением.
- Я отыскивал своего знакомого, которого, однако же, не видал.
1 февраля, в пятницу, Гоголь - у обедни в своей приходской церкви (родительская суббота Мясопустной недели в том году приходилась на 2 февраля - праздник Сретения Господня, поэтому поминовение усопших было перенесено на пятницу). После обедни он снова заходит к Аксаковым, хвалит свой приход и священника (отца Алексия Соколова, впоследствии протопресвитера храма ХС).
«Видно было, что он находился под впечатлением этой службы, мысли его были все обращены к тому миру». - вспоминала Аксакова. Разговор зашёл о Хомякове. Вера Сергеевна заметила, что Алексей Степанович напрасно выезжает, потому что многие скажут, что он не любил своей жены. Гоголь возразил: «Нет, не потому, а потому, что эти дни он должен был бы употребить на другое; это говорю не я, а люди опытные. Он должен был бы читать теперь Псалтирь, это было бы утешением для него и для души жены его. Чтение Псалтири имеет значение, когда читают его близкие, это не то, что раздавать читать его другим».
3 февраля, в воскресенье, Николай Васильевич опять у обедни в своём приходе, оттуда пешком идёт к Аксаковым, снова хвалит священника и всю службу, жалуется на усталость. «В его лице точно было видно утомление, хотя и светлое, почти весёлое выражение». - вспоминала Вера Сергеевна.
Гоголь снова заговорил о Псалтири. «Всякий раз, как иду к вам прохожу мимо Хомякова дома и всякий раз, и днём и вечером, вижу в окне свечу, теплющуюся в комнате Екатерины Михайловны (там читают Псалтирь)».
Хомякова была весьма примечательной личностью в кругу московских славянофилов. Происходила из старинного рода симбирских дворян Языковых. Рано оставшись без отца, жила с матерью, которая вела уединённый образ жизни. Екатериной Михайловной в ранней молодости был увлечён Н.А. Мотовилов («служка Божией Матери и Серафимов», как он впоследствии себя называл).

Она привлекла его прежде всего свойствами своей высокорелигиозной души. На вопрос о ней прп. Серафима, Саровского чудотворца, Мотовилов отвечал: «Она хоть и не красавица в полном смысле этого слова, но очень миловидна. Но более всего меня в ней прельщает что-то благодатное, божественное, что просвечивается в лице её. Отец её, М.П. Языков, рано оставил её сиротой, 5-ти или 6-ти лет, и она росла в уединении при больной своей матери, Екатерине Александровне, как в монастыре, - всегда читывала ей утренние и вечерние молитвы, и так как мать её была очень религиозна и богомольна, то у одра её часто бывали и молебны, и всенощные. Воспитываясь более 10 лет при такой боголюбивой матери, и сама она стала как монастырка. Вот это-то мне в ней более всего и в особенности нравится».
Надежда видеть Екатерину Михайловну своей женой не покидала Мотовилова вплоть до мая 1832 г., когда он сделал предложение (и получил окончательный отказ), - и это несмотря на предсказание прп. Серафима, что он женится на крестьянке.
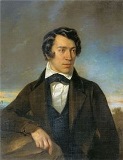
В 1836 г. Екатерина Михайловна вышла замуж за А.С. Хомякова и вошла в круг его друзей. Среди них был и Гоголь, который вскоре стал с ней особенно дружен. Издатель журнала «Русский Архив» П.Бартенев, не раз встречавший его у Хомяковых, свидетельствует, что по большей части он уходил беседовать с Екатериною Михайловною, достоинства которой необыкновенно ценил. Дочь Алексея Степановича Мария со слов отца передавала, что Гоголь, не любивший много говорить о своём пребывании в Святой Земле, одной ей рассказывал, что он там чувствовал. Едва ли можно будет до конца понять, почему смерть Екатерины Михайловны произвела такое сильное впечатление на Гоголя. Несомненно, что это было потрясение духовное. Нечто подобное произошло и в жизни Хомякова.
Об этом можно судить по запискам Ю.Ф. Самарина, которые священник отец П.Флоренский называл документом величайшей биографической важности: «Это чуть ли не единственное свидетельство о внутренней жизни Хомякова, притом о наиболее тонких движениях его души, записанное другом и учеником и вовсе не предназначавшееся для печати. Узнав о кончине Екатерины Михайловны, я взял отпуск и, приехав в Москву, поспешил к нему. Когда я вошёл в его кабинет, он встал, взял меня за обе руки и несколько времени не мог произнести ни одного слова. Скоро, однако, он овладел собою и рассказал мне подробно весь ход болезни и лечения. Смысл рассказа его был тот, что Екатерина Михайловна скончалась вопреки всем вероятностям вследствие необходимого стечения обстоятельств: он сам ясно понимал корень болезни и, зная твёрдо, какие средства должны были помочь, вопреки своей обыкновенной решительности усомнился употребить их. Два доктора, не узнав болезни, которой признаки, по его словам, были очевидны, впали в грубую ошибку и превратным лечением произвели болезнь новую, истощив все силы организма. Он всё это видел и уступил им. Выслушав его, я заметил, что всё кажется ему очевидным теперь, потому что несчастный исход болезни оправдал его опасения и вместе с тем изгладил из его памяти все остальные признаки, на которых он сам, вероятно, основывал надежду на выздоровление. Тут он остановил меня, взяв меня за руку: “Вы меня не поняли: я вовсе не хотел сказать, что легко было спасти её. Напротив, я вижу с сокрушительной ясностью, что она должна была умереть для меня, именно потому, что не было причины умереть. Удар был направлен не на неё, а на меня. Я знаю, что ей теперь лучше, чем было здесь, да я-то забывался в полноте своего счастья. Первым ударом я пренебрёг; второй - такой, что его забыть нельзя”. Голос его задрожал, и он опустил голову; через несколько минут он продолжал: “Я хочу вам рассказать, что со мною было.
Тому назад несколько лет я пришёл домой из церкви после причастия и, развернув Евангелие от Иоанна, я напал на последнюю беседу Спасителя с учениками после Тайной вечери. По мере того, как я читал, эти слова, из которых бьёт живым ключом струя безграничной любви, доходили до меня всё сильнее и сильнее, как будто кто-то произносил их рядом со мною. Дойдя до слов: «Вы друзи мои есте», я перестал читать и долго вслушивался в них. Они проникали меня насквозь. На этом я заснул. На душе сделалось необыкновенно легко и светло. Какая-то сила подымала меня всё выше и выше, потоки света лились сверху и обдавали меня; я чувствовал, что скоро раздастся голос. Трепет проникал по всем жилам. Но в одну минуту всё прекратилось; я не могу передать вам, что со мною сделалось. Это было не привидение, а какая-то тёмная непроницаемая завеса, которая вдруг опустилась передо мною и разлучила меня с областью света. Что на ней было, я не мог разобрать; но в то же мгновение каким-то вихрем пронеслись в моей памяти все праздные минуты моей жизни, все мои бесплодные разговоры, моё суетное тщеславие, моя лень, мои привязанности к житейским дрязгам. Чего тут не было! Знакомые лица, с которыми Бог знает почему сходился и расходился, вкусные обеды, карты, бильярдная игра, множество таких вещей, о которых, по-видимому, никогда я не думаю и которыми, казалось мне, я нисколько не дорожу. Всё это вместе слилось в какую-то безобразную массу, налегло на грудь и придавило меня к земле.
Я проснулся с чувством сокрушительного стыда. В первый раз почувствовал я себя с головы до ног рабом жизненной суеты. Помните, в отрывках, кажется, Иоанна Лествичника эти слова: Блажен, кто видел ангела; сто крат блаженнее, кто видел самого себя. Долго я не мог оправиться после этого урока, но потом жизнь взяла своё. Трудно было не забыться в той полноте невозмутимого счастья, которым я пользовался. Вы не можете понять, что значит эта жизнь вдвоём. Вы слишком молоды, чтобы оценить её”. Тут он остановился и несколько времени молчал, потом прибавил: “Накануне её кончины, когда уже доктора повесили головы и не оставалось никакой надежды на спасение, я бросился на колени перед образом в состоянии, близком к исступлению, и стал не то что молиться, а испрашивать её от Бога. Мы всё повторяем, что молитва всесильна, но сами не знаем её силы, потому что редко случается молиться всею душой. Я почувствовал такую силу молитвы, какая могла бы растопить всё, что кажется твёрдым и непроходимым препятствием: я почувствовал, что Божие всемогущество, как будто вызванное мною, идёт навстречу моей молитве и что жизнь жены может быть мне дана. В эту минуту чёрная завеса опять на меня опустилась, повторилось, что уже было со мною в первый раз, и моя бессильная молитва упала на землю! Теперь вся прелесть жизни для меня утрачена. Радоваться жизни я не могу. Остаётся исполнить мой урок. Теперь, благодаря Богу, не нужно будет самому себе напоминать о смерти, она пойдёт со мной неразлучно до конца. Я записал этот рассказ от слова до слова, как он сохранился в моей памяти; но, перечитав его, я чувствую, что не в состоянии передать того спокойно-сосредоточенного тона, которым он говорил со мной. Слова его произвели на меня глубокое впечатление именно потому, что именно в нём одном нельзя было предположить ни тени самообольщения. Не было в мире человека, которому до такой степени было противно и несвойственно увлекаться собственными ощущениями и уступить ясность сознания нервическому раздражению. Внутренняя жизнь его отличалась трезвостью, - это была преобладающая черта его благочестия. Он даже боялся умиления, зная, что человек слишком склонен вменять себе в заслугу каждое земное чувство, каждую пролитую слезу; и когда умиление на него находило, он нарочно сам себя обливал струею холодной насмешки, чтобы не давать душе своей испаряться в бесплодных порывах и все силы её опять направить на дела. Что с ним действительно совершалось всё, что он мне рассказал, что в эти две минуты его жизни самопознание его озарилось откровением свыше, - в этом я так же уверен, как и в том, что он сидел против меня, что он, а не кто другой говорил со мною.
Вся последующая его жизнь объясняется этим рассказом. Кончина Екатерины Михайловны произвела в ней решительный перелом. Даже те, которые не знали его очень близко, могли заметить, что с сей минуты у него остыла способность увлекаться чем бы то ни было, что прямо не относилось к его призванию. Он уже не давал себе воли ни в чём. По-видимому, он сохранял свою прежнюю весёлость и общительность, но память о жене и мысль о смерти не покидали его. Жизнь его раздвоилась. Днём он работал, читал, говорил, занимался своими делами, отдавался каждому, кому до него было дело. Но когда наступала ночь и вокруг него всё улегалось и умолкало, начиналась для него другая пора. Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты и он перенёс мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживлённых его неистощимою весёлостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала её. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам весёлый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь...»
Мемуаристы отмечали, что в смерти Екатерины Михайловны Гоголь увидел как бы некое предвестие для себя.
«Он ещё имел дух утешать овдовевшего мужа, но с этих пор сделалась приметна его наклонность к уединению; он стал дольше молиться, читал у себя Псалтирь по покойнице» .- писал Тарасенков.
«Смерть моей жены и моё горе сильно его потрясли, он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей душою...» - вспоминал Хомяков.
После кончины Екатерины Михайловны Гоголь постоянно молился.
«Между тем, как узнали мы после,большую часть ночей проводил он в молитве, без сна». - рассказывал Шевырёв.

По словам первого биографа Гоголя Пантелеимона Кулиша, «во всё время говенья и прежде того - может быть, со дня смерти г-жи Хомяковой - он проводил большую часть ночей без сна, в молитве».
Незадолго до своей кончины Николай Васильевич на отдельном листке начертал крупным, как бы детским почерком: «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моём полученный урок? И страшная История всех событий Евангельских...». К чему относились эти слова, осталось тайной. Строки, написанные Гоголем перед кончиной, указывают на какое-то полученное им свыше откровение. Как знать, не идёт ли здесь речь об уроке, сродни тому, который получил Хомяков?
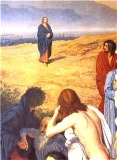
А.Иванов «Явление Христа народу». Одну из фигур купающихся (в красном плаще) художник рисовал с Гоголя
В.Воропаев, профессор МГУ
журнал "Православная беседа". 2012 г.
http://p-beseda.ru/?article&pg=2&topics=35&id=74
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 22 Апр 2019, 13:10 | Сообщение # 7 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | АФОНСКИЙ ЗНАКОМЕЦ ГОГОЛЯ

Святая гора Афон в судьбе писателя была связана с именем тамошнего инока и духовного писателя иеросхимонаха Сергия, более известного под лит. псевдонимом Святогорец. Его мирское имя - Симеон Авдиевич Веснин.

Родился он в селе Пищальское Орловского уезда Вятской губернии в семье дьячка. В доме часто останавливались странники, и отрок заслушивался их рассказами. Один из паломников, не раз появлявшийся у Весниных, звался дедушкой Андреем. Он хаживал и в Святую Землю, и на Афон, видел все русские святыни. Однажды Симеон высказал желание поступить в самый "пустынный" монастырь, на что дедушка ответил, смеясь: "Ох ты дите, дите! Подрастешь, так и на Афон уйдешь!"
В 13 лет Симеон остался круглым сиротой. Позже он пережил смерть жены и дочери. Уже вдовым священником побывал в Соловецком Преображенском монастыре и у святынь Москвы и Киева, в 1839 г. в Вятке принял монашеский постриг с именем Серафим, а 4 года спустя вступил в число братии Афонского Пантелеимонова монастыря, где вскоре удостоился схимы и был наречен Сергием (в честь игумена Радонежского, всея России чудотворца). В середине 1840-х предпринял 7-месячное паломничество в Иерусалим, о чем и рассказал впоследствии в своих "Палестинских записках". На Святой Горе написал несколько трудов по истории Церкви, ряд житий святых, вел обширную переписку братии. В 1845 г. в журнале "Маяк" публиковались его путевые заметки в виде писем об Афоне, имевшие большой успех у читателей. Поручив известному паломнику-слепцу Г.И. Ширяеву издание своих заметок в Петербурге отдельной книгой, иеросхимонах Cepгий по благословению игумена в 1847 г. выехал в Россию, чтобы наблюдать за ее печатанием. После 2-летнего проживания в Вятке, в начале 1850 г. прибыл в Москву. Здесь его уже ожидала только что выпущенная первая часть "Писем Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской".

Книга быстро разошлась. За 1-й частью последовала 2-я. О ней упоминает Гоголь в письме к графу А.П. Толстому от 20 августа 1850 г. В том же году вышло в свет и 2-е издание 1-й части. "Письма Святогорца" получили широкий отклик в печати. Юный в то время Н. Добролюбов записал в своем дневнике: "Превосходная книга. Так просто, искренно, чистосердечно, наивно, но вместе с тем умно и благородно рассказывает Святогорец". Впоследствии, вплоть до наших дней, книга переиздавалась неоднократно.
В Москве иеросхимонах Сергий получил приглашение от княгини В.В. Голицыной остановиться в ее доме. Многие желали тогда с ним познакомиться и звали его к себе или являлись сами в особняк княгини. Благоволило к нему и высшее духовенство, он не раз бывал у свт. Филарета, митрополита Московского, который встречал его ласково, расспрашивал о Святой Горе, высказывал замечания по поводу "Писем". Посещал отец Сергий и Троице-Сергиеву лавру, где вел задушевные беседы с наместником архимандритом Антонием. В Петербурге его ожидал радушный прием у митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Никанора и архиепископа Херсонского Иннокентия (известнейшие духовные писатели), а также у князя П.А. Ширинского-Шихматова, тогдашнего министра нар. просвещения, родного брата афонского старца иеромонаха Аникиты. После возвращения на Афон в 1851 г. Святогорец поселился в нарочно построенной там для него Космо-Дамиановской келлии, где подвизался вместе со старцем Геронтием, учеником и келейником покойного иеромонаха Аникиты (в миру князя С.А. Ширинского-Шихматова, до своего пострижения известного в России поэта). Скончался отец Сергий в 1853 г. 39 лет от роду.
Гоголь познакомился со Святогорцем в начале 1850 г. в Москве. В письме той поры, адресованном иеромонаху Антонию (Бочкову), тоже духовному писателю, Святогорец вспоминает об одном лит. вечере: "...тут же мой лучший друг, прекрасный по сердцу и чувствам Н.В. Гоголь, один из лучших литераторов. Я в особенно близких отношениях здесь с графом Толстым, у которого принят как домашний. Он прекрасного сердца и очень прост. По знакомству выслал экземпляр моих писем одному из городских священников Тверской губернии, и тот читал мои сочинения в церкви вместо поучений на первой неделе Великого Поста, о чем извещал графа". Священник этот - ржевский протоиерей Матфей Константиновский, духовный отец Гоголя и графа Толстого.
С Николаем Васильевичем Святогорец вел разговоры и об издательских делах, что видно из письма последнего к неизвестному адресату от 1 июля 1850 г. из Петербурга: "Я редко выезжаю, потому что меня удерживает дома корректура 2-й части Писем. Впрочем, жалею, что взял на себя эту заботу. Справедливо мне говорил Гоголь, чтобы не брать на себя корректуры. Увлекаясь мыслию, я не вижу опечаток".
Зиму 1850/51 г. писатель провел в Одессе и снова встречался там со Святогорцем. В марте 1851 г. по пути на Афон тот сообщал Гоголю, задумавшему поездку в Константинополь и Грецию: "Возлюбленнейший Николай Васильевич! Наскоро пишу Вам, торопясь на почту и к отъезду сегодня из Константинополя в Солун на австрийском пароходе. Церквей православных в Константинополе сорок шесть. Это передал мне отец Софония (настоятель церкви при Русской миссии в Константинополе), и, верно, потому, что он и сам собирал сведения подобного рода".
В последние годы жизни Гоголя среди его знакомых распространился слух, что он собирается ехать на Афон. Прямо утверждала это в своих письмах А.О. Смирнова: "Гоголь, вероятно, поселится на Афонской горе и там будет кончать "Мертвые души". На Афон советую я и завлек его рассказами автор Писем Святогорца и слепый, с которыми он виделся в Москве".
Под "слепым" здесь подразумевается Г.И. Ширяев.
Узнав о кончине Гоголя, Святогорец писал с Афона в апреле 1852 г.: "Смерть Гоголя - торжество моего духа. Покойный много потерпел и похворал, надобно и пора ему на отдых в райских обителях. Жаль только, что он не побывал у нас. Я очень любил его; в Одессе мы с ним видались несколько раз, и наше расставание было условное - видеться здесь. Судьбы Божии непостижимы! В последнее время его считали помешанным - за то, что он остепенился и сделался христианином. Вот ведь мирская-то мудрость! Толкуйте с миром!"
В другом письме (август 1852) он снова вспоминает о намерении Гоголя посетить Афон: "Покойный, расставаясь со мною в Одессе, дал слово - только съездить в Москву на лето с целию издания своих творений, а потом к осени 1851 г. прибыть на Афон. Таковы-то наши предположения! Думы за горами, а смерть за плечами! Жизнь Гоголя поучительна: в последнее время он был строгим христианином - и это радует меня".
Владимир Воропаев
01.07. 2003. Московский журнал
http://www.mosjour.ru/index.php?id=1429
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 26 Ноя 2019, 13:08 | Сообщение # 8 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | РУКОПИСИ ГОРЯТ: ЗАЧЕМ ГОГОЛЬ СЖЕГ ВТОРОЙ ТОМ "МЕРТВЫХ ДУШ"
21 мая 1842 г. в свет вышел I том "Мертвых душ". Загадка 2-й части великого произведения, уничтоженной писателем, до сих пор волнует умы литературоведов и обычных читателей. Зачем Гоголь сжег рукопись? И существовала ли она вообще?
Той ночью ему опять не спалось, он снова и снова мерил шагами свой кабинет в уютном флигеле старинной гор. усадьбы на Никитском бульваре. Пробовал молиться, снова ложился, но не мог ни на секунду сомкнуть глаза. За окнами уже забрезжил промозглый февральский рассвет, когда он достал из шкафа видавший виды портфель, извлек из него пухлую рукопись, перевязанную бечевкой, подержал несколько секунд в руках, а потом решительно бросил бумаги в камин. Почему Гоголь, еще при жизни получивший славу великого писателя, решил уничтожить главный труд своей жизни? И как связано это трагическое событие в русской литературе со смертью, которую врачи зафиксируют 10 дней спустя здесь же, рядом с камином, пламя которого поглотило II том поэмы?

Граф А.Толстой приобрел этот особняк после смерти его прежнего владельца генерал-майора А.Талызина, ветерана войны с Наполеоном. Гоголь оказался здесь в 1847 г/, когда вернулся в Россию из дальних многолетних странствий. Он был путешественником: станции, смена лошадей, он обдумывал многие свои сюжеты в дороге. И всегда как человек творческий он ищет общения, в частности - со своими друзьями. И регулярно кто-то из друзей его приглашал к себе, пожить в Москве его пригласил Толстой, с которым он состоял в переписке до этого времени. II том "Мертвых душ" к этому моменту был уже почти завершен, осталось лишь отредактировать несколько последних глав.
Из окон усадьбы Николай Васильевич наблюдал любимую им Москву. Город был полностью деревенским. Во дворе дома стоял колодец-журавль, под окнами квакали лягушки. В имении писатель был гостем желанным и почетным, ему отвели целое крыло, главным помещением которого стал кабинет. Здесь он жил на всем готовом, ему были созданы все условия для того, чтобы он работал здесь над II томом поэмы. Так что же произошло на рассвете 12 февраля 1852 г? Какую тайну хранит этот кабинет в доме № 7а по Никитскому бульвару? Исследователи и по сей день выдвигают самые разные версии: от сумасшествия Гоголя до переживаемого им кризиса.
К быту и комфорту он относился без особого интереса, как и вообще ко всему материальному. Небольшая кушетка, зеркало, кровать за ширмой, конторка, за которой он работал. Гоголь всегда писал стоя, над каждой фразой работал тщательно и порой мучительно долго. Это таинство требовало изрядного количества бумаги. По рукописям видно, что писатель к себе был очень требовательным и говорил, что «дело мое - это не литература, дело мое - душа». Критиком он был беспощадным, причем самые высокие, бескомпромиссные требования, он предъявлял в первую очередь к себе самому. До 7 раз переписывал каждую главу, филигранно вычищал текст, чтобы хорошо ложился на слух и чтобы при этом его замысел был интересен читателю Окончательная редакция II тома «Мертвых душ» – отнюдь не первое произведение Гоголя, погибшее в огне. Первое он сжег еще в гимназии. Приехав в Санкт-Петербург из-за критики в адрес поэмы «Ганц Кюхельгартен», он скупает и сжигает все экземпляры. II том «Мертвых душ»" он тоже сжигает, в первый раз еще в 1845 г.

Репродукция картины «Гоголь слушает у своего дома музыканта-кобзаря», 1949 год
Это и есть первая версия – перфекционизм. Гоголь уничтожил и следующую редакцию II тома поэмы, потому что она ему просто не понравилась. Писатель В.Отрошенко считает, что приблизиться к разгадке тайны камина в особняке на Никитском бульваре можно лишь досконально изучив особенности характера писателя, в том числе и те, что даже современников приводили как минимум в недоумение, особенно в последние годы его жизни. Он мог посреди разговора вдруг сказать: «Ладно, все, потом наговоримся», лечь на диван и отвернуться к стене. Манера его общения раздражала многих его друзей, близких. Одна из самых необъяснимых привычек Гоголя - склонность к мистификациям. Даже в самых невинных ситуациях он частенько не договаривал, вводил собеседника в заблуждение, а то и вовсе врал: «Гоголь говорил: "Никогда не надо говорить правду. Вот едешь в Рим - скажи, что едешь в Калугу, едешь в Калугу - скажи, что едешь в Рим". Эта природа гоголевской лживости остается непостижимой и для литературоведов, и для тех, кто изучает биографию Гоголя. Он писал письма, например, матери, что сейчас находится в Триесте, видит прекрасные волны Средиземного моря, наслаждается видами, описывает ей подробно Триест. Он не просто написал ей письмо, подписанное "Триест", написанное, на самом деле, в усадьбе своего друга, историка М.Погодина, в Москве на Девичьем поле, он еще и нарисовал на письме штемпель Триеста. Тщательно вывел его так, чтобы отличить было нельзя».
Итак, версия вторая: сожжение II тома "Мертвых душ" было очередной эксцентричной выходкой гения, который сделал для отечественной словесности столько, что мог позволить себе практически все. Он прекрасно знал, что популярен среди современников и что является писателем №1.

Гоголь читает "Ревизора" писателям и артистам Малого театра
Удивительно и то, что еще до наступления эпохи фотографии Гоголя знали в лицо. Обычная прогулка по любимым московским бульварам превращалась чуть ли не в шпионский детектив. Студенты Московского университета зная, что писатель в послеобеденное время любит гулять по Никитскому и Тверскому бульварам, уходили с лекций со словами:«Мы идем смотреть на Гоголя».
Он был невысокого роста, где-то 1,65 м., часто укутывался в шинель, может быть, от холода, а может быть, чтобы его меньше узнавали. Поклонников у него было великое множество, они не только принимали как должное любые странности своего кумира, но и были готовы потакать ему во всем. Хлебные шарики, которые писатель иметь привычку катать, размышляя о чем-то, становились объектом вожделения коллекционеров, поклонники постоянно ходили за Гоголем и подбирали шарики, хранили как реликвии.
У режиссера К.Серебренникова свой взгляд на творчество писателя. Он готов поставить вопрос еще более радикально: а существовал ли II том вообще? Может гениальный мистификатор и тут всех провел? Специалисты, досконально изучающие жизнь и творчество Гоголя, с версией режиссера отчасти согласны. Великий писатель был готов мистифицировать что угодно. Однажды, когда он гостил у С.Аксакова, его навестил близкий друг, М.Щепкин. Писатель с воодушевлением поведал гостю, что закончил II том «Мертвых душ». Можно лишь догадываться, в каком восторге был Щепкин: он стал первым, кому посчастливилось узнать, что грандиозный замысел завершен. Финал этой странной истории не заставил себя долго ждать: чинная московская компания, которая обычно собиралась у Аксакова, как раз расселась за обеденным столом. Щепкин встает с бокалом вина и говорит: «Господа, поздравьте Николая Васильевича, он закончил II том «Мертвых душ». И тут Гоголь вскакивает и говорит: «От кого ты это слышал»?
Щепкин отвечает: «Да от вас же, сегодня утром вы мне сказали». На что Гоголь отреагировал: «Ты белены объелся, или тебе приснилось». Гости же рассмеялись: действительно, Щепкин что-то там придумал.
Лицедейство влекло Гоголя с почти непреодолимой силой: прежде, чем что-то записать, он разыгрывал это в лицах и удивительно, гостей не было, Гоголь был один, но звучали совершенно разные голоса, мужские, женские. Он был блестящим актером. Однажды, уже будучи вполне известным литератором, он даже попытался устроиться на службу в Александринский театр. На прослушивании получил предложение лишь созывать публику и расставлять стулья. Уже через пару месяцев после этого собеседования руководителю труппы было поручено готовить гоголевского «Ревизора»... Гоголевская охота к перемене мест стала одной из тем интерактивной экскурсии, которая каждый день проходит в доме-музее на Никитском бульваре. Посетителей встречает старинный дорожный сундук, впечатление усиливают звуки дороги, доносящиеся из его недр. Писатель чаще бывал в Европе, чем в России. Собственно, I том «Мертвых душ» он написал в Италии, в которой провел в общей сложности 12 лет и которую называл второй родиной. Именно из Рима однажды пришло письмо, заставившее его друзей всерьез насторожиться. Складывается ощущение, что Гоголь в своей жизни начинает разыгрывать историю с носом майора Ковалева. Как нос отделился от майора и начал гулять сам по себе, так и здесь. Гоголь в письмах сообщал, что в Петербурге необходимо найти своего некого другого, что могут произойти какие-то мошеннические истории, могут под его именем выпустить некие произведения. Тогда-то и закралась мысль о том, что бесконечные гоголевские мистификации – не просто чудачество гения, а симптом глубоко душевного недуга.
Один из научных сотрудников Дома Н.В. Гоголя рассказывает: «Я вел как-то экскурсию психиатрам. Я не знал, что это психиатры, поэтому я им рассказывал свое мнение. Но они мне сказали: "Да мы уже давно поставили диагноз Гоголю. Ну взгляните даже на почерк", - в музее на конторке лежат образцы его почерка. Они стали прямо говорить, что это за расстройство. Но мне кажется, диагноз ставить заочно не каждый врач рискнет, а тут 200 лет назад».
Может, сожжение II тома «Мертвых душ», и правда, было безумным поступком в клиническом смысле этого слова? А значит, попытки понять и объяснить его с точки зрения здравого смысла - занятие пустое и бесполезное? Но и эта версия отнюдь не последняя. Известно, что автор мистических «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и совсем уже инфернального «Вия» в конце жизни всякую чертовщину отрицал. В это время Гоголя нередко видели в церкви Николая Чудотворца (его духовного покровителя) в Староваганьковском пер.
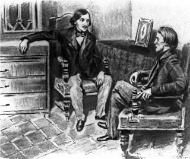
"Встреча Гоголя с Белинским",
Некоторые исследователи полагают, что поистине роковым (и для II тома, и для их создателя) стало знакомство с протоиреем Матвеем Константиновским, духовным наставником графа А.Толстого.
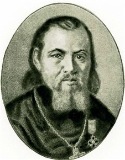
Священник, отличавшийся крайней резкостью суждений, со временем стал и духовником Гоголя. Тот показал свою рукопись над которой работал 9 лет, отцу Матвею, и получил отрицательные отзывы. Не исключено, что эти жестокие слова священника и стали последней каплей. Постоялец дома на Никитском бульваре в ночь с 11-го на 12 февраля 1852 г. совершил то, что позже И.Репин назовет «самосожжением Гоголя». Считается что писатель сжег ее в состоянии аффекта и позже жалел об этом безмерно, но его утешил хозяин дома. Он подошел и тихо сказал: «Но у вас же здесь все, в голове, вы же сможете это восстановить».
Но о восстановлении II тома уже не могли быть и речи. На следующий день Гоголь объявил, что начинает поститься, и вскоре вовсе отказался от еды. Он постился с таким усердием, с которым не постился ни один из верующих. И в какой-то момент, когда было ясно, что Гоголь уже ослабевает, граф Толстой призвал врачей, они не нашли у Николая Васильевича никакой болезни. 10 дней спустя он умер от физического истощения. Его смерть потрясла Москву, в храме св. мученицы Татьяны при Московском университете с ним прощался весь город. Все прилегающие улицы были заполнены народом, прощание шло очень долго. Памятник Гоголю в Москве решили установить 30 лет спустя, в начале 80-х годов XIX в. Сбор пожертвований затянулся, необходимая сумма была собрана лишь к 1896 г. Прошло несколько конкурсов, на которые было представлено более полусотни проектов. В итоге монумент доверили молодому скульптору Н.Андрееву.

Тот взялся за дело со свойственной ему основательностью. Андреев всегда искал натуру для своих произведений: проштудировал все возможные портреты Гоголя, которые только мог найти. Рисовал, изображал его, пользуясь услугами своего брата, который ему позировал для скульптуры. Побывал на родине писателя, встречался с его младшей сестрой. Итогом его фундаментального исследования стал без преувеличения революционный для того времени монумент. В 1909 г. памятник на Арбатской пл. открывали при многотысячной толпе.

Даже его закладка была очень торжественной и отмечалась в ресторане «Прага». Очень оригинально подошли к торжественному обеду организаторы: они приготовили все блюда, которые так или иначе фигурировали в гоголевских произведениях: это и "суп в кастрюльке из Парижу", и "шанежки с припеком" от Коробочки, и разные соленья, варенья из закромов Пульхерии Ивановны.
Однако печальный, задумчивый, трагический Гоголь нравился не всем. Говорят, что, в конце концов, памятник с Арбатской пл. переместили во двор усадьбы графа Толстого по приказу самого Сталина. И в 1952 г. в начале Гоголевского бульвара появился плакатный, пышущий здоровьем Николай Васильевич, снабженный пафосной надписью: «Гоголю от Правительства Советского Союза». Новый, отретушированный образ, породил немало насмешек: «Юмор Гоголя нам мил, слезы Гоголя – помеха. Сидя грусть он наводил, этот пусть стоит для смеха».

Впрочем, со временем москвичи полюбили и этот образ. В конце 70-х годов прошлого века вокруг памятника на Гоголевском бульваре завели обыкновение собираться московские хиппи. Эпоха детей цветов давно в прошлом, однако каждый год 1 апреля постаревшие московские хипари, надев любимые клеши, вновь собираются на "гоголях", чтобы вспомнить веселую молодость. У хиппи на любой вопрос есть свой ответ, своя правда и своя мифология. И Николай Васильевич в их пантеоне занимает особое, но, несомненно, весьма почетное место. Художник А.Иосифов заметил: «Во-первых, сам по себе Гоголь уже хипповый вид имеет. Во-вторых, он в какой-то степени мистически предрасположен к восприятию жизни, к чему предрасположена и та молодежь. Именно такое вот неадекватное восприятие жизни». И, конечно, у каждого хиппи своя версия того, что произошло в доме на Никитском бульваре: «Разочаровался в жизни. Плюс, он еще, говорят, болел очень сильно, и по легенде, когда гроб открыли, у него крышка исцарапана была. Может быть, его и живьем закопали».
Ореол таинственности, который окружал Гоголя при жизни, после его смерти лишь сгустился. В.Отрошенко считает, что это закономерно: «До Гоголя у нас никогда не было писателя, который бы литературу сделал своей жизнью. Вот Пушкин - да, у него было много чего в жизни: у него были семья, жена, дети, дуэли, карты, друзья, придворные интриги. У Гоголя в жизни не было ничего, кроме литературы. Вот он был таким монахом литературы».
Монах, аскет, эксцентричный отшельник, лицедей и одинокий путешественник, писатель, оставивший величайшее наследие и не имевший при жизни даже элементарных признаков быта. После его смерти была составлена опись, в основном это были книги, 234 тома — на русском языке, и на иностранных. Одежда, которая перечислена в этой описи, находилась в плачевном состоянии. Из всех ценных вещей можно назвать только золотые часы, которые, впрочем, пропали. А то, что сохранилось, дошло до нас благодаря друзьям, родственникам или просто поклонникам писательского таланта. Главной гордостью Дома Н.В. Гоголя является чарка, приобретенная у потомков по линии сестры Елизаветы, которую Николай Васильевич подарил ей на свадьбу. В музее есть игольница из кости, которая перешла ему от матери. Николай Васильевич, оказывается, очень хорошо шил, вышивал, он и себе поправлял галстуки, шарфики, а также шил платья для сестер.
Почитатели гоголевского напевного слога и сегодня приходят в этот дом на Никитском бульваре. Каждый год в марте здесь отмечают день памяти писателя, и всякий раз звучит «Молитва» -единственное его стихотворение. В этом доме во времена его жизни проходили гоголевские украинские среды. Он очень любил украинскую песню, и хотя сам не обладал таким ярко выраженным муз. слухом, но собирал украинские песни, записывал их и любил подпевать и даже слегка притоптывать ногой.

П.Геллер «Гоголь, Пушкин и Жуковский летом 1831 г. в Царском Селе»
Прийти в дом на Никитском бульваре может каждый, а вот остаться дано не всякому. В.Никулина (директор Дома Н.В. Гоголя) рассказывает: «У меня были случаи, когда люди приходили, три дня работали, у них поднималась температура, не опускалась, и они увольнялись. Считается что дом принимает или не принимает человека».
Некоторые уточняют: это не дом, а сам Гоголь проверяет людей на прочность, приветствует преданных и решительно отметает случайных. В его Доме появилась такая поговорка: «это Гоголь".
Как что-то случается - "это Гоголь во всем виноват».
Так что же все-таки случилось с Гоголем в ту ночь? Эти стремительно превращающиеся в пепел листы пухлой рукописи - лишь последний акт трагедии, начавшейся 10-ю годами раньше, в тот самый момент, когда увидел свет I том поэмы. Вся Россия ждет от него II тома "Мертвых душ", когда I том производит переворот в русской литературе и в сознании читателей. На него вся Россия смотрит, а он воспаряет над миром. И вдруг крушение. Он пишет фрейлине двора А.О. Смирновой: «Бог отъял от меня способность творить». Эта версия не отрицает все предыдущие, скорее, объединяет их воедино, и потому представляется наиболее вероятной. Гоголь умер от литературы, умер от "Мертвых душ", потому что это была такая вещь, что она либо пишется и возносит творца просто к небесам, либо она убивает его, если не пишется. Ведь писатель предполагал написать и III том, и из этого грандиозного замысла можно было выйти только двумя путями - либо его совершить, либо умереть.
Гоголь уже полтора века остается одним из самых загадочных писателей. Порою светлый и ироничный, чаще - сумрачный, полубезумный, и всегда - магический и ускользающий. И потому каждый, кто открывает его книги, всякий раз находит в них что-то свое. Загадка, мистика, тайна, юмор, - то, чего не хватает в современной прозе. Все-таки он очень ироничен, и вот эта шутка, юмор, фантастика - блокбастер XIX в., Гоголь.
Один Байрон (актер): «Очень похоже на нашего поэта Эдгара По. Вот есть общая темная сторона, мне кажется. Человек со сложной судьбой, у обоих этих поэтов были сложные в сюжеты жизни. Они оба любят момент абсурда. Я обожаю абсурд».
В.Отрошенко: «Мы всегда говорим, что литература - это вообще самое главное богатство, которые было у России, богатство, которое не иссякает. Потому что отношение, которое, кстати говоря, задал именно Гоголь, отношение к литературе как к чему-то такому, что вообще поглощает тебя целиком».
И потому, наверное, у каждого вдумчивого читателя есть собственная версия того, что же на самом деле произошло февральской ночью в доме на Никитском бульваре. Научный сотрудник музея О.Робинов считает, что Николай Васильевич незадолго до смерти приезжал и закопал II том у себя во дворе? причем сделал насыпь, курган небольшой, и сказал крестьянам, завещал, что если будет неурожайный тяжелый год, раскопаете, продадите, и будете счастливы. Конечно, эту версию можно посчитать забавной, фольклорной и совсем уж фантастической. Впрочем, стоит ли сбрасывать со счетов любое, пусть даже самое нереальное предположение, когда речь идет о Гоголе?
21.05. 2014.
http://www.m24.ru/articles/45298?attempt=1
Лена Федорова:
Вот упомянутая в тексте "Молитва":
Николай Гоголь. Молитва
К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час.
Прими мои теплейшие моленья,
Мой дух от зол и бед избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть;
Будь мне покровом в горькой доле,
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас!
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.
Когда заменит вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
Стена ты верным и ограда:
К тебе молюся всей душой.
Спаси меня, моя Отрада,
Умилосердись надо мной.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 28 Фев 2022, 19:13 | Сообщение # 9 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | «БИТВА ЗА РОССИЮ ЕЩЕ НЕ ОКОНЧЕНА»

В.А. Воропаев – литературовед, специалист по русской литературе XIX в., доктор фил. наук, профессор МГУ, председатель Гоголевской комиссии Научного совета «История мировой культуры» РАН, член СП России, автор многочисленных трудов о жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Награждён Золотой Пушкинской медалью в номинации «Литература и публицистика» (1999), Памятной юбилейной Гоголевской медалью (2009), орденом УПЦ (Московского Патриархата) прп. Нестора Летописца 1-й степени (2010), Патриаршей грамотой (2010), грамотой номинанта Патриаршей лит. премии им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (2015); лауреат Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» (2009), Национальной премии «Лучшие книги и издательства года» (2009), премии СП России «Имперская культура» им. Э.Володина в номинации «Литературоведение» (2015), международного Славянского Форума искусств «Золотой витязь» в номинации «Славянское литературоведение» (2017), Ломоносовской премии (2020).
– Владимир Алексеевич, за плечами насыщенный творческий путь. Какие Ваши исследования, какие труды Вы считаете самыми значимыми?
– Мне самому не пристало оценивать значимость своих трудов. Могу только очертить область своих научных интересов: Русская литература ХIХ в., Н.В. Гоголь, его жизнь и творчество, научное издание и комментирование произведений писателя, публикация неизданных рукописей, создание Гоголевской библиографии. Православие, духовная культура России, святоотеческая традиция в русской литературе, формирование новых методологических подходов в изучении русской классики.
– Что для Вас значит Ломоносовская премия, которой Вы награждены в нынешнем году?
– Премия присуждена за цикл работ по истории русской литературы ХIХ в.: монографии о жизни и творческом наследии Н.В. Гоголя и тематически связанные с ними работы. Для меня очень дорога эта награда. Вся моя жизнь неразрывно связана с Московским университетом. Филологический факультет, кафедра истории русской литературы, на которой я проработал всю свою жизнь, сделали меня филологом, учёным. И потому я отношу эту премии и к коллегам по кафедре, многие из которых не менее, а может быть, и более достойны этой почётной премии. И скажу, как сказал бы Гоголь вместе с Пророком Давидом: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу…» (Пс. 113).
– По «Мертвым душам» в советской традиции нам пытались навязать образ косной, лицемерной действительности царской России. В этой связи вспоминается, каким глотком живой воды стало исследование Ю.Лощица об И.Гончарове и его герое Обломове, что во многом воплотилось в фильме Н.Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова». Та, дореволюционная деревня, предстала нам вдруг раем земным, а прошлая жизнь в Обломовке сегодня, когда наступает экологическая катастрофа, кажется нам самой богоугодной и спасительной, какая только возможна на Земле. Как научиться читать «Мертвые души» любящим взглядом и извлекать из этого произведения спасительный смысл? Что в «Мертвых душах», на Ваш взгляд, привлекает уже не одно поколение читателей?
– «Мертвые души», как и любое произведение Гоголя, – про нас. Общепризнанно, что отличительной чертой героев писателя является пошлость. Но что такое пошлость? Пошлость у Гоголя – это печать духовного убожества, которое можно найти в каждом человеке. Герои Гоголя пошлы, так как они мертвы духовно. По Гоголю, души его героев не вовсе умерли. В них, как и в каждом человеке, таится подлинная жизнь – образ Божий, а вместе с тем и надежда на возрождение. Гоголевский замысел созвучен христианскому нравственному закону, сформулированному святым апостолом Павлом: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
Название поэмы – «Мертвые души» – недопустимо писать через «ё». Это произвол, нарушающий авторскую волю: в рукописях и прижизненных, а также всех последующих изданиях, всегда «е». Замысел творения Гоголя самым непосредственным образом связан с церковной традицией: Христос воскресе из мертвых. Чаю воскресения мертвых... В церковнославянском языке, как известно, нет буквы «ё».
– Появились ли какие-либо новые разыскания по поводу II тома «Мертвых душ»?
– Лет 40 назадя высказал мысль, что Гоголь не написал II том. Правильнее говорить о сохранившихся его начальных черновых главах. Законченную беловую рукопись его никто никогда не видел. Думаю, её и не было никогда. Время от времени в печати появляются сообщения о находках не известных ранее рукописей II тома, но все эти сообщения не находят подтверждения: речь идёт о списках всё тех же черновых глав.
– Что за последние 10-20 лет изменилось в преподавании литературы в школе и вузах? Молодёжь стала меньше или больше интересоваться словесностью, филологией?
– Читают всё меньше и меньше. Болонская система, от которой уже давно отказались в Европе, принесла немало вреда нашему образованию, и, помнится, в своё время Ученый совет филфака МГУ принял решение вернуться к традиционной системе преподавания, но воз и ныне там. Однако сейчас наступила эпоха, когда эти проблемы уходят на 2-й план. Дистанционное обучение, думаю, надолго. И это в корне меняет характер отношений преподавателя и учащихся.
– Есть ли в нашем сегодняшнем образовании проблемы, связанные с тем, что заимствованная система образования сделала нас эпигонами Запада? Как донести до чиновников из Минпросвещения слова Гоголя: « образование черпается из самого же народа, просвещение наносное должно быть в такой степени заимствовано, сколько может оно помогать собственному развитию, но что развиваться народ должен из своих же национальных стихий»?
– Да, Гоголь не раз высказывался на эту тему, и в лекции о багдадском калифе Ал-Мамуне, которую Вы сейчас процитировали, и в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Так, в главе «Просвещение», занимающей центральное место в книге,он писал: «Мы повторяем теперь ещё бессмысленно слово "просвещение". Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду её окружающие, и знает, зачем произносит».
Утверждая, что слова «просвещение» нет ни на каком языке, кроме русского, и перебирая переводы возможных соответствий этому слову в других языках, Гоголь не находит в них оттенка, который отражал бы воздействие и на нравственную природу человека. Даже такой чуткий критик, как А.Григорьев, в статье «Гоголь и его последняя книга» писал, что ему непонятно в высшей степени, что Гоголь называет просвещением, и утверждал, что немецкое Aufklärung значит решительно то же самое. Между тем Николай Васильевич употребляет это слово в его духовном, литургическом значении. Без духовного просвещения («Свет Христов просвещает всех!»), по Гоголю, не может быть никакого света. Словенские учители св. Кирилл и Мефодий являются просветителями славянских народов именно потому, что воцерковили их. Св. равноапостольная Нина была просветительницей Иверии (так называлась Грузия) потому что способствовала крещению (просвещению) жителей этой страны. Наконец, напомним, что девизом Московского университета, начертанным на наружной стене храма св. мученицы Татианы, были – и теперь восстановлены – слова: «Свет Христов просвещает всех!»
– Как современному подростку, воспитанному уже на психоделической музыке, на американских фильмах понять, услышать, усвоить «внутреннего человека» в произведениях Гоголя? Как донести то, что он говорил, обращаясь к графу Толстому, говоря: «Благодарите Бога за то, что вы русский…»?
– Гоголь учит правильному, духовному пониманию патриотизма. Мы должны не гордиться тем, что мы русские, а благодарить за это Бога. Любовь к Отечеству, понимаемая как служение «гражданина земли своей», пронизывает всё его творчество . В этом отношении он современен как никто из русских писателей. Поэтому надо читать Гоголя, разъяснять в школе сокровенный смысл его творений. Но здесь многое зависит, конечно, от учителя.
– В своих трудах Вы говорите о гоголевском идеале воцерковления русской жизни. Насколько это возможно в современном мире?
– Идеал этот, по-прежнему, глубоко значим для России. Другого пути нет. Россия может быть только православной, иначе её не будет совсем. Вспомним спор Белинского с Гоголем. Этот спор не окончен и поныне. Для Гоголя христианство выше цивилизации. Сегодня уже очевидно, что современная европейская цивилизация не имеет продолжения в своем качестве. Мы становимся свидетелями всё большего разделения. Духовная культура собирается вокруг Церкви, а мирская возрастает в своей враждебности к Православию. Это неизбежный процесс апостасии – отпадения от Бога. Хотя изначально любая культура – и европейская, и русская – связана с Церковью. Современная массовая культура и есть предельное выражение светской. Успех её связан с тем, что человек утратил представление о том, для чего он живет, что он должен делать со своей жизнью. Раньше он это понимал через Православие, которое учит чувству ответственности. Отсюда и разные неустройства и нестроения, начиная от всевозможных кризисов (экономических, экологических) и кончая неудачами в личной жизни, разрушением семьи и прочим. Гоголь очень точно говорил, что у человека тогда всё ладится, когда он внутренне устроен. А чтоб устроенным быть внутренне, – надо искать Царствия Божия, и всё остальное приложится вам.
– Каких современных писателей Вы могли бы отметить, в творчестве которых раскрывается сегодня народность, так ярко высвеченная в произведениях Гоголя? Можно ли вообще сегодня, когда исчезает русская деревня, говорить о таком понятии, как народность?
– Честно говоря, современных авторов, за редкими исключениями, я не читаю. Времени остается всё меньше. Когда на книжной полке стоят святые отцы, не очень-то возьмёшь в руки нынешние сочинения. Наша земная жизнь коротка, а святоотеческая мудрость неизмерима. Притом приходится много читать по специальности. Я просматриваю всю доступную мне литературу о Гоголе, о нём много пишут и современные писатели. И, как мне представляется, не о Гоголе будут судить по тому, что они говорили о нём, а о них будут судить по тому, что они сказали о Гоголе. Что же касается понятия «народность», то о нём, разумеется, можно говорить и сегодня. Только наполняется это понятие новым содержанием, поскольку сам народ сильно изменился.
– Вы дружили с литературоведом В.Афанасьевым (монах Лазарь). Как Вы оцениваете его труды? Я часто вижу книги филолога Н.Лобастова о русской литературе, содержание которых вызывает смущение. Можно ли всерьёз относиться к его исследованиям?
– Монах Лазарь (Афанасьев) – исключительное явление в современном литературоведении, и, полагаю, до сих пор недооцененное. Из-под его пера вышло более 50 популярных книг. Читателю хорошо известны его биографические сочинения о Жуковском, Лермонтове, И.Козлове, Батюшкове, Языкове, а также жизнеописания великих подвижников христианского благочестия, как древних, так и прославленных в наше время: прп. отцов Антония Великого, Нила Сорского, Серафима Саровского, Оптинских старцев. Известен он и как духовный поэт. Многие его стихи положены на музыку. Профессор Московской Духовной академии М.Дунаев в VI томе своего фундаментального труда «Православие и русская литература», где творчеству монаха Лазаря посвящён спец. раздел, отметил, что его поэзия подлинная и православная по духу. И что удивительно, труды этого вовсе неучёного человека нашли признание в научной, академической среде.
В Энциклопедическом словаре «М.Ю. Лермонтов» (2014), приуроченном к 200-летию со дня рождения поэта, им написана обширная вступительная статья «Парус одинокий» и около 150 энциклопедических статей и очерков о Лермонтове и его окружении. Не припомню другого случая, чтобы литературоведческие работы нефилолога, писателя-самоучки, получили столь высокое научное признание. Что касается сочинений Н.Лобастова, то, конечно, он не филолог, не исследователь, а школьный учитель, подвизающийся на ниве православного просвещения, популяризатор. И делает он своё дело в меру отпущенных ему талантов. Но мне трудно представить его работы в каком-нибудь научном, академическом издании. Впрочем, на этом остановимся. Как учат святые отцы, христианину непозволительно судить о ближнем. «Отнюдь не суди ни о ком», – наставляет прп. Антоний Великий. Свт. Игнатий (Брянчанинов) разъясняет: «Чтобы не осуждать ближнего, нужно отказаться от суждения о ближнем: потому-то в евангельской заповеди, воспрещающей осуждение ближнего, предварительно воспрещено суждение о нем. Не судите и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены. Сперва мы позволяем себе суждение о делах ближнего, а потом невольно впадаем в осуждение. Не посеем семени – и не возрастут сорняки; воспретим себе ненужное суждение о ближних – и не будет осуждения».
– Над чем Вы трудитесь сегодня? Осуществление каких задумок ещё в Ваших планах?
– В Псалтире сказано, что срок жизни человека – 70 лет. Всё, что сверх этого – милость Божия. Так что больших планов не строю. Надо бы завершить начатое, например, Гоголевскую библиографию. Может, если будут силы, напишу и издам о нем итоговую биографическую книгу. В наше окаянное время могу пожелать всем, только одного: крепости духа, мужества. Как говорил Гоголь: «Мы призваны в мир на битву, а не на праздник: праздновать победу будем на том свете».
Битва за Россию ещё далеко не окончена и от нас зависит исход этой битвы. Мужество, которое нам всем так необходимо, по учению святых отцов, – «не что иное, как пребывание в истине при твердом противоборстве невидимым врагам» (прп. Антоний Великий). Так будем пребывать в истине.
Беседу вела Ирина Ушакова
11.11. 2020. РНЛ
https://ruskline.ru/analiti....onchena
ГОГОЛЬ ВСЕХ ЗАПУТАЛ: СОЖЖЕНИЕ «МЕРТВЫХ ДУШ» МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ФЕЙКОМ
170 лет назад Гоголь сжёг II том поэмы. Прямых доказательств уничтожения писателем рукописи за несколько дней до смерти нет, более того - оригинал вообще никто никогда не видел. Как писатель хотел трансформировать образ Чичикова в продолжении и что за главы из II тома» были найдены в США?..
Что произошло тогда в доме Гоголя не известно до сих пор. Ряд экспертов полагают, что писатель случайно отправил бумаги в камин. Этой версии придерживались норвежский исследователь Гейром Хьетсо и американский историк русской литературы Ю.Ивасик. По их мнению, уставший после всенощного бдения автор намеревался избавиться от черновых записей уже переписанного начисто сочинения, но не заметил, что прихватил стопку листов беловика, и бросил их в огонь. Писатель И.Гарин не исключил, что рукописи II тома могли быть украдены графом А.Толстым, в чьём доме на Никитском бульваре писатель провёл последние дни.
 
Похититель якобы боялся узнать себя в одном из героев. Ранее граф уже получил удар по репутации: он стал ловить косые взгляды знакомых после публикации Гоголем сборника «Выбранные места из переписки с друзьями», в котором ряд писем был обращён к нему. Считается, что Толстой мог уничтожить компрометировавшие его главы, а безопасную для себя часть вернул душеприказчикам автора - московскому губернатору И.Капнисту и профессору С.Шевырёву. Для отвода глаз граф сочинил легенду, будто Гоголь в порыве душевного расстройства собственноручно сжёг недостающие главы произведения, которые считал неудачными. Выглядело вполне правдоподобно: все знали, что это подобный способ расправы над черновиками был в духе писателя.
Ещё одна версия - политическая. Есть мнение, что II том могли выкрасть агенты Третьего отделения, якобы опасавшиеся содержащихся в тексте пророчеств о незавидной судьбе правящей династии Романовых. В 2009 г. американский бизнесмен Тимур Абдуллаев заявил об имеющихся у него рукописях нескольких глав II тома. Эксперты пришли к заключению, что 315 стр. текста могут быть копиями, сделанными после смерти Гоголя. Один из самых крупных гоголеведов Ю.Манн объяснял, что таких списков, сделанных переписчиками на основе обнаруженных в шкафу бумаг после смерти писателя с его черновыми пометками, существует множество, в том числе в России: "Все эти списки в конечном счёте восходят к оригиналу, но оригинал - это совсем другое дело".
Впервые исследователь поставил под сомнение сам факт существования законченной рукописи 20 лет назад, и за это время ни один специалист не смог опровергнуть его предположение. Тайну II тома «Мёртвых душ» эксперт назвал самой больной проблемой гоголеведения.
-Что сжигал, когда сжигал, почему сжигал? На эти вопросы нет однозначного ответа. Версия о сожжении базируется на признании самого Гоголя в уничтожении рукописи и словах его слуги. Но какие именно бумаги сгорели - точно неизвестно, - отметил В. Воропаев. Он напомнил слова духовного отца писателя протоиерея М.Константиновского. Тот был последним, кто ознакомился с главами II тома накануне сожжения рукописей. Священнослужитель признавался, что действительно не одобрил несколько набросков, но отрицал, будто советовал сжечь продолжение «Мёртвых душ». По словам духовного отца Гоголя, «едва ли у него был готов II том, по крайней мере я не видал его».
В последние дни жизни Николай Васильевич усиленно работал над своим последним сочинением «Размышления о божественной литургии», которое было опубликовано уже после его смерти и стало образцом русской духовной литературы. Тему способности человека к духовному перерождению. Писатель планировал сделать основной и во II томе «Мёртвых душ». По мнению исследователя, Чичиков должен был переродиться, и это единственное, что ясно в этой загадочной истории с сожжением продолжения поэмы.
Ольга Сабурова
24.02. 2022. NEWS.ru
https://news.ru/art....-fejkom
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 03 Апр 2022, 21:30 | Сообщение # 10 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | К 213-летию со дня рождения
БОЛЬШАЯ РОДНЯ ГОГОЛЯ

Две новости, хорошая и плохая, появились в нынешнем марте, в канун 213-й годовщины со дня рождения великого русского писателя. Первую из них, отрадную, сообщил известный генеалог, давний и лучший исследователь родов малороссийского дворянства (фамилию которого, увы, назвать здесь не рискую, дабы в нынешней обстановке не навредить этому человеку). Он завершил масштабную работу по изучению предков и потомков Гоголя, создав самую полную на сегодняшний день историю рода классика русской и мировой литературы. Графически она заняла несколько полотен бумаги крупного размера, сокращённый вариант – лист плакатного формата А0, 84,1 х 118,9 см, большего не бывает. Исследователя ожидали в этой работе новые открытия, пусть и не сенсационные, но весьма важные.
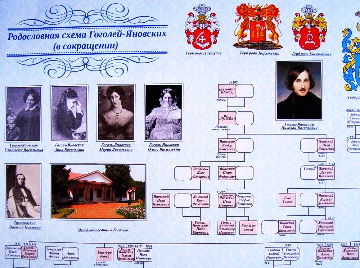
Родословной Гоголя занимались ранее многие исследователи, и отнюдь не безуспешно. Было установлено родство семьи писателя с такими громкими фамилиями, как Скоропадские, Трощинские, Дорошенко, Забелы, Лизогубы, оставившими заметный след в истории Великой и Малой Руси. Такая краткая родословная была даже запечатлена в металле: ещё во времена СССР, в Полтаве, на заводе украинских сувениров была отчеканена серия из 9 значков с родовыми гербами знатных родственников писателя.
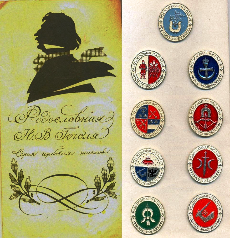
Родословная Н.В. Гоголя – раритет геральдической фалеристики
Сейчас это подлинный раритет, ибо повторить его невозможно: оборудование предприятия с обретением Украиной «независимости» было порезано на металлолом, специалисты растворились среди челноков и базарных торговцев, территорией завода овладели продавцы импортных автомобилей. Упомянутый набор значков инициативно разработал и воплотил заслуженный художник УССР, гл. художник Полтавы В.Н. Батурин. Он же создал эскизный проект музея-заповедника писателя в Васильевке Шишацкого района Полтавской обл., вскоре переименованной в Гоголево.

В проект эскиз превратился стараниями гл. архитектора Полтавы Л.С. Вайнгорта (он стал и первым директором созданного музея-заповедника, открытого в 1984 г., к 175-летию со дня рождения писателя). Огромную неоценимую помощь в создании этого музея оказала группа москвичей во главе с лучшим гоголеведом страны И.П. Золотусским, автором множества научных работ по исследованию творчества писателя и популярной книги о нём, вышедшей в серии ЖЗЛ. Благодаря этой группе музей наполнился экспонатами, обрёл вид научного учреждения, получил мощную финансовую поддержку из союзного центра.
В значительной степени на средства московских меценатов, в частности М.В. Богатырёвой, была проведена в 2009 г. коренная реконструкция музея Н.В. Гоголя в Великих Сорочинцах (дом фельдшера М.Я. Трохимовского, в котором родился будущий писатель. Но попробуйте найти об этом упоминания на полтавских исторических сайтах, либо в той же «Википедии». «Гоголевские места на Полтавщине» (начиная с памятника Николаю Васильевичу в обл. центре, отлитого в 1915 г. в Петрограде и подаренного автором, Л.В. Позеном, городу) и вплоть до памятной доски, установленной на 200-летие писателя на здании в центре Полтавы советником-посланником посольства РФ В.В. Лоскутовым, включая музей-заповедник в Гоголево и музей в Великих Сорочинцах живы только благодаря тому, что до них смогла дотянуться «рука Москвы».

Мать Н.В. Гоголя Мария Ивановна и место хутора, где она родилась
Прочие гоголевские места или уже исчезли, либо уходят в небытие. Хутор Косяровских, где родилась мать писател, разрушен подчистую. Место удалось отыскать лишь с помощью спутниковой навигации, имение екатерининского вельможи Д.П. Трощинского, родственника Гоголей, у которого служил Василий Афанасьевич, представляет собой груду битого кирпича, здания дворца Муравьёвых-Апостолов в Хомутце, где в советское время квартировал сельхозтехникум, представляют собой нынче мерзость запустения; парк с руиной при этом офиц. считается «памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения».

А ведь Н.В. Гоголь – праправнучатый племянник родоначальника династии гетмана Малороссии Д.П. Апостола, в церкви-усыпальнице которого в Великих Сорочинцах был крещён маленький Никоша. Самое полное собрание сочинений и писем Н.В. Гоголя вышло в свет в Издательстве Московской Патриархии в год 200-летия со дня рождения писателя: «Впервые в собрание включена переписка Гоголя с ответами его адресатов в полном объеме. В издание также помещены лекции, прочитанные Гоголем в Петербургском университете, записные книжки, словари, подготовительные материалы по истории, фольклору и этнографии. Впервые в собрание вошли записки Гоголя духовного содержания, выписки из служебных Миней, других богослужебных книг, творений святых отцов, в том числе из «Лествицы» прп. Иоанна Лествичника, любимой книги писателя».
Здесь же опубликованы «Размышления о Божественной литургии» – главнейшем христианском богослужении в исторических церквях, во время которого совершается таинство Евхаристии. Лучше и доходчивее Гоголя никто о нём не написал. Именно его тексты семинаристы искали в дореволюционных изданиях писателя, ибо в советское время их держали под спудом. «Переписка Гоголя с ответами его адресатов», да ещё в полном объеме, в соединении с генеалогическими исследованиями, проливает свет на природу многих произведений писателя. Благодаря им известно, что в «Старосветских помещиках» изображены не кто иной, как бабушка Гоголя Татьяна Семёновна, в девичестве Танская, представительница созвездия знатных родов: Лизогубов, Дорошенко, Скоропадских, Забел, и дед, Афанасий Демьянович, полковой писарь, предками которого были лубенские священники. Безумная любовь подвигла их на совершение тайного брака, плодом которого стал отец Гоголя Василий Афанасьевич и, соответственно, он сам.
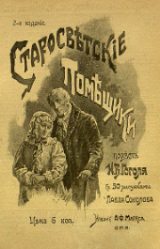
Одно из доступных по цене, дореволюционных «народных» изданий повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики».1901 г.
«Старосветские помещики» не случайно стали первой повестью Гоголя из цикла «Миргород», написанной в 1835 г. Татьяна Семёновна предстала в ней Пульхерией Ивановной, Афанасий Демьянович – Афанасием Ивановичем, фамилией – Товстогубовы. Намёки более чем прозрачны, легко угадываемы, нежность в описаниях их жизни – безгранична, правдиво-документальна. Завершает же сборник «Миргород» «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Это тоже рассказ из около семейной хроники Гоголей, которыми М.И. Гоголь-Косяровская наполняла переписку с сыном, по его всегдашним просьбам: реальная ссора двух реальных людей, которых именно так и звали: Иван Иванович и Иван Никифорович. Фамилия у обоих была одинакова – Чарныш. Они приходились родственниками другому И.Н. Чарнышу, руководившему Полтавским магистратом – особе значительной, и поэтому Гоголь во избежание ненужных осложнений, для родни в первую очередь, переименовал их соответственно в Перерепенко и Довгочхуна. Были они не просто заурядными помещиками, а отставными военными: генералом один, второй – секунд-майором. То есть гонору никому из них было не занимать.

Иван Иванович и Иван Никифорович в представлении художников (слева – скульптурная группа в центре Миргорода, справа – книжная иллюстрация)
Из повести свою судебную тяжбу они перенесли в Полтаву, но их именитый родственник (по нынешним понятиям – мэр) вряд ли стал им помогать. При этом полтавский И.Н. Чарныш был поистине милейшим человеком. В его подчинении писарем начинал свою карьеру другой будущий классик литературы И.П. Котляревский. Скорее всего, по доброте душевной Чарныш выдал ему свидетельство на дворянство, якобы взамен утерянного. Так Иван Петрович избежал солдатчины, военную службу начал кадетом в Северском драгунском полку и дослужился до чина штабс-капитана. Его однополчанином был И.И. Чарныш (в «Повести…» - Перерепенко). Возможно, что они и служили в одно и то же время (год рождения И.П. Котляревского – 1769-й, И.И. Чарныша – 1767-й).…
_______________
* Восстановить богатый усадебный комплекс Д.П. Трощинского силами общественности, безусловно, невозможно. Однако и в этом направлении кое-что делается. Энтузиаст, почитатель трудов Дмитрия Прокофьевича на благо Отечества (фамилию которого тоже называть не время) предпринял нынче попытку V-томного издания его переписки. Материалы собраны при содействии российских архивов. Первая книга уже вышла из печати. Проект заинтересует гоголеведов, и обещает им новые открытия в изучении страниц жизни и творчества великого писателя.Заглавная иллюстрация: бюст Н.В. Гоголя перед входом в музей писателя в Великих Сорочинцах, месте рождения великого писателя.
Тихомир Павлов
01.04. 2022. портал "Одна Родина"
https://odnarodyna.org/article....nalisty
НАДГРОБИЕ НА МОГИЛЕ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ ОТРЕСТАВРИРУЮТ

1 апреля - день рождения Н.В. Гоголя. Писатель похоронен на Новодевичьем кладбище. Департамент культурного наследия города уже этой весной планирует начать реставрационные работы на могиле литератора и привести в порядок надгробие, ограду и площадку. Надгробие на могиле писателя представляет собой металлический крест золотого цвета, установленный на каменном постаменте в виде камня-голгофы (возвышение с крестом символизирует гору Голгофу, на которой был распят Иисус Христос). Перед ним находится усеченная 4-гранная пирамида из черного мрамора - саркофаг. На лицевой поверхности камня-голгофы закреплена литая позолоченная бронзовая табличка с рельефной надписью. Памятник и саркофаг стоят на гранитных плитах. Территория могилы обнесена чугунной оградой. Металлическое ограждение состоит из 8 секций и декорировано литыми накладными элементами: барельефным портретом Гоголя, лирами с лавровыми ветвями, венками. На время реставрационных работ крест будет демонтирован. Специалисты изготовят новый – стальной, облицуют его латунью, а также обработают спец. веществом, защищающим от разрушения, затем нанесут позолоту. Поверхности камня-голгофы, саркофага, гранитные плиты промоют водой с добавлением моющих средств. После этого на них устранят имеющиеся дефекты - сколы, трещины, ямки.
Мария Максимова
01.04. 2022. газета "Православная Москва"
http://orthodoxmoscow.ru/nadgrob....om-godu
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 04 Май 2022, 19:20 | Сообщение # 11 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | КОГДА ПРИЕДЕТ РЕВИЗОР?
Как сам Гоголь прочитывал комедию
«Ревизора» Н.В. Гоголя читали и читают во всех школах страны, но далеко не все видят в пьесе те смыслы, которые были самыми важными для автора. А ведь существует еще и «Развязка „Ревизора“»? Кого сам Николай Васильевич считал главным ревизором? Или почему сравнивал пьесу с картиной «Последний день Помпеи»?
Взятки борзыми щенками, унтер-офицерша, которая сама себя высекла, «брат Пушкин, … большой оригинал» - многие выражения из комедии «Ревизор» живут в русском языке без малого два века. Пьесу в свое время заслуженно растащили на цитаты. На сцене «Ревизора» ставили по-разному, порой уморительно смешно. Император Николай I посетил премьеру в Петербурге, - с этого момента началось ее триумфальное шествие по сценам разных театров России. Пьесу охотно, с удовольствием играли и смотрели. Недоволен был, не считая ряда чиновников, пожалуй, только автор. Очень недоволен.
Гоголь написал «Ревизора» в 1835-1836 гг., это был расцвет его творчества. Идею подсказал Пушкин, который слышал о подобном случае и сам попадал в схожую историю, что его изрядно позабавило. Цензура поначалу строго отнеслась к новому опусу известного писателя, но потом дала пьесе ход. Современники ее полюбили, хотя многое в ней казалось им странным. В приличной комедии ведь должен быть положительный герой, а в «Ревизоре», как ни крути, его нет. Любая уважающая себя пьеса должна была начинаться с завязки и иметь внятный финал. А в «Ревизоре» действие разворачивается буквально с места в карьер: «Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор», - и более ничего. Зато развязок целых две: 1-я - когда читают письмо Хлестакова, 2-я - когда узнают о настоящем ревизоре. Кроме того, раз уж речь идет об уездном городе, в нем должны быть представлены все надлежащие чиновники, а в «Ревизоре» даже исправника нет, зато есть, странный персонаж - попечитель богоугодных заведений. Что все это значит? О чем автор хотел сказать?
Ответить на этот вопрос не так-то легко. Было бы легко, если бы Гоголь написал только пьесу - и не оставил к ней пояснений. Тогда все было бы на поверхности, вышла бы отличная комедия, но он написал также «Театральный разъезд», «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует „Ревизора“», еще ряд замечаний озвучил в письмах актеру М.Щепкину и др. лицам. И, наконец, спустя 10 лет после самого «Ревизора» (а пьесу за это время успели сыграть во многих театрах России), он создал произведение, которое окончательно всех запутало. Оно называется «Развязка „Ревизора“», сохранилось аж в 2-х авторских редакциях. И оно стоит того, чтобы в него вникнуть.

Но прежде нужно обратить внимание на один тезис, который часто слышится применительно к этому писателю. Тезис о том, что было как бы два разных Гоголя. Первый стал автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Ревизора», второй - «Выбранных мест из переписки с друзьями». Тот, второй, к тому же бросил в огонь продолжение «Мертвых душ» и уморил себя голодом, вследствие чего сошел в могилу раньше срока. Наверное, тезис этот отчасти справедлив. Ранний и поздний Гоголь на первый взгляд действительно кажутся разными людьми. Первый чрезвычайно весел, второй вдумчив и очень религиозен. Но ведь такие перемены случаются и с обычными людьми, что уж говорить о гениях. Скорее всего, двух Гоголей все же не было, а был один - очень умный, тонкий, ищущий человек, который задавал себе очень важные вопросы. И если зрелый Гоголь переосмыслил свою же более раннюю пьесу, то он имел на это полное право. Так что же он сказал о «Ревизоре»?

Словно отвечая на упреки критиков, писатель спустя 10 лет взялся за толкование своего авторского замысла. В уста первого комического актера, героя «Развязки „Ревизора“», под которым понимался М.Щепкин, автор комедии вложил такие слова:
«Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе: все до единого согласны, что этакого города нет во всей России, не слыхано, чтобы где были у нас чиновники все до единого такие уроды; хоть два, хоть три бывает честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет. Не так ли? Ну, а чтó, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас? Нет, взглянем на себя не глазами светского человека, - ведь не светский человек произнесет над нами суд, - взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами Того, Кто позовет на очную ставку всех людей, перед Которым и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои, да и посмотрим, достанет ли у кого-нибудь из нас тогда духу спросить: „Да разве у меня рожа крива?“»
Иными словами, Гоголь предложил читателям символическое понимание своей пьесы. Конечно, возможны и другие ее прочтения. Например, такое: «Ревизор» - это просто очень смешная комедия, фактически комедия абсурда, ведь каждый герой здесь говорит о своем, персонажи не слышат друг друга, отсюда возникает комический эффект. Или же: «Ревизор» - это комедия соц. характера, ведь здесь выведены разные типы людей, которые можно найти в обществе. Но все же… Зрелый Гоголь настаивал, что у «Ревизора» есть и более глубокий смысл. Чиновники - это человеческие страсти, которые раздирают на части, разоряют город - человеческую душу. Хлестаков - это ложная, светская, как говорил Гоголь, совесть. Любая наша страсть способна с ней договориться, дать взятку, чтобы та закрыла глаза на неподобающие поступки. Ну а настоящий ревизор, который появляется в конце пьесы, - это истинная совесть, которую задвинули в дальний угол души, чтобы не мешала жить и которая с неотвратимостью катастрофы явится в самый последний момент нашей жизни, когда ничего уже нельзя будет изменить: «Чтó ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по Именному Высшему повеленью он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, чтó ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее».

С христианской точки зрения Гоголь абсолютно прав. К тому же призывает Евангелие, когда говорит о необходимости покаяния, перемены сердца и ума. Ради этой перемены и спасения каждого человека Христос восходит на Голгофу, умирает и воскресает. О том же пишет апостол Павел, когда напоминает: "Вы были куплены дорогой ценой, и призывает оставаться рабами Христу, а не рабами людей или страстей". Все это требует огромной внутренней работы, но проделать ее необходимо, и лучше не тянуть до последнего момента жизни. Иначе… случится немая сцена, как в «Ревизоре». И ничего уже нельзя. Это произведение-катастрофа, где запечатлены жители города за миг до смерти. На холсте Брюллова несчастные люди пытаются убежать от раскаленной лавы вулкана - а убежать от нее нельзя. Их лица выражают ужас, они парализованы страхом. Им никуда уже не деться, ничего не изменить. И хотя Помпеи в тот момент наверняка были переполнены громом и криками, у Брюллова тоже запечатлена своего рода немая сцена, как и у Гоголя. То есть апокалипсис.

Но тут возникает вопрос: а дает ли автор «Ревизора» какой-то ответ на свои размышления и трактовки? Что делать бедному человеку, раздираемому страстями, который уличил себя во взятках «ревизору», то есть в сделках с собственной совестью? Ответ у Гоголя есть. И он такой же, как всегда у этого автора: нужно смеяться над собой. Его смех - это не только ценная характеристика, которую используют в школьных сочинениях. Это еще и универсальный рецепт по спасению души. Там же, в «Развязке „Ревизора“», есть такие слова: «Клянусь, душевный город наш стóит того, чтобы подумать о нем, как думает добрый государь о своем государстве. Благородно и строго, как он изгоняет из земли своей лихоимцев, изгоним наших душевных лихоимцев! Есть средство, есть бич, которым можно выгнать их. Смехом, мои благородные соотечественники! Смехом, которого так боятся все низкие наши страсти! Смехом, который создан на то, чтобы смеяться над всем, чтó позорит истинную красоту человека. Возвратим смеху его настоящее значенье! Таким же точно образом, как посмеялись над мерзостью в другом человеке, посмеемся великодушно над мерзостью собственной, какую в себе ни отыщем!»
Гоголь призывает смеяться над собственными страстями. Это не значит - становиться легкомысленными по отношению к ним, не придавать им того значения, на которое могут рассчитывать важные чиновники в уездном городе, и не служить им. И тогда эти чиновники просто потеряют в городе власть. Высмеянные за свои дела, они уже не смогут заключить ни одной сделки, будут дискредитирован, а значит, страху перед ревизором тоже не найдется места в человеческой душе: ведь чего бояться, когда страсти обезоружены? Такой вот авторский метод. Возможно, кто-то после такого прочтения «Ревизора» пожмет плечами, возмутится и скажет: «Оно, конечно, А.Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»
Что ж, читатель имеет на это полное право. Щепкин, среди первых сыгравший в «Ревизоре», тоже был не согласен с Гоголем. А пьесу эту и в наше время часто ставят как просто очень хорошую комедию. Однако Николай Васильевич для себя решил иначе, а у автора всегда есть свое глубокое видение и право на трактовку.
Комедия в 5 действиях, написанная в 1835-1836 гг. В уездном городе N привычной жизнью - принимая взятки и уворачиваясь от исполнения обязанностей, - живут разные чиновники. Комедия начинается с приезда в город авантюриста по фамилии Хлестаков, которого все принимают за столичного ревизора. Дальнейшее действие показывает, как легко можно договориться с проверяющей инстанцией и к чему это приводит. В наиболее распространенном прочтении «Ревизор» представляет собой сатиру на российскую действительность, а уездный город N - это символическое обозначение всей России.
Алла Митрофанова
04.03. 2022. журнал "Фома"
https://foma.ru/kogda-priedet-revizor.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 23 Июн 2022, 19:21 | Сообщение # 12 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | МЕРТВЫЕ ДУШИ ЖИВУТ ВЕЧНО
Как толковать Гоголя с позиций сегодняшнего дня
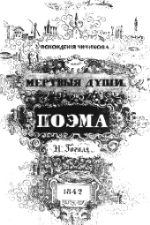
Репродукция титульного листа первого издания поэмы «Мёртвые души» (1842 г.), выполненного по рисунку автора
11 июня исполнилось 180 лет с публикации поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Первый том вышел в 1842 г. и моментально стал бестселлером. Столь успешным, что уже в следующем году со вторым переизданием книгопечатники устроили настоящую аферу, на которой очень хорошо заработали. В общем, такие же мошенники, как и П.И. Чичиков.Впрочем, что это за словцо такое – неприятное, мелкое – «бестселлер»? Правильнее говорить – книга знаковая, эталонная, та, с которой сравнивали, сравнивают и будут сравнивать вечный текст не только о прошлом, но и о настоящем. Хочется сказать, что, дай бог, не о будущем, но тут есть серьёзные опасения. «Мёртвые души» – произведение очень русское, глубинно русское и в то же время говорящее со всем миром. Здесь и готика, и испанский плутовской роман, и греческий эпос, и мн.др. Только Гоголь с его гением, словно парящим над остальными, мог создать нечто подобное, вгрызающееся в первородный хаос.

Не случайно данное произведение названо поэмой. Гоголь увидел чиновников, он нашёл в их облике и нравах определённую отрицательную поэзию. Поэзией отвратительного пропитан их быт. Однако писатель увидел отрицательную поэзию не только быта, но и его обратной, тёмной стороны. У каждого здесь свой доппельгангер, своя тёмная сторона. Само название поэмы мистично – «Мёртвые души». Эти люди только выглядят как живые, на самом деле внутри они мертвы. И фильмы о живых мертвецах в стиле Джорджа Ромеро – лишь глупые страшилки по сравнению с тем ужасом, что живописал Гоголь.
В школе нас учили, что «Мёртвые души» – это сатира, высмеивающая нравы и типажи, и в ней сплошь одни отрицательные герои. Антикрепостнический текст, как постановил Белинский. Оно, безусловно, так отчасти, но можно ли, спустившись в ад, размышлять о положительном и отрицательном? Можно ли среди чертей и бесов размышлять о человеческом? Не просто так использую это слово – бесы. Связь между «Мёртвыми душами» Гоголя и «Бесами» Достоевского требует отдельного исследования. Но я сейчас не о лит. концепциях и даже не о полнокровной мощи гоголевского языка, а о том, почему «Мёртвые души» – это столь актуально.
О поэме Гоголя часто говорят в контексте «Одиссеи» Гомера. Да, «Мёртвые души» и есть путешествие. На первый взгляд оно, как сообщает автор, происходит недалеко от обеих столиц, но на самом деле мы перемещаемся в мир потусторонний. И если бы у ада был свой музей, особенно у русского ада, то определённо туда нас и отправил Гоголь. Смех же здесь – вовсе не следствие сатиры, а скорее вызов всем этим бесовским существам, оружие против них с целью очеловечить происходящее. Гоголь блестяще балансирует между реальным и мистическим. Как заметил Шкловский: «У Гоголя чёрт входит в избу – верю, у писателя Н. учительница входит в класс – не верю!»
Гоголь чертовски убедителен и сколь же быстро панночки у него оборачиваются демоницами! Возможно, «Мёртвые души» – высказывание антикрепостническое, но разве помещики там – всего лишь тираны и самодуры? Да нет же, все эти Коробочки – злые сущности, заключённые в человеческих телах. И мистичность эта подчёркивается постоянно: то петух закричит, то часы без стрелки. Персонажи в «Мёртвых душах» носят, точно костюмы, человеческие личины, но порою из-под них показываются истинные демонические сущности. Сам Чичиков – кто он? Мережковский, а вслед за ним и Набоков очень точно заметили, что этот человек без свойств – дьявол, прежде всего дьявол пошлости и мещанства. Однако как бы назвали такого в реальном мире, помешанном на культе успеха, который столь много значит между людьми?
Чичиков, если отбросить финал поэмы, – оборотистый делец, находчивый воротила. Он, в общем-то, и не сделал ничего криминального, а лишь попытался отобрать у государства то, что оно ему не додало. Разве не таким аплодирует толпа? Попытался, нащупав несовершенства переписи населения, которое страшно и стремительно вымирает. Разве это не вечное сказание об электорате? И сколько таких персонажей, исповедующих принцип «беречь копейку», мы уже видели и будем видеть? Когда тащили и тащат всё, что можно и нельзя, подчас вырывая с корнем, богатея стремительно? Чем Чичиков отличается от вороватых чиновников, от бывших комсомольских работников, от кончавших страшно? И ничего, ровным счётом ничего не изменилось. Конец большинства из них неизбежно мрачен. «Ибо нельзя служить Богу и мамоне». А Чичиков есть не кто иной, как служитель мамоны, жрец. Он гонится за материальными благами, ослеплённый культом успеха. Здесь власть, здесь положение, здесь деньги и, конечно, здесь женщины. Так разве Чичиков хоть чем-то отличается от миллионов других? В том числе и поэтому Гоголь назвал поэму «Мёртвые души». Ведь сказано в Писании: «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»
Те, кто окружает Чичикова, лишь выглядят как человеки. У мистика Сведенборга есть фраза: «Только между теми, которые в одинаковом зле и которые поэтому находятся в одном адском обществе, есть общее сходство. Адские духи кажутся уродливыми только при небесном свете, но между собой они кажутся людьми».
Вот и Манилов, Собакевич, Плюшкин, иные не выходят на свет, а пребывают во тьме, желая, чтобы она распространилась на всех, ибо нет ада, кроме того, что здесь. Но это лишь одна сторона. Текст же Гоголя построен как перекликающиеся вселенные: мистическое здесь сплетено с политическим, то переходит в мифологическое, в сатирическое – и так до бесконечности. Поэтому и персонажи «Мёртвых душ», с одной стороны, адские духи, а с другой – вполне конкретные люди, кочующие из поколения в поколение. Просто с бричек они пересели на мерседесы с мигалками, а из поместий перебрались в высокие кабинеты, и по-прежнему «нет ничего сердитее департаментов, полков, канцелярий». Вот только ревизор всё никак не приедет.
Гоголь, создав мифологию Украины, перешёл к описанию России, как реальной, так и метафизической, вопрошая: «Русь, куда ж несёшься ты?» Страшен ответ, но в отличие от большинства литераторов Николай Васильевич не стонет, что так жить нельзя, не клеймит всё подряд, а остаётся патриотом в правильном, созидающем смысле данного слова. И в «Мёртвых душах» есть свой положительный герой – это не народ даже, а его душа, очень русская, та, что по природе своей христианка. И всё понимая, видя ад и дьявола в мельчайших подробностях и деталях, Гоголь тем не менее расчищает путь к другой России – уже не дьявольской, но небесной, правильной. Возможно, он пытался сделать это во II томе «Мёртвых душ», но итог мы знаем. Рукописи всё же горят. Что ж, придётся нам писать этот текст, а после воплощать его в жизнь, чтобы наконец дать ответ, куда же ты несёшься, Русь-тройка.
Платон Беседин, писатель. Севастополь
15.06. 2022. Литературная газета
https://lgz.ru/article....-vechno
ДО ЖУТИ РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА ГОГОЛЯ

«Опусти глаза, замри и молись. Бойся взгляда Вия – древнего бога, который пребывает в вечном мраке подземелья. Его веки проросли корнями сквозь землю. Если человек взглянет ему в глаза, то тут же умрёт. Так говорят старики. Так говорили их предки. С начала времён, когда Земля была ещё молодой, а боги были юными, живёт это древнее предание в душах славян, давно уже принявших Христову веру», – такими словами начинается фильм «Вий», поставленный в 2014 г. режиссёром О.Степченко.
Поиски Вия в мифах и сказаниях народов мира ведутся уже не одно столетие, а подвигла к такой исследовательской работе мистическая одноимённая повесть Н.В. Гоголя, впервые опубликованная в сборнике «Миргород» в 1835 г. Трудно найти в мировой классике персонаж, более впечатляющий своей жуткой мощью. Если мы обратимся к мифологии и фольклору народов мира, то Вия как такового там нет, но достаточно часто встречаются мистические образы, совпадающие с гоголевским описанием. В индийских преданиях и древней мифологии иранцев есть рассказы о боге Вайю, с которым можно найти некоторое сходство в произношении имён. Но Вайю, неся людям смерть и разрушения, считался повелителем ураганов. Вполне возможно, что со временем он мог трансформироваться в повелителя мертвецов и даже поменять имя. Но это – предположение.
В Древней Руси обитателей потустороннего мира, враждебных всему живому, называли навиями. Одна из миниатюр Радзивилловской летописи 1092 г. изображает половчан, прячущихся в домах от навий. А где же Вий? В русских фантастических повестях 1820–30-x гг., где нередко встречаются герои, пришедшие к славянам из германских преданий, подземного гнома Вия тоже нет. Его прототипом мог бы быть скифский бог Вей – владыка смерти и ураганов, которого у славян звали Велесом. С принятием христианства образ языческого бога Велеса разделился на две ипостаси: положительную (Св. Власий, покровитель скота) и отрицательную (злобный дух, хозяйничающий в преисподней). А вот что пишет о своём мистическом герое сам Гоголь: «Вий – есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чём изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал».
Подвергнуть сомнению слова писателя до сих пор никто не решился, но персонаж с таким именем в славянском фольклоре так и не был обнаружен. Есть все основания считать, что Гоголь нашёл Вия не в простонародном воображении, а в своей авторской фантазии, слепив его из множества демонических образов: «‟Приведите Вия! Ступайте за Вием!” – раздались слова мертвеца. И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжёлые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землёю ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь, длинные веки опущены были до самой земли…».
То, что персонаж весь в чёрной земле, а его появление предваряется волчьим воем – признак, указывающий на загробное происхождение Вия. А главное – он видит то, что недоступно зрению обычной нечисти. Его демонические глаза Вия закрыты длинными ресницами. Он не может поднять тяжёлые веки без посторонней помощи. В связи именно с этой его особенностью некоторые исследователи связывают имя Вий с украинским словом «вии» – ресницы. В русском фольклоре такие глаза называются волчьими. Однако, что не страшный волчий взгляд Вия стал смертельным для героя повести – Хомы Брута: «Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха». А что же?!
«А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать», – пояснил причину гибели философа товарищ Хомы. Кто побоялся нечистой силы – семинарист духовного училища киевского Братского монастыря?! Как же так?! Ведь назначение духовной семинарии – готовить крепких духом проповедников православной веры. Но верить в Бога и вещать о Боге – две разные вещи. Христианское богословие немыслимо без глубинной веры и сосредоточенной молитвы. А как относится к молитве Хома? Окружённый в храме со всех сторон нечистью, он «читал как попало молитвы». Значит, без твёрдой веры в спасительную силу молитвенного слова!
Философ Хома не только не молитвенник, но, чуждый аскетизма и молитвенного труда, он никогда не отказывал себе в удовольствии изрядно покутить и побалагурить, абсолютно не стремясь быть образцом добродетели. Он всегда готов поживиться тем, что плохо лежит, постоянно лжёт, чревоугодничает, сквернословит. Для таких людей молитва равна заклятью. Вспомните ночную скачку ведьмы. Тогда семинарист лихорадочно перебирал в памяти все заклятья и молитвы против духов и ведь именно молитвы ослабили нечисть, поэтому бурсак и смог ведьму скинуть с себя! Можно вспомнить и другой пример, когда в церкви, во время отпевания панночки, на Хому половина ада напала, и обратись наш герой к Спасителю: «Господи, помилуй и защити!», то и был бы спасён. А он, вместо того чтобы призвать на помощь Господа, поправшего ад, успокаивает себя напоминанием, что он казак, что ему стыдно бояться... Поверивший в свою силу и усомнившийся в силе Бога – погибнет!
Магический круг, который Хома вполне осмысленно очерчивает вокруг себя, чтобы защититься от ведьмы, ассоциируется у нас с силами добра. Кажется, что круг стал непреодолимой преградой для нечистой силы: демоны «глядели на него, искали и не могли увидеть его, окружённого таинственным кругом», ведьма не имела сил переступить за магическую черту, чёрный гроб панночки, летавший над головой Хомы, не мог его зацепить. Но в православии нет обычая очерчивать вокруг себя круг – это, скорее, магический обряд. Хома же, не веруя в спасительную силу молитвы, прибегнул к услугам магии, то есть попытался бороться с бесовщиной посредством той же самой бесовщины. Духовный смысл этой повести часто ускользает от читателей, а ведь с первых же строк можно понять, что разговор Гоголь ведёт о духовном – о человеке и его вере в Бога. Меня всегда поражало, как же нечисть смогла ворваться в Божий храм? «Вихрь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, двери сорвались с петель. Страшный шум от крыл и царапанья когтей наполнил всю церковь...».
Почему именно церковь Гоголь избрал тем самым местом, где должны случиться ключевые события: здесь сошлись основные персонажи, здесь же погиб Хома Брут. Обратим внимание на местоположение и внешний вид сельской церкви, в которой должно было пройти отпевание панночки. Унылый образ почерневшего храма, стоящего на краю села и поросшего зелёным мхом, откровенно пугает: «Они приблизились к церкви и вступили под её ветхие деревянные своды, показавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей».
Церковь показала общее состояние христианской веры и подлинное отношение людей к Богу. Совершенно очевидно, что ее образ в повести глубоко символичен. Жуткий мрак в храме, который не могут разогнать даже зажжённые перед образами свечи, имеет не только физический характер, но и метафизический – он указывает на состояние душ тех людей, которые забыли дорогу к Богу: «…страх загорался вместе с тьмою». А страх зарождается в тех душах, в которых нет крепкой веры в Бога. Вся мистика, о которой рассказывает повесть, до жути реальна и сегодня Вий ждёт своего часа, чтобы испытать твёрдость нашего духа и крепость веры. И страшен не сам Вий, а его волчий взгляд: стоит лишь посмотреть ему в глаза, как все страсти, гнездящиеся в душе человека, бросятся на несчастного. Демон, погубивший героя повести, явился не столько из дьявольского подземелья, сколько из тёмных бездн человеческой души, поражённой тяжёлым недугом. Отход от христианских идеалов и привел человека к гибели. В статье «Религиозное сознание Гоголя» С.Франк писал, что Гоголь, «содрогаясь, как на краю пропасти, чувствовал всем своим сердцем, что век, который отвернулся от Бога, движется к катастрофе». Список катастроф не исчерпан...
Ольга Майер
05.07. 2022. Православие.ру
https://pravoslavie.ru/147032.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 11 Июл 2023, 20:58 | Сообщение # 13 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | ТАЙНЫ ГОГОЛЯ
Он необыкновенно любил описывать трапезы, почти ни одно его произведение не обходится без солидной дани чревоугодию. Иногда в авторе чувствуется тонкий гурман, а порой просыпается и жадный обжора, наподобие Гаргантюа.
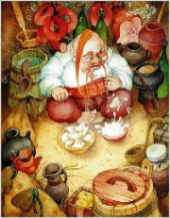
«В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова» («Ночь перед Рождеством»)

«Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было» («Мёртвые души»).
Читая эти описания, а также биографию Гоголя, понимаешь, что писатель знал толк в кулинарии и вслед за Хлестаковым мог повторить: «Я люблю поесть. Ведь на то живёшь, чтобы срывать цветы удовольствия». Однако умер писатель от истощения, изнурив себя тяжелейшим постом и за три дня до смерти отказавшись от какой-либо пищи. Вот она - первая тайна. Ещё он любил описывать женщин, в особенности молодых и красивых, правда, злоязычный В.Розанов утверждает, что Гоголь был абсолютно равнодушен к женщинам, и намекает даже на его некое некрофильство, ссылаясь на яркость описания покойниц, но такого непосредственного, искреннего восторга перед женской красотой, как у Гоголя, мало у кого из писателей встретишь.

«Разве чёрные брови и очи мои так хороши, что уже равных им нет на свете?» - продолжала красавица, не выпуская зеркала («Ночь перед Рождеством»).
«Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой ещё не видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озарённый утренним румянцем солнца» («Тарас Бульба»).
В этих описаниях виден скорее живописец, чем психолог, так как ничего характерного в гоголевских красотках нет, но вкус к телесной красоте у писателя был, и если судить по этим описаниям, то он предстаёт отнюдь не аскетом, не монахом и уж никак не некрофилом. «Николай Васильевич редко когда показывался к гостям. Если были одни мужчины, то случалось, он выходил и проводил с ними даже по нескольку часов, но если являлись дамы, то заставить выйти его было нелегко».».- вспоминает один из современников.
А.Т. Тарасенков, лечивший Гоголя в последний год его жизни, пишет ещё определённее: «Сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия».
Так как же относился писатель к прекрасному полу? Вот ещё одна загадка Гоголя. Но самые волшебные, самые проникновенные строки великого мастера слОва посвящены не кулинарии и не лучшей половине человечества, а своей родине. Его описания природы бесподобны, не сравнимы ни с какими другими: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!» - восклицает Гоголь, и невольно вспоминается пушкинское, лаконично-молитвенное «Тиха украинская ночь».

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит он сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит» («Страшная месть»).
В восторге перед красотами природы Гоголь порой даже несдержан, и срываются, как некоторые диссонирующие аккорды, авторские реплики: «Чёрт вас возьми, степи, как вы хороши!».
Природа одушевляется, вызывая самые причудливые ассоциации. Вот замечательное описание ночи в степи: «Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу» («Тарас Бульба»).
В этих красных платках есть что-то мистическое, потустороннее, попытка заглянуть в бездну, перейти черту. В поздних его произведениях родная природа молчит. Гоголь уезжает сначала в Петербург, потом в Москву, длительное время разъезжает по Европе, не пропуская ни одного модного курорта, влюбляется в Италию, называет её своей родиной, а в родное Васильевское заглядывает изредка и с неохотой, с единственной целью навестить обожавших его сестёр и мать. Описывать родной народный быт он предпочитал в Европе, о которой не написал ни строки. Всякий человек неоднозначен, но Николай Васильевич был загадкой даже для людей, знавших его близко.
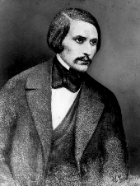
Современники расходятся в описании его внешности. Вот портрет Гоголя, данный И.С. Тургеневым: «Длинный, заострённый нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами; в их неопределённых очертаниях выражались - так, по крайней мере, мне показалось - тёмные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный чёрный галстук».

Один из друзей его юности А.С. Данилевский смотрит на своего земляка несколько по-иному: «Тонкие, тёмные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбались даже тогда, когда он говорил что-либо весёлое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим сидевшим по его сторонам осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты». Так кто же - лиса или аист? И губы - красивые или неприятные?
В описании характера Гоголя мнения расходятся ещё больше. Сын М.Щепкина даёт со слов отца не слишком привлекательный образ писателя: «Гоголь быстро окинул всех взглядом и, заметя новое лицо, нервно взял чашку с чаем и сел в дальний угол столовой и весь как будто съёжился. Лицо его приняло угрюмое и злое выражение, и во всё время чаепития просидел он молча, а за ужином объявил, что рано утром на другой день ему надо ехать в Москву по делам. Так и не состоялось чтение его новых произведений».
В противовес этой мрачной характеристике стоит привести воспоминания одного из одесских знакомых писателя: «Гоголь с большим аппетитом ел блины, похваливал, смешил других и сам смеялся, нисколько не стесняясь присутствием некоторых совершенно ему незнакомых господ, внимательно вслушиваясь в их рассказы, расспрашивал сам об особенностях местной жизни и меня с любопытством допрашивал о житье-бытье одесских лицеистов…»
В общем, сплошные противоречия: хмурый бирюк, ипохондрик - и весельчак, душа компании; человек необычайной щедрости, без счёта раздающий деньги бедным - и прагматик, дающий родной сестре советы по поводу более выгодного замужества. Он и сибарит, обожающий комфорт, и суровый аскет, изнуряющий себя постами…Однако никакая биография и свидетельства современников не дадут наблюдательному читателю столько сведений об авторе, сколько даёт чтение его текстов. В повести «Тарас Бульба» есть эпизод, на который литературоведы почему-то не обращают внимания. А между тем эпизод этот мог бы быть ключом к многим тайнам жизни писателя: «Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст».
Простая арифметика даёт интересный результат: Тарас весил 320 кг. Мог ли вообще человек такой комплекции передвигаться без посторонней помощи? Как он умудрился вскочить на коня и как бедный конь скакал несколько дней с такой тушей на спине? Предполагать, что Гоголь не знал, что такое пуд и вообще был слаб в арифметике трудно. По Фрейду, описка значит очень многое. Она выявляет скрытые, подсознательные мысли и чувства.
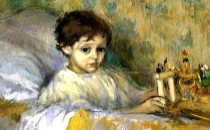
Гоголь рос слабым и хилым ребёнком. «Новорожденный Николай был необыкновенно слаб и худ. Долго опасались за его жизнь». - пишет Данилевский. Родители, люди нервные и мнительные, да к тому же потерявшие больше половины из своих 12-ти детей, относились к единственному сыну чересчур трепетно. Тепличное воспитание ослабляло и без того не слишком крепкий организм мальчика. Попав в непривычную и довольно суровую обстановку Нежинского лицея (закрытое учебное заведение для детей дворян), балованный и изнеженный мальчик сильно страдал: «Мне после каникул сделалось так грустно, что всякий божий день слезы рекой льются, и сам не знаю, отчего, а особливо, когда вспоминаю об вас, то градом так и льются…» - пишет он родителям. Среди воспитанников лицея преобладали дети из богатых аристократических семей, и бедный, плохо одетый и хилый мальчик чувствовал себя в их среде изгоем, гадким утёнком.
«Жизнь Гоголя в школе была, в сущности, адом. С одной стороны, он тяготился своим хуторным происхождением однодворца, с другой - физической неприглядностью». - вспоминает его соученик. Вероятно, уже тогда у нео начал развиваться комплекс неполноценности. От своих физических недостатков писатель страдал всю жизнь. Для их преодоления он избрал неожиданный путь - творчество. Наделяя своих героев необычайными достоинствами, Гоголь в мечтах становился таким же сильным и мужественным, как они. Отсюда и гипертрофия их физических качеств. Неслучайно и повышенное внимание к описанию трапез. «Он и сам был большой лакомка, и иногда один съедал целую банку варенья…», - вспоминает сестра писателя Е.В. Гоголь-Быкова. Да и в дальнейшем Николай Васильевич никогда не страдал отсутствием аппетита. По иронии природа наградила ео слабым желудком, ставшим причиной его постоянных страданий: «Желудок мой гадок до невозможной степени и отказывается решительно варить, хотя я ем теперь очень умеренно», - пишет Гоголь из Женевы приятелю. Болезням желудка способствовали его мнительность и повышенная нервозность, унаследованные от родителей и закреплённые плохим воспитанием.
«В Париже Гоголь уже нередко удручал Данилевского своею убийственною мнительностью: вдруг вообразит, что у него какая-нибудь тяжёлая болезнь, чаще всего он боялся за желудок, и носится со своим горем до того, что тяжело и грустно на него смотреть…», - пишет биограф писателя В.И. Шенрок. Невозможность питаться без опасения за здоровье приводила писателя к постоянной неудовлетворённости, к стрессу и ещё сильнее расшатывала его нервную систему. Эту неудовлетворённость он тоже пытался преодолеть с помощью творчества, описывая роскошные обеды, ужины и пирушки, на которых он будто сам присутствует.
Автобиографично звучит его жалоба в «Мёртвых душах»: «Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросёнка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чём не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой с сомовым плёсом, так что вчуже пронимает аппетит, - вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба! Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки; но то беда, что ни за какие деньги, нижЕ имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки».
Была и ещё одна драма в судьбе писателя: его отношения с прекрасным полом. Он и здесь был знатоком, «лакомкой», но на практике не слишком удачным. Как художник, эстет, он мог оценить красоту и достоинства любой женщины, но сексуальный потенциал его вследствие слабого здоровья был крайне низок, что и явилось причиной неудач на любовном фронте и в свою очередь вело к нервозности и ипохондрии. Отсюда и непонятное, на первый взгляд, двойственное отношение к своим героиням.

Почти все женские типы в «Ревизоре» и «Мёртвых душах» представляют собой карикатуры на женщин, гротеск, подчас довольно грубый, в котором слышится обида закомплексованного мужчины. Ну а женщин, достойных внимания и поклонения, Гоголь возводит на такую недосягаемую высоту, что они из живых, реальных людей превращаются в каких-то кукол, манекенов. Здесь обязательны снежной белизны кожа, чёрные бархатные брови, горящие рубином уста. Чувствуется и некая ревность художника к своим героиням, которые уж если не ему, то пусть и никому не достанутся. Пушкин тоже ревновал свою Татьяну. Выдав за другого и сделав верной женой, он обезопасил её от покушений Онегина, который был одновременно и двойником, и соперником поэта. Толстой тоже, вероятно, из ревности выдал Наташу Ростову замуж за «безопасного» чудака Пьера Безухова. А своего двойника-соперника, А. Болконского, попросту убрал из романа.
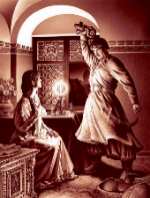
Изо всех героев «Тараса Бульбы» Андрий, пожалуй, ближе всех автору. Он слабее телом и духом, чем Остап и Тарас, у него сильнее эстетическое чувство, что роднит его с Гоголем. Красавица-полячка, в которую влюблён Андрий, - один из самых ярких женских образов писателя. В своих поэтических грёзах он, возможно, отождествлял себя с красавцем и богатырём Андрием, но так же, как и Толстой Болконского, он убивает своего двойника. В мечтах он мог себя представить в объятиях очаровательной красавицы, но жизнь распорядилась иначе.

Безответным осталось чувство 40-летнего Гоголя к молоденькой А.Вильегорской. Писатель был вхож в дом графа Вильегорского, композитора-дилетанта, друга Карамзина, Жуковского, Пушкина, состоял в переписке с его женой и дочерьми, однако когда Гоголь попытался просить руки младшей дочери Анны, то получил отказ. С возрастом писатель острее чувствует одиночество. Не стало Пушкина, перед которым он всю жизнь преклонялся, нет понимания с собратьями по перу. Враждебно встречены «Выбранные места из переписки с друзьями», произведения спорного, во многом реакционного. Гоголь с детства был крайне самолюбив, но самолюбие его было уязвлено непониманием близких и потому принимало болезненные, гипертрофированные формы. Вступив на лит. поприще и чувствуя в себе талант, он жаждал признания, втайне мечтая о славе Пушкина. Но такой славы, конечно, не было. Публика считала Гоголя лишь юмористом, высмеивающим людские пороки. Поэтический дар у него отрицали. «Мёртвые души», не случайно названные поэмой, не были поняты не только читателями, но и пишущей братией. Считалось, что в поэме писатель обличал помещичью Россию. А сам он простодушно признавался, что в «Мёртвых душах» изобразил себя, то есть посредством своих героев преодолевал собственные пороки.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 11 Июл 2023, 21:32 | Сообщение # 14 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | 
«Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной. Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, но зато, вместо того, во мне заключалось собрание всех всевозможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я ещё не встречал доселе ни в одном человеке. С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью…»
Критики, желавшие видеть во всём правду жизни, не поняли, что такие понятия, как обличение и разоблачение, Гоголю просто чужды. Даже Пушкин по прочтении первых глав «Мёртвых душ» воскликнул: «Боже, как грустна наша Россия!».
«Меня это изумило. Пушкин, который знал Россию, не заметил, что всё это карикатура и моя собственная выдумка!» - писал Гоголь.
Наступила осень жизни, а с ней и холод, от которого коченели пальцы, тело, душа. Холод непонимания друзьями, читателями, страной. Да и просто физический холод, который он с трудом переносил. Ведь и за границу Гоголь убегал от холода и неуюта, от грязных постоялых дворов с клопами и тараканами, от плохих дорог и дураков.
«Я же теперь совсем отвык от холодов: каково мне переносить?» - жалуется Гоголь в письме приятелю из Вены в 1939 г. Непереносимость холода - верный признак низкого энергетического потенциала организма. С возрастом силы таяли, их не хватало не только на житейские радости, но и на творчество, а это уже трагедия.
«Думал я, что всегда буду трудиться, а пришли недуги, отказалась голова», - пишет Гоголь матери в сентябре 1851 г.
Мрачные мысли всё чаще преследуют писателя, развивается ипохондрия, нервозность.
«Постоянно тревожное его настроение, по словам его матери, в последний его заезд сюда заставляло его нередко менять свои рабочие комнаты. Так же точно он не мог несколько ночей сряду и спать в одной и той же комнате» (Г.П. Данилевский).
Не помогло даже испытанное средство от хандры - путешествия.
«Нервы мои от всяких тревог и колебаний дошли до такой раздражительности, что дорога, которая всегда для меня полезна, теперь стала даже вредоносна», - писал Гоголь матери.

В это время от стареющего, больного Гоголя отвернулись друзья, праведный гнев по поводу издания «Выбранных мест из переписки с друзьями» обрушили на него Белинский и Герцен, Тургенев и Аксаков. Рядом с НИМ появился человек, к литературе никакого отношения не имеющий, но оказавший на писателя колоссальное влияние. Это был священник отец М.Константиновский.

«Отец Матвей не мог привлекать или поражать своих слушателей какой-либо чертой внешней красоты; он был невысок ростом, немножко сутуловат. Правда, во время проповеди, всегда прочувствованной и весьма часто восторженной лицо его озарялось и светлело…» (Т.И. Филиппов. Воспоминания о графе А.П. Толстом).
Слабый и больной Гоголь, человек вообще религиозный, да к тому же очень боявшийся смерти, легко попал под влияние отца Матвея, обратившего на него свой религиозный пыл.
«Такие и подобные речи, соединённые с обличением в неправильной жизни, не могли не действовать на Гоголя, вполне преданного религии, восприимчивого, впечатлительного и настроенного уже на мысль о смерти, о вечности, о греховности» (А.Т. Тарасенков).
Фанатизм отца Матвея простирался до того, что он требовал от Гоголя отречения от Пушкина.
«Отрекись от Пушкина. Он был грешник и язычник…» - потребовал отец Матвей. Но самое трагичное было в том, что он требовал от истощённого, больного Гоголя строжайшего соблюдения постов.
«Ослабление тела не может нас удерживать от пощения», - говорил отец Матвей. Впавший в религиозный экстаз писатель стал изнурять себя голодом.
«Переменять свойство и количество пищи Николай Васильевич не мог без вреда для своего здоровья; по собственному его уверению, при постной пище он чувствовал себя слабым и нездоровым» (А.Т. Тарасенков).
Не исключено, что из-за общего упадка сил у неГо могло развиться кислородное голодание мозга, следствием чего и стало психическое расстройство писателя. Наставления отца Матвея роковым образом совпали с методами вполне материалистичных медиков, лечивших писателя в последние дни его жизни. Тот же доктор Тарасенков пишет, как знаменитые московские врачи Овер, Эвениус, Клименков и Соколовский лечили Гоголя с помощью кровопускания, пиявок, слабительного, обкладывания льдом. Эти меры ослабляли и без того истощённый организм. Подтверждает это и мнение другого медика: «Печально сознаться в этом, но одною из причин кончины Гоголя приходится считать неумелые и нерациональные медицинские мероприятия. Он был субъектом с прирожденною невропатическою конституцией. Его жалобы на здоровье в первую половину жизни сводятся к жалобам неврастеника. В течение последних 15-20 лет жизни он страдал тою формою душевной болезни, которая в нашей науке носит название периодического психоза, в форме так называемой периодической меланхолии. По всей вероятности, его общее питание и силы были надорваны перенесённой им в Италии малярией. Он скончался в течение приступа периодической меланхолии от истощения и острого малокровия мозга, обусловленного как самою формою болезни, сопровождавшим её голоданием и связанным с нею быстрым упадком сил, так и неправильным, ослабляющим лечением, в особенности кровопусканием. Следовало делать как раз обратное тому, что с ним делали, то есть прибегнуть к усиленному, даже насильственному кормлению и вместо кровопускания, может быть, наоборот, к вливанию в подкожную клетчатку соляного раствора» (доктор Н.Н. Баженов. Болезнь и смерть Гоголя. М., 1902).
Писатель стал жертвой как религиозного фанатизма, так и невежественных действий медиков, не считавшихся с индивидуальными особенностями организма и с духовной организацией пациента. Противоположности совпали. Парадокс, подобный тем, каких много в судьбе Гоголя.
Сергей Малинин
ноябрь, 1999. журнал "Буль здоров"
https://vk.com/@martpnz-tainy-gogolya-2
ГОГОЛЬ И ОТЕЦ МАТВЕЙ КОНСТАНТИНОВСКИЙ
В Оптиной пустыни я слышал такой рассказ о первой встрече в одном московском доме Гоголя с пресловутым ржевским протоиереем. Гоголя представляют о. Матвею, тот строго и вопросительно оглядывает его:
- Вы какого будете вероисповедания?
Гоголь недоумевает:
- Разумеется, православного!
- А вы не лютеранин?
- Нет, не лютеранин...
- И не католик?
Гоголь окончательно был озадачен:
- Да нет же, я православный... Я - Гоголь!..
- А по-моему выходит - вы просто... свинья! Какой же, сударь, вы православный, когда не ищете благодати Божьей и не подходите под пастырское благословенье?.. - бесцеремонно отрезал о. Матвей.
Николай Васильевич смутился, растерялся и затем во все время беседы о. Матвея с другими гостями сосредоточенно молчал. Очевидно было, резкое слово ржевского протоиерея произвело на него неотразимое впечатление. Да и не на него одного только. Профессор Московского университета Шевырев, присутствовавший при этой сцене, по уходе о. Матвея громко воскликнул:
- Вот так гремели в древности златоусты!..
В этом кратком, но характерном рассказе, счастливо уцелевшем в преданиях оптинских иноков, сразу, так сказать, вылился весь о. Матвей с его властным тоном и вместе с тем сразу фатально определились взаимные отношения между гениальным, но хворым и безвольным писателем и ограниченным, но обладавшим несокрушимо твердой волей ржевским пастырем. Если даже принять помянутое бесцеремонное слово о. Матвея как своего рода тяжеловесную остроту (гоголь - название также известной породы уток), дело от этого нисколько не меняется... "Я - Гоголь!", то есть я известный писатель, подчеркивает втайне оскорбленный Гоголь, а о. Матвей и своим словом, и своим тоном подчеркивает, что это ему совершенно безразлично, и выдвигает на первый план авторитетно подавляющую власть своего священнического сана. Возникает таким образом как бы несогласное принципиальное единоборство писательского подвижничества, с одной стороны, и иерейской строптивости, с другой. Увы, у одра больного нищенствующего писателя взяла верх власть духовно-инквизиторская, то есть превозмогли о. Матвей и граф А.П. Толстой (бывший обер-прокурор Святейшего синода), в доме коего,скончался Гоголь.

Что же такое был о. Матвей - этот несомненно ограниченный, но несомненно сильный человек, имевший такое огромное влияние на свою ржевскую паству, столь высоко чествуемый в богомольных домах Москвы и Петербурга и сыгравший такую губительную роль в судьбе автора "Ревизора" и "Мертвых душ"?.. Прежде всего это был человек, который стоял не на своем месте, иначе говоря, настоящее его место было отнюдь не на амвоне гор. храма, а в строгом монастырском скиту, куда, как очевидно из его биографии, он неудержимо стремился с самых юных лет. На эту черту юности о. Матвея не обращено почему-то достаточного внимания, а между тем именно она дала совсем особую окраску всей его последующей деятельности.
В бытность свою в тверской семинарии о. Матвей, как свидетельствует его биограф Н.Грешищев, избрал в роще Желтикова монастыря на берегу реки Тьмаки глухое место, куда часто уединялся для молитвы и для оплакивания своих грехов. Но как раз умирает его отец, мать остается в бедности с двумя малолетками на руках, и скрепя сердце о. Матвей вынужден распроститься с заветной мечтой о спасении в монастырском скиту и превратиться в сельского дьякона. Казалось бы, в суете труженической крестьянской жизни зачатки аскетизма и фанатизма, питавшие его юность, должны были заглохнуть. Ничуть не бывало: в борьбе с препятствиями они лишь переплавились в другую форму и как бы закалились в своей затаенной непримиримости. Здесь именно следует искать причину его столь стремительного и тягостного давления не на одного только Гоголя...
Если вы внимательно проследите помянутую биографию, составленную Грешищевым и представляющую сплошной панегирик о. Матвея, вы увидите, как эта неукротимая фанатически-аскетическая струя просачивается почти всюду в жизни и деятельности означенного пастыря. Признаюсь, я не мог читать без горькой улыбки умилительных восхвалений биографа проповеднической деятельности о. Матвея в селе Эське. По свидетельству биографа, за 3 года пастырства о. Матвея шумное и веселое село нельзя было узнать: мирские песни и игры в селе почти прекратились и в большинстве домов их заменили духовные каноны и душеспасительные беседы; даже малые дети в своих детских сборищах стали распевать исключительно тропари и кондаки. Для чего же, спрашивается, существует после этого в мире Божьем радостное дыхание весны, любовь, звонкий детский смех и раздольная русская песня?!..
Но надо отдать справедливость последовательности о. Матвея - насколько требователен он был к своей пастве, настолько же требователен к своей семье и неумолимо строг по отношению к самому себе. Последние 10 лет он был штатным протоиереем ржевского Успенского собора и за все это время не только не пропустил ни одной церковной службы, но также требовал аккуратного присутствия на богослужении от своих домашних (при этом никаких опущений или сокращений в службе не допускал и малейшую поспешность в чтении строго изгонял), равно никому из семейства не позволялось до обедни пить и есть, нарядно одеваться и вообще обычным мирским способом развлекаться. В долгие осенние и зимние вечера, когда вся семья его сидела за работой, он читал вслух Библию или Четьи-Минеи, и все должны были смиренно слушать или петь совместно священные псалмы. Сам он, живя в бойком торговом городе, жил в миру, как в скиту: мяса не вкушал, вина и никаких напитков никогда не пил, лишние деньги раздавал бедным и с 3-х часов пополуночи был уже на молитве. Вера его действительно была несокрушима, а самообладание духа в тяжкие минуты жизни подчас прямо удивительно. Однажды осенью, когда о. Матвей с семьей и прислугой находился в соборном храме у всенощной, загорелся его дом. Явившись на место пожарища, он озабочен был одним, чтобы были спасены иконы, а затем, когда от его дома со всем имуществом и ценной библиотекой осталась груда пепла и кирпичей, громко восславил Бога и как ни в чем не бывало отправился с семьей в первый попавшийся купеческий дом, где ему предложили ночлег.
Почтенный оптинский инок (о. Э. В-й), которого мне посчастливилось обрести в пустыни и который в юности своей был письмоводителем у о. Матвея по раскольничьим делам, поведал мне немало любопытного об этой оригинальной личности. 2-3 рассказа из уст современника о. Матвея дорисовали мне фигуру последнего лишним ярким штрихом... Несокрушимость его веры являла иногда примеры поистине невероятные. Как-то летом отправился он по делам в Торжок и дорогой жестоко заболел, чуть ли не холерой. В это время в городе происходил ремонт соборного храма и неожиданно была открыта под алтарем могила прп. Иулиании. Богомольные люди поспешно бросились к заветному месту и повычерпали как целительное средство всю воду, наполнявшую могилу. Когда, невзирая на свою болезнь, на место прибыл о. Матвей, на дне могилы оставались лишь комья липкой и вонючей грязи. Недолго думая, о. Матвей опустился на самое дно, собрал благоговейно эти остатки, съел их... и совершенно выздоровел. И такой случай религиозного экстаза в жизни о. Матвея не единственный! Когда по одному доносу (о том, будто он смущал народ своими проповедями) его вызвали к тверскому архиерею, и тот стал кричать на него, грозя упрятать его в острог, о. Матвей отрицательно закачал головой:
- Не верю, ваше преосвященство!
- Как ты смеешь так отвечать? - загремел владыка.
- Да, не верю, ваше преосвященство, потому что это слишком большое счастие... пострадать за Христа! Я не достоин такой высокой чести!
Эти слова так озадачили владыку, что он с тех пор оставил о. Матвея в покое.
Впрочем, вскоре о. Матвею действительно пришлось пострадать, и притом далеко не на шутку. Как известно, добрую половину жизни о. Матвей провел в борьбе с ржевскими раскольниками, и вот однажды в раскольничьем скиту он обрел неведомо чью мертвую голову, по некоторым слухам, принадлежащую прп. Савве. Этого было вполне достаточно, чтобы религиозный экстаз неудержимо охватил протоиерея Константиновского. Без всяких дальнейших осведомлении, без спроса архиерея и подлежащего начальства он взял эту голову и с крестным ходом, с хоругвями и иконами при пении и колокольном звоне торжественно перенес в ржевский собор для поклонения. Эта самовольная канонизация не прошла ему даром, и дело дошло до Святейшего синода и московского митрополита Филарета. Ввиду полной загадочности головы она отправлена была на хранение в Тверской кафедральный собор, а на голову о. Матвея обрушились все невзгоды судебной волокиты, особенно тягостно отразившейся на жене о. Матвея, которая от сильной скорби впала в чахотку и быстро угасла.
В числе добрых заступников о. Матвея, впутанных в это дело, находился также ныне покойный Т.И. Филиппов, который ездил даже по этому поводу к московскому святителю. Из его письма, обретенного мною в Оптиной пустыни (у вышеупомянутого почтенного инока), явствует, что вся эта история сановному заступнику была не особенно по душе... Позволю себе выписать, с разрешения владельца письма, заключительные его строки, особенно ценные как беспристрастная характеристика о. Матвея лицом, близко его знавшим: "Дело о ржевской голове очень затруднительно. Показания о. Матвея в этом деле для меня не имеют цены; как вам известно, он ни на минуту не выступал из области чудесного и явлениям самым обыкновенным любил придавать чрезвычайный смысл. Я испытал сам на своей душе вредное влияние этой черты его ума; суеверие, в которое он впадал, прилипло и к моему уму, и мне нужны были усилия, чтобы освободить свою душу от этого порабощения. И тут было не без опасностей, ибо всякий переворот, как в государстве, так и в человеческой душе, совершается всегда с сильным брожением, всегда близким к беде. Вот почему я не могу принять никакого участия в возбуждении дела, которое ныне забыто и которое нуждается в новых явлениях, чтобы привлечь к себе внимание церковной власти... Ваш Т.Филиппов ".
Из этого небольшого отрывка можно понять, что даже такой здоровый организм, как Т.И. Филиппов, подвергся одно время опасности гипноза со стороны о. Матвея; что же должно было испытывать после этого хилое существо Гоголя, изможденное вдобавок душевными и материальными терзаниями, при одном появлении на пороге этого ржевского Савонаролы!.. А между тем, по свидетельству того же Филиппова, наружность этого ржевского Савонаролы не представляла ровно ничего внушительного. Не будь рясы и наперсного креста, его легко можно было бы смешать с любым мужиком из того самого села Эськи, в котором он некогда жил и проповедовал: приземистый, сутуловатый, с серыми тусклыми глазами, с жидкими волосами и широким плоским носом, он производил с первого взгляда самое ничтожное впечатление. Но что значит сила воли, смелость речи и - известная доля бесцеремонности! Особенно это много значит и всегда значило в нашем шатком, беспринципном и малокультурном обществе, падком, как муха на мед, на всякое самовластное слово, всякую невиданную диковину...
Теперь добавьте ко всему вышесказанному об о. Матвее, что этот человек обладал несомненным даром красноречия - красноречия мужицки-грубоватого, но властного и образного, и для вас станут, полагаю, достаточно ясными и своеобразность его фигуры, и значительность его влияния. Филиппов особенно пленяется народным складом речей ржевского проповедника и в своих воспоминаниях добавляет, что о. Матвей вообще любил говорить и готов был говорить без конца, лишь бы его слушали. У нас нет образца проповеднического красноречия, столь восхищавшего Т.И. Что же касается до писем о. Матвея, опубликованных в 60-х годах в "Домашней беседе", то, на наш откровенный взгляд, в своей сущности дальше общих фраз они не идут, но резкий, почти отрывистый слог писем, их общий простонародно-фамильярный тон и аскетически-нетерпимое направление придают им оригинальную окраску и делают их драгоценными документами для характеристики о. Матвея...
В письме какому-то бойкому ржевскому торговцу о. Матвей пишет: "Ради Бога, не прилепляйся к земному, брат!" - и эта фраза служит как бы камертоном ко всем его письмам. Например, некто Ф. С-ч, человек, очевидно, крепкого организма, вознамерился жениться в третий раз и спрашивает совета о. Матвея. Разумеется, совет о. Матвея: "Не прилепляйся к земному". "Ты пишешь, что тебе без жены жить трудно, - а кому же легко было достигать царствия небесного? Кто без труда и без нужды получил оное? Смотри, брат, здесь мы гости: домой собирайся. Не променяй Бога на дьявола, а мир сей на царство небесное. Миг один здесь повеселишься, а вовеки будешь плакать".
И в следующем письме следует рецепт, как умерщвлять "гады страстные": "Поменьше да пореже ешь, не лакомься, чай-то оставь, а кушай холодненькую водицу, да и то, когда захочется, с хлебцем; меньше спи, меньше говори, а больше трудись, да меньше гордись... Ходи почаще на кладбище к женам и спрашивай у праха их: что, пользовали ли их удовольствия телесные?.."
Жалуется ему какой-то сельский дьячок на свое плохое житье-бытье с видимым простодушным расчетом на материальную поддержку или протекцию для получения сана дьякона. Со стороны о. Матвея ответ один и тот же: "Молись в свое время, вина не пей совсем, никого не осуждай и положи себе за правило: или прочесть 500 раз в день Иисусову молитву, или Спасителю акафист, или главу из Евангелия и Апостола, то увидишь помощь Божью. Не грусти, живи, за все Бога благодари. Прощай, брат, спасайся!".
Гонит купец-самодур из дому своего сына - тот с слезным прошением к о. Матвею о заступе, а тот в ответ на это: "Не отец гонит, а Бог вызывает, чтобы вы не были участниками с неправдой собранного стяжания. Смотри же с радостью, как Авраам, прими этот глас и пикнуть не смей! Боже тебя сохрани! Если будешь слушать совета мудрого сатаны, он никогда на добро не научит...". Или вот еще крайне характерный образчик стиля о. Матвея -письмо к неизвестному "бестолковому Матвею": "Брат о Христе, Матфей, бестолковый, как и я! Жаль мне тебя. Тебе трудно, а дело-то идет ладно. Ты не вышел от отца-то, ну, так и быть. Бог поправит; не скучай, брат. Ты стоишь на правом пути, он тесен, да верен. Ступай, не ошибешься: царствие Божие нудится. Явится Христос, и будет тихо и ясно и все прекрасно".
Письма о. Матвея к Гоголю, по-видимому, безнадежно затеряны, но уже по вышеприведенным образчикам можно приблизительно судить, с каким наивно-дидактическим багажом подошел этот самонадеянный оратор к гениальному писателю в самый острый момент его душевно-писательского перелома. С другой стороны, письма самого Гоголя неизбежно бросают свой отражательный свет на вероятную сущность этих жестких ржевских откликов. Мы уже знаем об эффекте первой встречи Гоголя с о. Матвеем. Достоверность ее подтверждает устное свидетельство Филиппова моему доброму знакомому оптинскому иноку, но из дальнейших событий можно думать, что все же это была лишь мимолетная случайная встреча в толпе гостей и настоящее сближение и вместе с тем недоразумение между Гоголем и о. Матвеем началось собственно с посылки первым в Ржев экземпляра "Переписки с друзьями"...
И в самом деле, разве это не жесточайшее недоразумение? Книга наихристианнейшая по существу своему, строгая мораль коей под стать иным страницам "Добротолюбия" и "Цветника Духовного", возбуждает беспощадное порицание ржевского проповедника как вреднейшее и соблазнительнейшее сочинение, за которое автор понесет должную кару на Страшном Суде!..
Этот ответ произвел на Гоголя донельзя удручающее впечатление. После целого ряда оскорбительных и негодующих упреков, посыпавшихся на Гоголя после выпуска в ответ "Переписки", он недаром вспомнил об о. Матвее, рассчитывая, очевидно, услышать от духовного пастыря слово любви и утешения, которое умиротворило бы его испуганную душу. И что же? Духовный пастырь оказывается в своем суждении еще неумолимее его мирских судей!.. Было от чего прийти в отчаяние. Однако в начальных 2-3 обширных посланиях к о. Матвею Гоголь еще делает последние попытки защитить себя и свое писательское призвание: "Не могу скрыть от Вас, что меня очень испугали слова Ваши, что книга моя должна произвести вредное действие, и я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом; но мысль, что безгранично милосердие Божие, меня поддержала. Желание и жажда добра, а не гордость подтолкнули меня издать мою книгу. Статью о театре я писал не с тем, чтобы приохотить общество к театру, а с тем, чтобы отвадить его от развратной стороны театра, от всякого рода балетных плясовиц и множества самых страстных пьес, которые в последнее время стали кучами переводить с французского" (из письма из Неаполя 9 мая 1847 г).
"Если писателю дан талант, то верно недаром и не за то, чтобы обратить его в злое. Если в живописце есть склонность к живописи, то верно Бог, а не кто иной, виновен в этой склонности. Примеры сильнее рассуждения; нужно только для этого писателю уметь прежде самому сделаться добрым и угодить жизнью своей сколько-нибудь Богу" (Остенде, 24 сентября 1847 г.). И далее опять из Неаполя (12 января 1848 г.): "Книга моя есть произведение моего переходного душевного состояния, временного, едва освободившегося от болезненного состояния. Дело в том, что книга это не мой род. Но то, что меня издавна и продолжительно занимало, это было - изобразить в большом сочинении добро и зло, какое есть в нашей русской земле, после которого русские читатели узнали бы лучше свою землю, потому что у нас многие, даже и чиновники, и должностные, попадают в большие ошибки по случаю незнания коренных свойств русского человека и народного духа нашей земли. Я имел свойства всегда замечать все особенности, свойства человека от малых и до больших и потом изобразить его так перед глазами, что, по уверению моих читателей, человек, мною изображенный, оставался, как гвоздь в голове, и образ его так казался жив, что от него трудно было отделаться. Я думал, что если я с моим умением изображать живо характеры узнаю получше многие вещи в России и то, что делается внутри ее, то я введу читателя в большее познание русского человека".
В отмеченных строках как бы робко вспыхивает сознание своей правоты и своего писательского достоинства, но таких строк немного. Рядом с ними уже звучит покаянная нота, вызванная властной укоризной ржевского корреспондента. В дальнейших посланиях к о. Матвею нота эта окончательно преобладает, и некоторые из них, как, например, письмо из Одессы от 21 апреля 1848 г. и из Москвы от 9 ноября 1851 г. - сплошные покаянные каноны. То он сокрушается, что краткие молитвенные минуты его "расхищаются" и незваные и непрошеные гости - творческие образы - уносят его в помышлении Бог весть в какое место, то кается в греховной тьме своего сердца, лукаво смущаемого "духом-искусителем", и терзается втайне, что накануне отправления к Гробу Господню вместо того, чтобы думать о спасении собственной души, неотступно думает лишь об одном... "о спасении Русской земли"!.. И Гоголь мучительно попрекает себя, как в величайшем преступлении, в самомнении и неумении "пожертвовать земным небесному", то есть именно в том, в чем его неутомимо укорял его ржевский опекун.
О. Матвей во всех случаях оставался верен себе: сельскому дьячку, зажиревшему аристократу, ржевскому лавочнику и автору "Ревизора" и "Мертвых душ" отпускал один и тот же знакомый рецепт: "Не прилепляйся к земному, брат!..". Это не мешало ему одновременно хлопотать о пристройстве через Гоголя своей дочери в Шереметевский приют и пользоваться другими земными услугами больного и удрученного сложной творческой работой писателя, вроде высылки учебников его сыну, некоторых личных поручений по книжной части и проч.
Тут уже выходит не только горькое недоразумение, но прямо какая-то беспощадная ирония жизни! Художнику, весь смысл существования которого заключается в его великом труде, вдруг властно внушают, что этот самый труд чуть ли не наваждение сатаны и, в самом благополучном случае, плод человеческого самомнения. А разве, спрашивается, это не величайшее самомнение человеческое со стороны полуневежественного недавнего сельского попа - вторгаться в чуждую и совершенно неведомую ему область худ. творчества и варварски хозяйничать в ней, точно в накрытом раскольничьем скиту?.. "Надо пожертвовать земным небесному", "Надо делать Божье дело", "Надо исполнять волю Пославшего", "Надо каждому нести свой крест" - вот обычные фразы, мелькающие в обличениях о. Матвея. Разумеется, многое пустяки в сравнении с вечностью, но именно далеко не пустяки всякое истинно худ. произведение как неизбежно заключающее в себе залог небесного и вечного. И когда великий художник, пренебрегши обычными благами жизни, полагает всю свою душу на годами выстраданное произведение, разве тем самым он не жертвует "земным небесному", не делает "Божье дело", "исполняя волю Пославшего". И уж, конечно, кого другого, а не Гоголя пристало учить, что "надо нести свой крест": он ли еще, спрашивается, не нес тягостнейший из писательских крестов и не заплатил безвременной кончиной за свое худ. подвижничество?!.
Нельзя не подчеркнуть здесь еще одной жестокой иронии. Судя по словам А.О. Смирновой, во 2-й части "Мертвых душ" должны были фигурировать в числе положительных типов идеальный губернатор и священник. Что до второго типа, то, надо думать, что встреча с о. Матвеем не осталась бы без следа для 2-й части "Мертвых душ", если бы ей суждено было завершиться по намеченному плану. Но этому не было суждено. Увлекшись, несомненно, "как художник" оригинальной личностью о. Матвея, Гоголь в то время незаметно подчинился ей как больной, безвольный человек. В худ обыкновенно бывает так: художник, перенося на полотно или в роман волнующий его образ, тем самым отделывается внутренно от живого типа, натолкнувшего его на создание. Тут же вышло совсем обратное - живой тип был не таковский, чтобы от него легко отделаться... и, в свою очередь, поглотил художника!.. И что, между прочим, всего страннее в этой скорбной истории: чем сильнее ржевский проповедник бичует Гоголя (то есть чем глубже его поглощает), тем крепче тот к нему привязывается, тем душевно нежнее, трогательно признательнее становится оттенок гоголевских писем и записок к о. Матвею. А в последней, февральской записке своей к о. Матвею автор "Мертвых душ" как бы намеренно стирает малейший намек на свое лит. имя и смиренно подписывается: "Обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за гробом, весь ваш Николай...". Общее впечатление этой предсмертной записки - голос человека, окончательно отрешившегося от мира и втайне восприявшего схиму.
Что послания о. Матвея в результате имели разрушительное действие на Гоголя - едва ли здесь приходится повторять, но это было ничто в сравнении с живым словом. Испытанный оратор тем более увлекался, чем очевиднее было впечатление на слушателя, и становился тем беспощаднее в своем обличении, чем беспомощнее оказывалась жертва. Впрочем, как явствует из брошюры доктора Тарасенкова о последних днях Гоголя, мотив обличения неизменно был тот же, то есть "не прилепляйся к земному, брат": "Слабость тела не может нас удерживать от пощения; какая у нас работа? Для чего нам нужны силы? Много званых, но мало избранных... Путь в царствие Божие тесен! Мы отдадим отчет за всякое слово праздное!!!" и т.п. По словам того же Тарасенкова, однажды, когда о. Матвей зашел, видимо, чересчур далеко в своем обличительном пафосе, Гоголь не выдержал и простонал: "Довольно, довольно!., оставьте! Не могу далее слушать... Слишком страшно!!!".
Несчастный Гоголь!..
Трудно, право, представить сцену более разительного контраста... Гоголь - великий Гоголь, беспощадный сатирик, гениальный провидец сердца человеческого - бледный, потрясенный, почти скованный от ужаса в своем кресле и перед кем же? Перед невзрачным и полуневежественным исступленным попом, пугающим его больное воображение лубочным свитком загробных мытарств. Разве только одна кисть Репина была бы в состоянии обессмертить на полотне эту захватывающую, тонко психологическую и глубоко национальную трагедию!.. Окончание ее известно. Непосредственно вслед за отъездом о. Матвея с Гоголем началась та "духовная агония", которая повлекла за собой стремительное физическое разрушение и затем - смерть.
Было бы, однако, односторонним преувеличением приписывать личности о. Матвея исключительное влияние на безвременную кончину Гоголя. Он явился лишь 5- м актом сложной трагедии, пережитой писателем, роковая развязка которой подготовлялась исподволь, с того самого момента, когда получилось известие о смерти Пушкина. Кто знает, проживи долее Пушкин... и все было бы иначе? Как некогда поэт Петрарка спас своего друга Боккаччо своей здравой речью от аскетических филиппик картезианского монаха Чиани, увещевавшего автора "Декамерона" бросить сатанинское дело литературы, точно так же, быть может, 2-3 гениальные беседы Пушкина с глазу на глаз с Гоголем своевременно оберегли бы последнего на опасном распутье. По счастью, число односторонних фанатиков вроде о. Чиани и о. Матвея значительно поредело за последнее время, области худ. творчества и монастырского устава более не смешиваются, и существование на свете иноческого чина, по-видимому, нимало не препятствует прохождению и почитанию чина писательского. По крайней мере, большинство немудрых пастырских речей, произнесенных в недавние дни Пушкинского торжества, сводились в своей сущности к тому, "что Пушкин был несомненно избранник Божий, так как Бог его наделил талантом, какой отпускается не всякому человеку".
Этой ясной, как Божий день, мысли было не вместить полвека назад ржевскому пастырю, громко скорбевшему, подобно гордому отшельнику Ермию в известном рассказе Н. Лескова "Скоморох Памфалон", что нет на земле достойного человека, носящего в себе "зерно бессмертия".
Щеглов ИЛ. Подвижник слова. СПб., 1909.
Леонтьев, Иван Леонтьевич (псевдоним Щеглов; 1856-1911) - российский писатель и драматург.
http://dugward.ru/library/gogol/cheglov_matvey.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 17 Фев 2024, 21:48 | Сообщение # 15 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | ГОГОЛЬ И СМИРНОВА-РОССЕТ: «НЕ РОМАН» НА ВСЮ ЖИЗНЬ
У Гоголя был земной ангел-хранитель (небесный - само собой). Во многом благодаря ему, точнее - ей, увидел свет 1-й том «Мертвых душ». В самых тяжелых жизненных ситуациях эта женщина помогала писателю не только деньгами, но и протекцией, используя свое положение в обществе и связи. Три письма к ней стали главами «Выбранных мест из переписки с друзьями». Наконец, она была одной из тех немногих, кто читал фрагменты утраченного, сожженного 2-го тома «Мертвых душ». Эта уникальная женщина - А.О. Смирнова-Россет. Красавица, умница и чрезвычайно сложный и противоречивый человек.

У исследователей, обращающихся к истории их отношений, велик соблазн создать идеальную картину союза «святого писателя» и его «духовной дочери». Что же это были за отношения? Зачем Господь свёл двух столь разных людей, которые на протяжении десятков лет не могли обойтись друг без друга?...Познакомились они почти случайно. Приехавший из провинции Гоголь оказался в Петербурге без денег и вынужден был подрабатывать дом. учителем у младшей дочери генерал-лейтенанта Балабина. Там его впервые встретила фрейлина императрицы А.Россет. Она обратила внимание на его малороссийский выговор и, поскольку сама была родом из Малороссии, немедленно потребовала у друзей познакомить их поближе. Чему Гоголь, к удивлению окружающих, сопротивлялся до последнего: его пугала молва о ее о прямом и даже агрессивном, мужском характере.Но в конце концов их встреча состоялось и… они подружились. Благодаря Пушкину Александра начала вести дневник - поэт подарил ей тетрадь. В этом дневнике сохранились ценнейшие воспоминания о ее современниках и особенно о Гоголе.

Для Александры Осиповны был очень ценен такой круг общения, включавший самых интересных, самых талантливых и умных людей света - поэтов, писателей, музыкантов. В то же время ее способы подачи себя поражали современников, а Гоголя, имевшего патриархально-христианский взгляд на жизненный идеал, и вовсе пугали. Николай Васильевич, несмотря на довольно необычные для своего времени ранние лит. произведения с мистикой и фольклорной готической экзотикой, оставался в хорошем смысле слова провинциалом. Новый дух времени он в какой-то степени отвергал, шел против течения. Была ли у него любовная связь с эпатирующей свет красавицей? Нет. Однажды она смутила его кокетливыми словами: «Послушайте, вы влюблены в меня!»
Гоголь вспыхнул, вскочил и бросился прочь. А она хохотала ему вслед. После этого он 3 дня к ней не ходил. В свете никак не могли понять, что их связывает. Им приписывали банальный роман, но Александра говорила, что, в то время как ум ее доступен всем, душа ее доступна и открыта одному Гоголю. А что до романов, у Александры их и без Гоголя было множество. А ведь был еще и законный муж! При этом она считала мужа ниже себя по развитию и писала Гоголю, что между ними нет никакой энергетической связи, которую называют любовью, уверяла, что и думают, и чувствуют они с супругом совершенно по-разному. Посвященный во все сокровенные тайны Александры Осиповны, Гоголь саму ее не судил, но грех измены осуждал открыто. И убеждал свою конфидентку по достоинству оценить свой брак - от этого будет лучше и ей, и всем вокруг:

«Вы, между прочим, одного человека позабыли, на которого прежде всего вам следует обратить внимание. Вы позабыли Николая Михайловича. В нем много истинно доброго, а все недостатки его... но кто же другой может их так знать, как вы, вам знаком всякий угол души его, кто же может оказать истинно братскую помощь ему, как не вы? Будьте только терпеливы. Бог вам и здесь поможет. Избегайте этой ретивой прыти, которая бывает часто у женщин, которые хотели бы вдруг, прямо из солдатов произвести в генералы, позабыв, что есть и офицерские, и капитанские, и майорские чины и что иногда весьма туго идет производство».
Увы, упреки и советы Гоголя хоть и занимали Александру Осиповну, но следовать им в семейных делах она не торопилась.
Известно, что Гоголь хотел постричься в монашество и даже советовался об этом с духовными лицами, в частности, со старцами в Оптиной пустыни. Но те не видели знаменитого писателя монахом. Во-первых, они не меньше других читателей ценили Гоголя как одного из величайших русских литераторов. Но еще больше они ценили его взгляды, ведь он был настоящим христианином, церковным человеком и открыто это исповедовал, что для той эпохи было явлением нечастым. В 1-й половине XIX в. начала активно распространяться мода на нигилизм, и люди верующие нередко стеснялись своей религиозности. Гоголь же оставался христианином и в творчестве.
Вторая причина - физическое состояние писателя. Старцы понимали, что Николаю Васильевичу монашество не по силам из-за проблем со здоровьем, заставлявших его подолгу жить за границей: если он не выдерживал даже испытания климатом, каково бы ему было в аскетических условиях монастыря... Понести все трудности монашеской жизни ему могло просто не хватить физических сил. Конечно, Николая Васильевича огорчил отказ в благословении выбранного им духовного пути. Впрочем, он и так был во многом монахом в миру. Именно христианский образ жизни Гоголя, наряду с его творчеством, стал центром их общения со Смирновой-Россет. Она смогла оценить и то, и другое: почитала и ценила его как писателя, всегда сражалась за него и при этом восхищалась его верой. И ему легко было говорить с ней о вере.
«Гоголь - человек очень благочестивый, он всегда занят движением своей духовной жизни. Он очень мало учился в молодости, теперь он изучает греческий,чтобы иметь возможность читать Евангелие по-гречески. Он себе задает уроки после молитвы, ходит по комнате и учит наизусть греческие слова» - писала она.
Именно их богатая переписка показывает, что за человек был Гоголь, к чему он стремился, какие исповедовал идеалы. А они были очень близки к монашеским - нестяжание, милостыня, благотворительность. Александра Осиповна считала, что их переписка помогла ей начать движение в ту сторону, куда и прежде звало ее религиозное чувство. В отличие от многих великосветских дам, Смирнова-Россет действительно отличалась глубокой религиозностью. Правда, в искренность ее мало кто верил, однако ее переписка с Гоголем доказывает, что скептики ошибались: «Любезный бесценный друг мой, Николай Васильевич! Душа моя хотела бы перелететь к вам и быть с вами неразлучно. Пострадать около вашей. Чувствую, что мы не можем поссориться никогда. Вы не с лицевой стороны меня видели и полюбили. И никогда и ничто не может отдалить нас друг от друга».
В ответ Гоголь писал: «Простите меня, прекрасный друг мой Александра Осиповна, за то, что давно не писал к вам. Я не так часто пишу к вам, как бы сам хотел. Скажу вам только то, что всякое слово вашего письма мне дорого, как слово родного брата (а родство это идет от самого Христа), и всякая строчка вашего письма глядит тем родством, каким не глядит земное родство, и все те места ваших писем, где только изливалась и где изливается и выказывается ваша прекрасная и страждущая душка, целую душевным поцелуем, целуя и самое страдание, ее искушавшее, моля внутренно Бога о превращении его в небесное вам наслаждение. Любовь же, связавшая нас с вами, высока и свята, она основалась на взаимной душевной помощи, которая в несколько раз существеннее всяких внешних помощей».
С.Аксаков так описывал их отношения: «Смирнову он любил с увлечением, может быть потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны».
Гоголь словно поставил себе цель спасти душу этой женщины, блистающей в мороке светской жизни. Конечно, он понимал: спасти человека может только Бог, но всё равно пытался. В тяжелые минуты, когда ее одолевали депрессия и одиночество, Николай Васильевич переписывал для нее псалмы и призывал заучивать их наизусть, а потом спрашивал - как урок. А когда не видел должного энтузиазма, упрекал Александру в эгоизме. А она, не становясь его ученицей, часто не исполняя того, что он ей советовал, внимательно выслушивала Гоголя, что для него было очень важно. И соглашалась. Не всегда искренне, порой - как любящий взрослый снисходительно соглашается с ребенком.
Не во власти писателя было вытащить ее из того мира, к которому она так привыкла. Но в письмах он предлагал ей «курс выживания»: «Избегайте обедов и гадких разговоров, или лучше старайтесь всякий гадкий разговор обратить сколько возможно в хорошую сторону. Но у вас иногда бывают крайности, вы думаете, что можно говорить или о святых вещах, или о мерзостях. Вы мне часто говорили: “О чем же мне говорить с таким человеком, как не о гадостях? он другого и понять ничего не может”. Но вот вопрос, нужно ли…? Человек все-таки не скотина, есть в нем и добрые стороны; зачем же нужно, чтобы к вам он был непременно обращен скотскою стороною? Разберите-ка себя хорошенько и построже: не подстрекали ли вы их сами вместо того, чтобы унимать; не задирали ли их сами на такой разговор, не говорили ли им: смелей, вперед!»
«Вы пишете мне, что “принимаете мои упреки с удовольствием, но надобно, чтобы они были справедливы”. Экая штука! это может сделать всякий сколько-нибудь умный человек, даже и не христианин. А не угодно ли вам принять несправедливые упреки? Я всякий день отыскиваю в себе какую-нибудь новую мною не замеченную гадость и вижу, что все почти мне сделанные упреки справедливы… даже и те, которые сделаны людьми, на которых я и вниманья не хотел обратить прежде и которые вследствие озлобления мне их сделали. Нет, извольте-ка принять и несправедливые упреки за справедливые, и всякий день в них всматриваться, как в зеркало, авось среди несправедливого отыщется что-нибудь и справедливое. А вот что я вам еще скажу: не считайте также, что вы стали на высокую степень христианского совершенства тем, что имеете духу сказать: у меня слишком черна душа, или же: у меня есть много мерзостей. Мы так только говорим, а как станет кто-нибудь нас колоть этой чернотой, или которой-нибудь из этих мерзостей, мы тотчас на попятный двор и давай изворачиваться: “У меня этого нет”, или: “У меня есть и хуже, но не это самое, а другое”, а как дойдет дело до другого или до того, что хуже, мы и здесь стараемся увильнуть и своротить на третье. Словом, человек большой плут. Этого из виду никогда не следует опускать».
Если Николай Васильевич искренне чувствовал ответственность за «душевное устройство» Александры Осиповны, то она, в свою очередь, принимала деятельное участие в устройстве его материальных и лит. дел - использовала свои связи, хлопотала о публикациях, выбивала пособия. Да просто снабжала деньгами! Правда, этой помощи Гоголь порой противился. Своей бедностью он тяготился, хотел получить средства, нуждался в них, но сам этого стыдился. Однажды в сложное для него время Александра Осиповна предложила ему тысячу рублей, огромную сумму, которая надолго избавила бы его от лишений, но он категорически отказался. Николай Васильевич считал, что жить нужно по средствам, а в его случае единственным источником этих средств могла быть лит. работа.
«Меня немного удивляет, что вы не хотите ничего принять от меня. Вы представьте себе, что я ведь в самом деле очень богата. Мне Н. Николай Михайлович дал все доходы в полное распоряжение. Прежде я, не зная всего хода дела, сорила деньгами, а теперь я всем дорожу, и знаю, как и когда и в чем себе отказать. Если вы у меня возьмете, вы уже меня невольно заставите сделать доброе дело».- писала Смирнова-Россет.
Понимая, что Гоголю унизительно получать подачки, она искала другие способы финансово помочь другу: обращалась в гос. органы, долго и упорно выбивала для него пенсию, пыталась убедить чиновников, что Гоголь - это национальное достояние России. В ее голове не укладывалось: неужели кому-то нужно объяснять, что гениальному писателю необходимо постоянное пособие от государства?! Ведь, хлопоча о своем друге, она действовала не только в его интересах, но и в интересах России как православной страны. Шеф жандармов Орлов, к которому Александра Осиповна пришла за содействием, пытался втолковать великосветской просительнице, что пособия в Российской империи назначаются только чиновникам и военным за беспорочную службу на протяжении 35 лет, а у молодого Гоголя никаких таких заслуг нет, да и гос. служащим он не является. Возмущенная Александра Осиповна, вспоминая тот разговор, позже писала: «Прошу покорно господ министров сказать: а что такое надобно сделать в литературе, чтобы получить патент на достоинство литератора в их смысле. Право, они смешны! Если бы они еще читали по-русски».
Тем не менее она не была бы собой, если бы не добилась своего: пенсион Гоголь всё же начал получать, правда, уже ближе к концу жизни. Этому, как нередко водилось у Александры Осиповны, предшествовал скандал. Из ее воспоминаний: «В воскресенье на обычном вечере Орлов напустился на меня и грубым, громким голосом сказал мне: “Как вы смели беспокоить государя, и с каких пор вы - русский меценат?” Я отвечала: “С тех пор как императрица мне мигнет, чтобы я адресовалась к императору, и с тех пор как я читала произведения Гоголя, которых вы не знаете, потому что вы грубый неуч и книг не читаете, кроме гнусных сплетен ваших голубых штанов”. За словами я не лазила в карман. Государь обхватил меня рукой и сказал Орлову: “Я один виноват, потому что не сказал тебе, Алеша, что Гоголю следует пенсия”».
Они принадлежали разным мирам: она - богата, он - беден; она - замужем и окружена поклонниками, он - одинок и замкнут; она - спонтанная, экспрессивная, светская, любящая произвести впечатление, он - нелюдимый философ с обостренным мистическим чувством. И при этом они просто не могли друг без друга и при любой возможности стремились встретиться - и в России, и за границей: в Бадене, в Ницце, в Париже, и в Риме. Может показаться странным, как человек в тяжелейшем финансовом положении большую часть жизни прожил за границей. Но это был другой век и другой мир. Тогда для людей того круга, к которому принадлежал Гоголь, жизнь за границей тоже зачастую была не дороже, чем в России. При этом все годы общения со Смирновой-Россет писатель пытался донести до нее идею нестяжательности. Сам он большую часть жизни провел как аскет. Как-то Александра Осиповна в шутку спросила Николая Васильевича, сколько у него белья. Оказалось, впритык, чтобы иметь смену чистой одежды. Причем Гоголь считал это правильным: «Всем так следует, и вы так будете жить, как я, и, может быть, я увижу то время, когда у вас будет только две пары платья: одно для праздников, другое для будней. А лишняя мебель и всякие комфорты в комнате вам так надоедят, что вы сами понемногу станете избавляться от них. Я вижу, что это время придет для вас. Вот я заметил, что у меня в чемодане завелась ненужная вещь, так я тут же вам ее подарю».
Даже когда Александра стала калужской губернаторшей, Гоголь продолжал внушать ей идеи нестяжательства: «Ваше влияние сильно. Вы - первое лицо в городе. Если вы будете хорошо вести ваши собственные дела и ваш собственный дом, то уж и этим вы произведете влияние. Гоните паче всего роскошь, это не требует ни хлопот, ни издержек. Не пропускайте ни одного бала, приезжайте именно с тем, чтобы показаться на нем в одном и том же платье; три, четыре, пять раз сряду надевайте то же платье; хвалите на всех только то, что просто и не стоит больших денег. Словом, гоните, повторяю вам, эту скверную роскошь, эту страшную язву России, причину взяток, несправедливости и всех мерзостей, какие у нас есть».
Гоголь исходил из своего опыта, который он воспринимал как промыслительный. Его нестяжательность в каком-то смысле была вынужденной. Были моменты, когда от нищеты он почти впадал в отчаяние.нельзя было прожить только на гонорары, но при этом писатель считал необходимым жить исключительно на собственные заработки .Смирнова-Россет до последнего, сколько могла, помогала его творчеству. А она развивалось как продолжение его веры. И Александра Осиповна это понимала. В Риме, в ее салоне, Гоголь читал первые главы «Мертвых душ». А спустя 4 года, когда гениальная поэма была окончена, именно Смирнова-Россет стала одной из тех, благодаря кому она увидела свет. Хотя этого могло и не случиться - цензурный комитет встал стеной: издание хотели запретить, усмотрев в нем крамолу, призывы к отмене крепостного права и даже выпады против православия! Цензоры тщетно пытались разобраться, о чем же эти «Мертвые души». Поскольку там затрагивались вопросы крепостного права и специфики управления поместьями, то с точки зрения обывателя и цензуры Гоголь был сатириком. Но для него самого это было произведение о человеческих грехах, которые мертвят душу. Причем зачастую это были грехи не чужие, а его собственные либо глубоко прочувствованные им грехи, присущие людям его поколения. Цензура же высматривала в поэме то, чего там на самом деле не было.
Николай Васильевич в письмах жаловался Александре Осиповне, что может не получить гонорар за книгу, которую так давно писал. Из их переписки становится понятно, как трудно ему жилось. В том числе и потому, что в России он остался без жилья, а денег на то, чтобы жить и подлечиваться в странах, где ему больше подходил климат, не было. Гоголь умолял друга Плетнева помочь с продвижением рукописи - всё висело на волоске: «…вы сами знаете, все мои средства и всё мое существование заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись к государю. Я об этом пишу к А.О. Смирновой. Я просил ее через великих княжен или другими путями, это ваше дело. Об этом вы сделаете совещание вместе».
Именно содействие Смирновой-Россет оказалось едва ли не решающим в судьбе книги. Вот что писала она сама: «Я решилась посоветоваться с М.Ю. Виельгорским, он горячо принялся за дело и все устроил с помощью князя Дундукова, который был товарищем министра просвещения, графа Уварова. Ни мое письмо, ни письмо Гоголя к государю не нашлись, они или остались у Виельгорского, или были отосланы автору. “Мертвые души” вышли в свет полностью, без глупых поправок и вычеркивания цензоров».
И позже: «Государь перебил разговор. Я ему напомнила о Гоголе, он был благосклонен. “У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие”. “Читали ли вы „Мертвые души“?” - спросила я. “Да разве они его? Я думал, это Соллогуба”. Я советовала ему их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма».
.Позже, когда в 1845 г. муж Александры Осиповны был назначен гражданским губернатором Калуги, она стала для Гоголя поставщиком губернских типажей, в которых он так нуждался, работая уже над продолжением «Мертвых душ». Он просил: «Определите мне характеры всех находящихся в Калуге; не пропускайте мелочей и подробностей. Уведомляйте меня также о всех толках, какие ни занимают город, о всех распоряжениях, какие ни делаются в губерниях, и о всех злоупотреблениях, какие ни открываются…»
Несколько писем Гоголя к Смирновой-Россет опубликованы в «Выбранных местах из переписки с друзьями» - это главы «Что такое губернаторша», «О помощи бедным» и «Женщины в свете». У Гоголя не было ни усадьбы, ни дачи, ни просто сельского дома, где можно было бы уединиться и работать на лоне природы. И летом 1849 г. он наконец принял приглашение и в первый раз выбрался в калужское имение Смирновых. Всего же Николай Васильевич приезжал в Калугу трижды. Дочь С.Аксакова Вера в 1850 г. писала: «Гоголь при ней совершенно счастлив, она его очень любит, у них есть свой особый мир, так сказать, в котором у них совершенно одинаковые взгляды, понятия, впечатления, язык».
Сама Александра Осиповна вспоминала: «Мы лежали на траве возле речки. Он лежал, задравши ноги и положа руки за голову: «Какая тишина, кажется, что слышен стук времени, уходящего в вечность».
Гоголю отвели две комнатки во флигеле, окнами в сад. В одной он спал, в другой работал, стоя, приспособив вместо пюпитра бревна. Вставал в 5 час. утра, сам одевался, умывался и шел с молитвенником в рощу. Возвращался к 8-ми часам, когда подавали кофе, потом занимался, а часов в 11 приходил к Александре Осиповне и предлагал почитать Четьи Минеи. Перед обедом выпивал полынной водки, а после обеда они ездили кататься. Церковь села Константинова стояла напротив дома Смирновых. Каждый день там служили обедню. Наличие храма поблизости было обязательным условием жизни Гоголя, а и самой Смирновой-Россет.
В Калуге, в доме Смирновых Гоголь останавливался, когда направлялся в Оптину пустынь. Поездки в Оптину были для него жизненно важными. Он писал оптинскому иеромонаху Филарету (бывшему наместнику московского Новоспасского монастыря, проживавшему в Оптиной на покое): «Ради самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден; дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо…»
Там же, в Калуге, Гоголь рассказал Александре Осиповне о своей задумке совершить путешествие по России - от монастыря к монастырю. Он хотел проехать по проселочным дорогам, по пути останавливаясь у помещиков. По словам его современника и земляка, литератора Пантелеймона Кулиша, это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы повидать живописнейшие места, исстари избираемые русскими людьми для основания монастырей. Во-вторых, для того, чтобы изучить жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии. И в третьих, чтобы написать увлекательное географическое исследование России, «чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился».
Живя у Смирновых во флигеле, Гоголь работал над II томом «Мертвых душ». Смирновы - единственные люди, которые от него самого слышали основную его часть. И благодаря им мы знаем, что II том, написанный уже почти набело, производил сильнейшее впечатление. Гоголь читал Александре Осиповне и ее сводному брату Льву Арнольди те самые главы, которые потом сожжет. И, по воспоминаниям Смирновой-Россет, они были гораздо лучше тех, что были опубликованы по черновикам уже после смерти писателя: «Нечего и говорить о том, что всё читанное Гоголем было несравненно выше, нежели в оставшемся бульоне».
Она могла стать едва ли не единственной, кто услышал бы окончание II тома «Мертвых душ». Но... отказалась. Л.Арнольди вспоминал: «…сестра откровенно сказала Гоголю, что ей теперь не до чтения и не до его сочинений. Мне показалось, что он немного обиделся этим отказом; я же был в большом горе, что не удалось мне дослушать II тома до конца, хотя и ожидал его скорого появления в печати; но одно уже чтение Гоголя было для меня истинным наслаждением. Я все надеялся, что здоровье сестры поправится, и что Гоголь будет читать; но ожидания мои не сбылись. Сестре сделалось хуже, и она должна была переехать в Москву, чтобы начать серьезное лечение. Гоголь, разумеется, тоже оставил деревню».
Что же случилось с Александрой Осиповной? Хандра? Уныние? Скука? Или сказались душевные травмы, полученные в детстве? Что бы там ни было, но в Калуге, вдали от столичной жизни нервы ее совершенно расстроились. Ее стали одолевать страхи, пропали сон и аппетит, появилось удушье. Пробовала заняться благотворительностью, но всё ей казалось фальшивым. Она жаловалась Гоголю: «…я не могу и не хочу ничего делать, я слаба и больна и поставлю долгом первым сбережение своих сил физических и душевных. Грустно, даже горестно видеть вблизи состояние внутренности России».
Впрочем, и Гоголь постоянно жаловался своему сердечному другу на недомогания:
- «Нервы - бессонница - волнение - тоска.
- “Ну, я опять вожусь с нервами”.
- “Что делать? Я сам с нервами вожусь”», - вспоминала она их встречу.
Лето в Калуге 1851 г. стало последним для писателя. Он уехал в Москву, и больше они с Александрой Осиповной не виделись. 21 февраля 1852 г. Гоголя не стало. Последними словами его были: «Как сладко умирать!»
А за 10 дней до смерти писатель сжег в камине рукопись последнего варианта II тома «Мертвых душ».
***
Это были отношения двух очень разных и очень сложных людей. Любая попытка свести эти отношения к некой единой формуле, единой оценке, которая описала бы их вполне, только уводит нас от правды. Что же мы можем сказать с уверенностью про их связь?Прежде всего то, что она промыслительна. Смирнова-Россет стала Гоголю другом - настоящим, сопереживающим, каких у него не было среди мужчин. Она оказалась тем человеком, которому писатель открывал очень важные для себя, как христианина, вещи, связанные с его верой. При этом не важно, пытался ли он ее воспитать. Важно, что он писал о самом главном для себя, и она это смиренно и с огромным вниманием принимала. Да, советами его не воспользовалась, но и не оттолкнула. Александра Осиповна была тем собеседником, перед которым он открылся так, как не открылся бы, возможно, ни перед кем другим. И она, сколько могла, помогала его творчеству, которое развивалось как продолжение его веры.
Она это понимала и призывала государство понять это и поддержать писателя. Александра Осиповна оказалась среди немногих свидетелей судьбы II тома «Мертвых душ» - и она, и ее родные утверждали, что это произведение высочайшего уровня. Смирнова-Россет создала Гоголю все условия, чтобы он не был стеснен в самом главном для себя - в своей христианской жизни, в молитве, в том диалоге с Богом, который он всё время вёл. Рассматривая ее жизнь - сложившуюся в результате трагически, - нужно исходить из того, что Гоголь всегда молился за нее, что он ее заступник, ходатай за нее перед Господом. Разумеется, у духовной дружбы Гоголя и Смирновой-Россет были плоды. Нам не дано знать, что происходило в душах этих людей, но мы можем высказать надежду, что даже просто теплые слова утешения, обращенные к «духовному одиночке» Гоголю, ее участие в судьбе тонко чувствовавшего, нервного писателя, их встречи и беседы были мощной поддержкой для человека, вынесенного за скобки общепринятой жизни того круга.
Дом Смирновой-Россет был тем редким местом, где странный, сложный человек мог найти приют и набраться сил, чтобы продолжить свой путь.В то же время, сама Александра Осиповна с ее непростым характером и изломанной судьбой хотя и не изменила радикально свой образ жизни, не стала под влиянием Гоголя другим человеком, но, благодаря писателю, получила некий духовный стержень. Да, порой она снисходительно относилась к советам друга. Да, ее привязанность к великосветскому кругу никуда не делась. Но в многословных наставлениях Гоголя она находила что-то очень важное для себя, что в мороке бессмысленной светской жизни подсказывало ей смысл существования, поддерживало веру и указывало направление движения к свету.
Владимир Гурболиков, Наталья Хурпалева
17.02. 2024. журнал "Фома"
https://foma.ru/gogol-i-smirnova-rosset-ne-roman-na-vsju-zhizn.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 31 Мар 2024, 11:37 | Сообщение # 16 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | К 215-летию со дня рождения
КОГДА ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОГОЛЯ
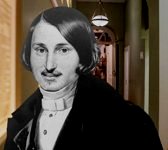
Во времена Гоголя в России жили по юлианскому календарю, и тогда все даты определялись иначе Согласно данным метрической книги, Николай Васильевич родился 20 марта. Этому дню по н. ст. летоисчисления соответствует 1 апреля. Сам писатель, как вспоминали его современники, днем своего рождения считал 19 марта. Об этом же говорила и его матушка. Различия в числах марта, вероятно, ошибка в метрической книге. Это не редкость - похожая ситуация была и с А.С. Пушкиным. Эта же дата была выбрана для его надгробия в Даниловом монастыре, откуда прах Гоголя после ликвидации монастырского некрополя в 1931 г. перенесли на Новодевичье кладбище. В Москве весной 1909 г. собирались отметить 100- летие со дня рождения классика. Тогда на Пречистенском бульваре (ныне Гоголевский) планировалось открыть памятник писателю. Создавали монумент на народные деньги. За год до этого события, 10 апреля 1908 г., в газете «Русские ведомости» было опубликовано письмо журналиста В.Гиляровского. Он писал, что неверно указывать датой рождения драматурга 19 марта, так как это ошибка. Гиляровский также сообщал, что у него имеется заверенная запись из метрической книги Преображенской церкви местечка Большие Сорочинцы о рождении Гоголя, свидетельствующая, что он появился на свет 20 марта. Журналист утверждал, что метрическую книгу он лично видел в 1900 г., когда собирал материал о Гоголе для последующей публикации.
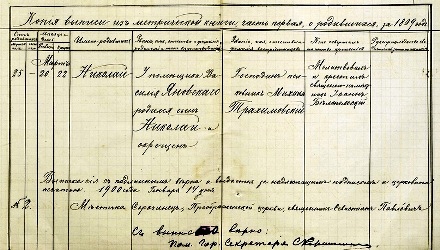
В фондах Главархива хранится копия этого документа, а именно выписка из метрической книги, которая гласит: «20 марта у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22 марта. Восприемником был господин полковник Михаил Трахимовский. Молитвовал и крестил священно-наместник Иоанн Белопольский».
Изначально заявление Гиляровского никак не повлияло на работу комиссии по созданию памятника и подготовке к юбилею. Но, согласно документам Главархива, 17 декабря 1908 г. Н.Гучков - московский гор. голова, беря во внимание выписку из метрической книги сорочинской церкви, офиц. обратился в Общество любителей российской словесности, чтобы решить вопрос о достоверной дате рождения писателя. 14 января 1909 г. от общества пришел ответ, где значилось, что датой его рождения следует считать 20 марта. Постановление гор. исполнительной комиссии вышло спустя несколько дней: датой рождения признать 20-е число, а надпись на могильном памятнике не изменять.
Решение вызвало споры и целую волну различных публикаций в прессе. В статьях приводили многочисленные аргументы против или же в пользу постановления. Историк и литературовед Н.Лернер замечал: «Гоголь был крещен 22 марта, и возможно, что слова родных о рождении, произошедшем три дня назад, то есть 19 марта, было воспринято церковным причтом как рождение третьего дня, а это уже 20 число».

Памятник работы Н.Андреева считается эстетически совершенным и остро передающим скорбные переживания писателя. На нет дат его рождения и смерти. Пьедестал украшают бронзовые барельефы с героями произведений писателя. Единственная надпись лаконична: «Гоголь».
https://www.mos.ru/news/item/88697073/
ГОГОЛЬ И ПАСПОРТ
Рассказ из книги Владислава Отрошенко «Гоголиана»
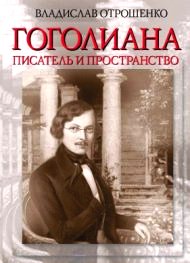
Заграничный паспорт Гоголя, служивший ему верным залогом беспрепятственных путешествий, невыразимо любезных его загадочному сердцу, был в полном порядке всегда. Он был в полном порядке и в ту декабрьскую минуту 1846 г., когда Николаю Васильевичу, вдруг явилась на ум необыкновенная мысль - испросить себе у императора Николая Павловича заграничный паспорт. Это случилось в Неаполе, в доме графини Софьи Апраксиной, где он тогда зимовал. Мысль была настолько резкой и оживляющей, что Гоголь, который уже не первый месяц бездействовал воображением, уже не первый месяц ожидал в тоскливом оцепенении удобного парохода и возвышенного расположения духа, чтобы отплыть в Палестину, ко Гробу Господню, для смиренных молитв, тотчас же и с былым жаром взялся за перо. «Всемилостивейший Государь! Не вознегодуйте, что дерзаю возмущать маловременный отдых Ваш от многотрудных дел моей, может быть неуместной просьбой». - так начиналось это огненное неапольское послание Гоголя о паспорте к царю Николаю I.
Царь, конечно, не мог в полной мере ощутить эту затаенную огненность - не потому, что ее скрывали громоздкие начальные слова послания; нет. Просто он не имел ни малейшего представления о том, в каких затейливых, удивительных, до крайности необычных отношениях со своим паспортом находился во все время заграничных странствий его подданный, сочинивший «Мертвые души». Об этом имели представление только те редкие друзья и приятели писателя, которым доводилось ездить с ним одним дилижансом сквозь государства Европы, да негусто расставленные по аккуратным дорогам этих государств разноязыкие трудяги‑чиновники, которым случалось по долгу полицейской или пограничной службы обратиться к Гоголю с буднично вежливыми словами на своем языке: «Извольте предъявить ваш паспорт, сударь!» Вот тут‑то и сказывалась в полную силу вся необъяснимая странность отношений между Гоголем и паспортом.
Исправно скрепленный надлежащими подписями и печатями, паспорт лежал у него в кармане. Писателю нужно было только вытащить его на свет, показать полицейскому чиновнику и благополучно ехать дальше. Но он не вытаскивал и не показывал. Полицейский учтиво повторял свой запрос на ином европейском языке и с привычной терпеливостью выдерживал паузу, еще не подозревая, что его ожидает. Гоголь между тем раздраженно и как бы обиженно отворачивался в сторону и вдруг объявлял полицейскому на языке его нации самым решительным и неприязненным тоном, что никакого паспорта он ему не покажет, хотя паспорт при нем и имеется. Полицейский уже менее учтиво и менее отстраненно, пытаясь вникнуть удивленным умом в происходящее, требовал дать ему паспорт. Но Николай Васильевич стоял на своем. «Не дает, да и только», - досадливо вспоминает издатель «Москвитянина». Погодин, который не раз попадал на дорогах Европы из‑за паспорта Гоголя в приключение, потому что не хотел предательски обидеть друга, то есть поступить иначе, чем Гоголь, находясь у него в попутчиках. Он тоже, напряженно хмурясь и краснея, не показывал паспорт. Завязывался скандал. Пассажиры дилижанса уже слышали громкую и ядовитую брань, произносимую на местном языке. Как вдруг язык менялся; менялся и голос бранившегося человека. Звуки совершенно чуждой речи раздавались в воздухе альпийского селения. Это Гоголь говорил по‑русски. И притом говорил так плавно, так задушевно и таким просительно‑нежным тоном, каким произносит трепетный юноша самые ласковые извинения своей возлюбленной.
Но Николай Васильевич, конечно, не извинялся. Глядя ясными и спокойным глазами прямо в глаза полицейскому, он, на чем свет стоит, как свидетельствует Погодин, ругал сначала самого полицейского, потом императора австрийского, его министерство, потом всех гонфалоньеров и подест - словом, все высшие и высочайшие власти стран, распростершихся в окрестном мире, включая власти (военные и судебные) излюбленной Италии. Полицейского охватывало противоречивое чувство. Его одновременно и смущала и завораживала непрекращающаяся музыка слов, в которой ему слышались именно ласковые извинения. Пораженный такой резкой и беспричинной переменой в человеке, он лишь изредка и растерянно подавал тихий голос, не обращаясь уже ни к кому в особенности: «Господа, попрошу паспорта...». А Гоголь тем временем, не умолкая ни на мгновение, пятился к дилижансу и направлял туда же друзей‑попутчиков, украдкой помахивая им за спиной ладонью. Потом вспрыгивал на подножку, объявлял кондуктору, что можно ехать, дилижанс трогался и вскоре исчезал из пределов селения, где обескураженный чиновник, стоя на дороге, все еще нашептывал себе под нос: «Господа, паспорта...»
Было бы ошибкой заключить, что Гоголь слишком трепетно любил свой паспорт, не желая его даже выпускать из рук, хотя на эту мысль и наводят слова Погодина, который подчеркивает, что «Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже что когда ездит один, то никогда не показывает паспорт никому по всей Европе под разными предлогами».
Всё так. Но бывали случаи, когда дело поворачивалось совершенно иначе. И об этих случаях свидетельствует сам же Погодин. Из его воспоминаний следует, что таким манером, как описано выше, Гоголь поступал тогда, когда паспорт находился при нем очень близко. «Теперь представьте себе, что паспорта у него нет, что он засунул его куда‑нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадается под руку, и наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: “На тебе паспорт, ешь его!”» .
А далее происходило нечто и совсем уж невероятное. Как только полицейский брал паспорт в руки, Гоголь свои руки прятал за спину, и теперь уже ни за что на свете не хотел брать паспорт назад - отказывался от него так гневно и так настойчиво, что, кажется, был бы очень доволен, если бы полицейский и в самом деле положил в рот, разжевал и съел негодяя. Вот об этих‑то отношениях между Гоголем и паспортом, переменчивых, страстных, непостижимых, и не знал ничего царь Николай I, на чье имя в некую минуту декабря 1846 г. Гоголь принялся сочинять послание о паспорте. Единственное, что мог узнать царь, справившись у министра двора графа В.Ф. Адлерберга или министра иностранных дел Карла Нессельроде, так это то, что паспорт у писателя имеется. Знал это, очевидно, и он сам. Но совершенно иной паспорт явился в ту минуту его неукротимому воображению, которое вдруг очнулось ото сна и, словно раненный великан, обрело удвоенную способность двигать любые громады. Это был паспорт необыкновенный, исполинский - не по своим размерам, а по заключенной в нем силе. Это был паспорт, затмевающий все паспорта на свете!
Послание далось Гоголю на редкость легко. В овсяком случае, оно было очень коротким и цельным. Он быстро - в два предложения - перелетел вступление и, уже не скрывая огня, писал: «Я осмеливаюсь просить Ваше Императорское Величество о высочайшем повелении Вашем выдать мне пашпорт на полтора года, особенный и чрезвычайный, в котором бы великим именем Вашим склонялись все власти и начальства Востока к оказанию мне покровительства во всех тех местах, где буду проходить я».
В финальных строках, по‑восточному поэтичных, Гоголь с восточной же тонкостью выражал надежду, что такой паспорт волей царя возникнет в земной реальности: «Тайный твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед Вами, мой царственный благодетель, великодушный спаситель уже было погибавших дней моих! Двойными узами законного благоговения и вечной признательности сердца связанный с Вами верноподданный Ваш Николай Гоголь».
В начале января 1847 г. царь получил послание.Он долго и сосредоточенно вчитывался в него, то и дело поднимая вверх брови; читали его и перечитывали много раз Нессельроде и Адлерберг. Отвечать было поручено Адлербергу, чью ловкость и деликатность в делах сверхобычного свойства царь всегда высоко ценил.

Министр двора не стал называть паспорт странным; он не стал называть его фантастическим, неземным; не стал говорить, что такого сказочного паспорта, какой нарисовал Гоголь, не существует и никогда не существовало в природе. Впрочем, одному только Богу известно, что говорили между собою царь и министры, обсуждая характер этого паспорта. Но составленный Адлербергом ответ, где в особом сцеплении вежливых слов чувствуется какая‑то сильная, с трудом подавляемая гримаса, был таков: «Его Величество Высочайше повелеть мне соизволил: уведомить вас, милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого вы просите, у нас никогда и никому не выдавалось».
Да, низведения во плоть летучего вымысла не произошло. Русский царь и его министры не обладали способностями богов. Но если бы произошло, если бы этот паспорт, вообразившийся Гоголю под небом Неаполя, все ж таки существовал в многогранной природе российского государства, в которой есть место любым граням, в том числе и совершенно феерическим. Как воспринял бы Гоголь это овеществление своей фантазии? Возгордился бы он, получив такой паспорт, извлеченный им на свет благодаря тончайшему художническому чутью? Щеголял бы он этим паспортом на дорогах мира, показывая его с ехидным удовольствием всевозможным чиновникам - и таможенным, и полицейским, и даже таким, которые паспорта никогда и не требуют? Ясно, что эти вопросы предполагают в художнике мелочное тщеславие, что подобное предположение в случае с Гоголем неправомерно. Потому что, во-первых, кто может поручиться, что Николай Васильевич шаг за шагом не вступил бы с новым паспортом в точно такие же отношения, как и с прежними паспортами. А во‑вторых, нельзя утверждать с полной уверенностью, что образ Великого Паспорта, явленный в Неаполе, в доме графини Апраксиной, принадлежит исключительно гоголевской фантазии, а стало быть, и гоголевской гордыне. Этот образ принадлежит, быть может, в качестве юнговского архетипа коллективному бессознательному. Или даже - в качестве чистого первообраза всех паспортов на свете - платоновским небесам.
https://godliteratury.ru/articles/2016/04/01/gogol-i-pasport
ВЕЛИКИЙ МИСТИК
«Много ещё пройдёт времени, пока уразумеется вполне всё глубокое и строгое значение Гоголя».
И.Аксаков

На самом деле писатель имел фамилию Гоголь-Яновский. Однако ему не нравилось, что она длинная, поэтому он откинул 2-ю часть и просил звать только Гоголем. Н.Кукольник вспоминал: «Однажды, уже в Петербурге, один из товарищей при мне спросил Гоголя:
- «С чего ты это переменил фамилию?» −
«И не думал».
− «Да ведь ты Яновский».
− «И Гоголь тож».
− «Да что значит гоголь?»
− «Селезень», − отвечал Гоголь сухо и свернул разговор на другую материю».
Молодой Гоголь обожал модные новинки. Перед тем, как приехать в Петербург, интересовался, что носят местные франты, и был одним из первых выпускников Нежинского лицея, кто переоделся в штатское сразу, как только появилась такая возможность. Его гардероб поражал разнообразием и цветовой гаммой, любил ткани с переходными оттенками, яркие краски и необычные фактуры. В его шкафу можно было найти панталоны, жилеты, сюртуки самых необычных конфигураций и оттенков. На наряды Гоголь не скупился и, когда были деньги, шил костюмы у лучших портных, но и сам был не прочь взять в руки иглу и нить. Николай Васильевич вязал, ткал пояса, кроил платья для своих сестёр и шил шейные платки для себя. Помимо этого, был замечательным кулинаром и обожал угощать гостей варениками и галушками, а ещё заядлым садоводом.
Он любил книги, особенно миниатюрные издания, на которые мог тратить большие деньги. «Страсть к ним до того развилась в нём, что, не любя и не зная математики, он выписал «Математическую энциклопедию» Перевощикова на собственные свои деньги, за то только, что она издана была в 16-ю долю листа. Несмотря на замкнутый характер был потрясающим рассказчиком и чтецом. Писатель И.Панаев вспоминал: «Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драм. эффектов, с величайшей простотою; Писемский читает как актёр, разыгрывая свою пьесу в чтении. В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами чтений. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большей простотою, чем Писемский…».
Как писал Айвазовский, гоголь действительно обладал весьма длинным носом. Тургенев упоминал, что нос придавал его физиономии нечто хитрое и лисье. Знакомый Тургенева, Н.Колмаков, даже запаниковал при виде этой впечатляющей части лица: «Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи, думая: вот клюнет, и глаз вон».
Существует миф: Гоголь стеснялся своей внешности. В это можно поверить, если вспомнить, какое внимание он уделяет носам в произведениях, хотя, судя по письмам, писатель умел смеяться над своим мнимым недостатком.
В 1893 г. в журнале «Исторический вестник» опубликовали пересказ истории, услышанной от гоголевского знакомого И.Ф. Золотарёва, живший в одной квартире с писателем в Риме в 1837−1838 гг.: «Из наиболее любимых Гоголем кушаний было козье молоко, которое он варил сам особым способом, прибавляя туда рому (последний он возил с собой во флаконе). Эту стряпню он называл гоголь-моголем и часто, смеясь, говорил: «Гоголь любит гоголь-моголь».
После знакомства с Жуковским и Пушкиным вдохновлённый Гоголь приступил к созданию одного из лучших своих произведений. Обе части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» изданы впоследствии под псевдонимом пасечника Рудого Панька. Некоторые эпизоды книги, в которой настоящая жизнь переплеталась с легендами, навеяны детскими видениями автора. В повести «Майская ночь, или Утопленница» мачеха, превратившаяся в чёрную кошку, пытается задушить дочку сотника, но в результате лишается лапы с железными когтями. Этот момент сюжета напоминает реальную историю из жизни писателя. Как-то родители оставили сына дома, а прочие домочадцы легли спать. Вдруг Никоша услышал мяуканье, а через мгновение увидел крадущуюся кошку. Он был напуган до полусмерти, но всё же схватил кошку и выбросил в пруд. «Мне казалось, что я утопил человека», − сожалел позже Гоголь.
Студенты считали Николая Васильевича никудышным преподавателем истории. Он часто пропускал занятия или мог рассказывать материал лишь полчаса вместо двух. Писатель Н.Иваницкий вспоминал: «Лекции Гоголя были очень сухи и скучны: ни одно событие не вызвало его на беседу живую и одушевлённую. Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена». По неизвестным причинам Гоголь предпочитал ходить по левой стороне дорог и тротуаров. Это вызывало определённые сложности, ведь все остальные пешеходы передвигались по правой стороне. Но писатель оставался верен своим пристрастиям.
https://skunb.ru/data....оль.pdf
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 01 Апр 2024, 12:57 | Сообщение # 17 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | Ни один из существующих портретов Гоголя не передает его как надо. Лучший - это литография Горбунова с портрета Иванова, в халате. Она, случайно, вышла лучше оригинала; что до сходства: лучше передала эту хитрую, чумацкую улыбку - не улыбку, этот смех мудреного хохла как бы над целым миром.

Скажет он сестрам "Ну, сидеть, да смирно", и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязанье на спицах шарфа или ермолки. Особенно хорошее расположение духа вызывали в нем любимые им макароны; он тут же за обедами приготовлял их, не доверяя этого никому. Потребует себе большую миску и, с искусством истинного гастронома, начнет перебирать их по макаронке, опустит в дымящуюся миску сливочного масла, тертого сыру, перетрясет все вместе и, открыв крышку, с какой-то особенно веселой улыбкой, обведя глазами всех сидящих за столом, воскликнет: "Ну, теперь ратуйте, людие".
Кроме рисования узоров для любимого его матерью тканья ковров, он кроил сестрам платья и принимал участие в обивке мебели и в окраске оштукатуренных при его пособии стен. Николай Васильевич боялся всякого увлечения. Раз в жизни удалось ему скопить небольшой капитал в 5 тыс. руб. серебром, и он тотчас же отдает его, под большою тайною, своему приятелю-профессору для раздачи бедным студентам, чтобы не иметь никакой собственности и не получить страсти к приобретению; а между тем через полгода уже сам нуждается в деньгах и должен прибегнуть к займам. Гоголь перепробовал множество родов деятельности - служебную, актерскую, художническую, писательскую. С появления "Вечеров на хуторе", имевших огромный успех, дорога, наконец, была найдена. Он никогда не любил говорить о свих сочинениях; даже намека о них не допускал. Если, бывало, кто-нибудь заговорит о них, он хмурился, переменял разговор или уходил.
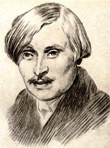
У Гоголя всегда в кармане была записная книжка или просто клочки бумаги. Он заносил сюда все, что в течение дня его поражало. При всей своей застенчивости и нелюдимости, охотно вступал в разговоры с самыми разнообразными людьми.
"Мне это вовсе неинтересно, но мне необходимо это для моих сочинений".- говорил он, как бы оправдываясь.
В Калуге он как-то перезнакомился в гостином дворе со всеми купцами и лавочниками. Утром, во время пути, при всякой остановке выходил на дорогу и рвал цветы, и ежели при том находились мужик или баба, то всегда спрашивал название цветов; он уверял, что один и тот же цветок в разных местностях имеет разные названия и что, собирая эти разные названия, он выучил много новых слов, которые у него пойдут в дело.
Граф А.П. Толстой рассказывал, что ему не раз приходилось слышать, как Гоголь писал свои "Мертвые души": проходя мимо дверей, ведущих в его комнату, он не раз слышал, как Николай Васильевич один, в запертой горнице, будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом. В черновых рукописях видны следы этой работы. Каждый разговор переделывался им по нескольку раз, зато как живо, верно и естественно говорят все его действующие лица. Шутки Гоголя, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал, сам же он всегда шутил, не улыбаясь. Гоголь - самое обласканное дитя русского общества. Перед Пушкиным при его жизни так не преклонялись, как перед ним. Его любили самозабвенно, обхаживали, пеклись о его делах и нуждах, потакали капризам, прощали порой обидные выходки и нелепости. Сам государь Николай Павлович, грозный и строгий, "Палкин", не смог устоять перед талантом писателя: утвердил к постановке "Ревизора", присутствовал на премьере и от души смеялся; позже дал добро печатать "Мертвые души", застрявшие было в цензуре.

"Мы не можем судить Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому что, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе". (С.Аксаков)
https://rodina-history.ru/2024....ia.html
Выставки «ЗНАЮ, ЧТО МОЕ ИМЯ ПОСЛЕ МЕНЯ БУДЕТ СЧАСТЛИВЕЕ МЕНЯ …»
1 апреля - 1 мая 2024.
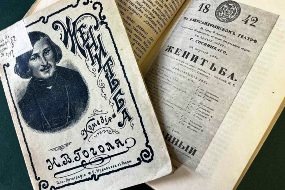 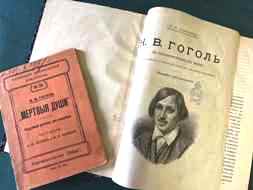 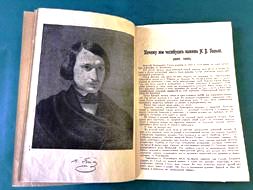
1 апреля в 15.00 В Зале Корфа РНБ (пл. Островского, 1-3) в состоится открытие выставки о жизни и творчестве писателя, его первом лит. опыте, истории создания самых известных произведений, его окружении. Гоголь был знаком со многими знаменитыми литераторами и каждый из них, встречавшихся на его жизненном пути, так или иначе повлиял на его творчество.
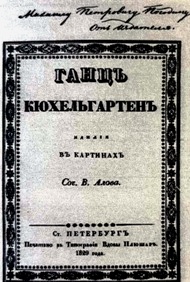
Редкий экземпляр первой книги Гоголя с его дарственной надписью М.П. Погодину
Впервые на выставке будут представлены ранние издания произведений Гоголя, среди которых стихотворение «Италия», напечатанное без подписи в журнале «Сын отечества и Северный архив» в 1829 г. и, вышедшая в том же году, поэма «Ганц Кюхельгартен: Идиллия в картинах», изданная под псевдонимом В.Алов и сохранившаяся лишь в нескольких экземплярах. Важное место займут документы, предоставленные Отделом рукописей. Это выписка из метрической книги о рождении писателя, отрывок XI главы I тома «Мертвых душ» (рукой самого Гоголя, ноябрь 1841 г.), его завещание (1447 г.), а также фрагменты различных повестей из его «Записной тетради» (1832-1834 гг.). Один из разделов познакомит с историей создания пьесы «Женитьба», в сюжете которой можно найти косвенное отражение несчастливых обстоятельств личной жизни писателя .Экспозиция дополнена афишами к театральным постановкам и кинофильмам, созданным по его произведениям.
https://nlr.ru/nlr_visit/RA8418/K-215-letiyuNikolaya-Gogolya
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 10 Май 2024, 10:23 | Сообщение # 18 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | ГОГОЛЬ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЕМ

Мать Гоголя, Мария Ивановна, дала обет перед чудотворным образом свт. Николая, называемым Диканьским: если у нее благополучно родится сын, она наречет его Николаем. Местный священник не оставлял молитвы до тех пор, пока его не известили о появлении на свет мальчика, и тогда, по просьбе Марии Ивановны, был отслужен благодарственный молебен. Так, испрошенный молитвой, новорожденный младенец Николай был встречен в этом мире молитвой благодарения Бога.

В Нежинской гимназии он не отличался особенным прилежанием, держался особняком. Учитель латинского языка И.Г. Кулжинский, единственный педагог, оставивший о юном Гоголе свои воспоминания, сообщает: «Он учился у меня три года и ничему не научился… Во время лекций всегда, бывало, под скамьею держит какую-нибудь книгу и читает. Это был талант, не узнанный школою, и, ежели правду сказать, не хотевший или не умевший признаться в нём школе».
Товарищи Гоголя были не очень высокого мнения о его лит. способностях, особенно в прозе. «В стихах упражняйся, а прозой не пиши: очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно». – советовали они ему.
Зато в школьных театральных представлениях Гоголю как актеру не было равных. Все даже думали тогда, что он обязательно поступит на сцену, потому что, по их мнению, у него был громадный талант и все данные для этого. Особенным успехом он пользовался в роли госпожи Простаковой из фонвизинского «Недоросля». Его одноклассник К.Базилин рассказывал впоследствии: «Видел я эту пьесу в Москве и в Петербурге, но сохранил навсегда убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как эту роль играл тогда 16-летний Гоголь».
Никто не думал, что он станет когда-нибудь писателем, хотя бы даже и посредственным, поскольку слыл нерадивым учеником и слушателем и больше был известен так называемыми жартами, которыми часто заставлял своих товарищей хохотать до упаду. Довольно было ему сказать только слово, сделать одно движение, чтобы все в классе, как бешеные или сумасшедшие, захохотали в одно горло, даже при учителе, а то и при директоре. Он же оставался невозмутимым, будто ни при чём. А вот службу в церкви, по воспоминаниям его школьного приятеля В.Любич-Романовича, Николай слушал со вниманием, иногда повторял молитвы нараспев, как бы служа сам себе отдельную литургию. Как-то раз, недовольный пением церковного хора, он поднялся на клирос и стал подпевать, ясно произнося молитвы. Но священник, услышав незнакомый голос, выглянул из алтаря и велел удалиться новоявленному певчему. По рассказам нежинских его одноклассников, Гоголь никогда не мог пройти мимо нищего, ничего не подав ему, и, если нечего было дать, он просил: «Извините». Как-то ему даже случилось остаться в долгу у одной нищенки. На её «подайте Христа ради» он ответил: «Сочтите за мной». И в следующий раз подал ей вдвойне, добавив при этом: «Тут и долг мой».
В декабре 1828 г. Николай Васильевич прибыл в Петербург и напечатал за собственные деньги свою поэму «Ганц Кюхельгартен», написанную им в 1827 г., под псевдонимом В.Алов, раздав экземпляры книгопродавцам на комиссию. Он тогда жил со своим земляком и соучеником по гимназии Н.Прокоповичем, который один и знал, откуда взялся «Ганц Кюхельгартен». Многие отзывались о «Ганце» равнодушно, а известный критик Н.Полевой прошёлся по нему в своём журнале даже с насмешкой, от которой новоиспеченный поэт невольно заскорбел. Он понял, что стихи – не его амплуа, собрал у книгопродавцев весь тираж, а потом и сжег его. Много позже он, вспоминая юношескую литературную свою неудачу, сказал: «Если мысли писателя не обращены на важные предметы, то в нём будет одна пустота. Надобно любовью согреть сердце, творить без любви нельзя. А что без любви написано, то холодно».
Дм. Погодин, сын историка М.Погодина, в доме которого, как правило, останавливался Гоголь, бывая в Москве, рассказывал, что Николай Васильевич очень любил детей и позволял им резвиться и шалить сколько угодно. «Бывало, мы, то есть я с сестрою, точно службу служим: подойдем к его комнате, стукнем в дверь и спросим, не надо ли чего. «Войдите», – откликнется он нам. Несмотря на жар в комнате, мы заставали его ещё в шерстяной фуфайке, поверх сорочки. «Ну, сидеть, да смирно», – скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязанье на спицах шарфа или ермолки или в писании чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно мелких клочках бумаги. Клочки эти он иногда, прочитывая вполголоса, рвал, как бы сердясь, или бросал на пол, потом заставлял нас подбирать их с пола и раскладывать по указанию, причём гладил нас по голове и благодарил».
Когда Гоголя спросили, не лучше ли детям бегать и резвиться в воскресенье, чем ходить в церковь, он ответил: «Когда от нас требуется, чтобы мы были, как дети, какое же мы имеем право от них требовать, чтобы они были, как мы?»
И вообще он считал, что всего лучше читать детям книги для больших, «вот историю Карамзина с IX тома», например.
Гоголь верил в простоте сердца – так, как верит народ. Княжна В.Н. Репнина-Волконская вспоминала: «У матери моей в Одессе была домовая церковь. Гоголь приходил к обедне, становился в угол за печкой и молился, «как мужичок», по выражению одного молодого слуги, то есть клал поклоны и стоял благоговейно».

Известно, что Гоголь никогда не расставался с Евангелием: «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии. Сколько раз уже отшатывалось от него человечество и сколько раз обращалось».
Он ежедневно читал по главе Ветхого Завета, а также Евангелие на церковнославянском, латинском, греческом и английском языках. О.В. Гоголь-Головня, сестра писателя, рассказывала: «Он всегда при себе держал Евангелие, даже в дороге. Когда он ездил с нами в Сорочинцы, то и в экипаже читал Евангелие. Видна была его любовь ко всем. Никогда я не слыхала, чтобы он кого осудил».
Воспитанницу его матери, сироту Эмилию Ковриго, грамоте учил Николай Васильевич, и когда выучил, то первой книгой, которую она с ним прочитала, было Евангелие. «И эти уроки, и беседы о любви к ближнему, так глубоко запали в мою детскую душу, что никакие невзгоды жизни не могли бы поколебать во мне веры в истину христианской любви, о которой он мне с такой силой говорил и которая на каждом шагу осуществлялась в семье Гоголя». – вспоминала она
Писатель был необыкновенно строг к себе и боролся со своими слабостями. Например, живя в Италии, он сам бегал на кухню и учился приготовлять макароны, хотя умел довольствоваться самой скудной пищей и постился иногда, как самый строгий отшельник, а во время говенья вообще ничего не ел. Но Николай Васильевич был не самым набожным в своей семье. Лишь в соблюдении поста он держался особенной строгости: в постные дни, когда в деревнях готовились разнообразные постные блюда, различные винегреты и тому подобное, он ворчал, отодвигая подальше тарелку с какой-нибудь заманчивой постной пищей: «Какой же это пост, когда все объедаются еще хуже, чем в обыкновенные дни?»

Глубоко религиозная графиня А.Г. Толстая постилась очень строго. Она любила тюрю из хлеба, картофеля, кваса и лука и всегда за этим блюдом вспоминала: «И Гоголь любил кушать тюрю. Мы часто с ним ели тюрю».
Настольной книгой ее были «Слова и речи преосвященного Иакова, архиепископа Нижегородского и Арзамасского» в 4-х частях, изданные в 1849 г. В книге сохранились пометки карандашом, которые делал Гоголь, ежедневно читавший вслух Анне Георгиевне эти проповеди. При этом она обычно прохаживалась, а он, сидя в кресле, не только читал, но и объяснял прочитанное. Самым любимым местом в этой книге у Николая Васильевича было «Слово о пользе поста и молитвы».

Православный священник Иоанн Базаров, долгое время служивший в Германии, рассказывает, что, когда Гоголь был в Висбадене (1847 г.), он обратил внимание, что немцы строят русские православные храмы на горе, и сказал при этом: «Как будто самый Промысл указывает на то, что Православная Церковь должна стоять выше всех других. И подождите недолго, и она загорится звездою первой величины на горизонте христианства».

Княжна В.Н. Репина-Волконская в своих воспоминаниях так описывает приезд Гоголя в их имение Яготино, когда он вернулся в 1848 г. из Иерусалима: «Лицо его носило отпечаток перемены, которая воспоследовала в душе его. Прежде ему были ясны люди, но он был закрыт для них, и одна ирония показывалась наружу. Она колола их острым его носом, жгла его выразительными глазами, его боялись. Теперь он сделался ясным для других: он добр, он мягок, он братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходителен, он дышит христианством. Потом в Одессе я дала ему прочесть эти строки, он сказал мне» «Вы меня поняли, но слишком высоко поставили в своем мнении»».
В Оптиной пустыни сохранилось предание, поведанное прп. Амвросием. Во время пребывания в обители Гоголь рассказывал отцу Порфирию Григорову, издателю жития и писем затворника Георгия Задонского, что он видел мощи св. Спиридона Тримифунтского и был свидетелем происшедшего от них чуда. При нём мощи, которые были не только нетленны, но в продолжение XV в. сохраняли мягкость, обносили вокруг города, как это ежегодно совершается 12 декабря с большим торжеством. Все прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им должного почитания, говоря, что спина угодника будто бы прорезана и тело набальзамировано, потом, однако, решился подойти, но мощи сами обратились к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на землю перед святыней. Тому были свидетелями многие, в том числе и Гоголь.
В один из приездов в Оптину пустынь Гоголь прочитал рукописную книгу – на церковнославянском языке – прп. Исаака Сирина (с которой в 1854 г. старцем Макарием было подготовлено печатное издание), ставшую для него откровением. В монастырской библиотеке хранился экземпляр первого издания «Мёртвых душ», принадлежавший графу А.П. Толстому, а после его смерти переданный отцу Клименту (Зедергольму), с пометами самого писателя. На полях XI главы против того места, где речь идет о «прирождённых страстях», он набросал карандашом: «Это я писал в «прелести», это вздор. Прирожденные страсти – зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей – теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мёртвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, — не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души».
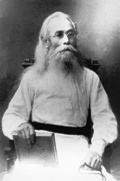
Прп. Варсонофий Оптинский рассказывал: «Есть предание, что незадолго до смерти Гоголь говорил своему близкому другу:
- Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял…
– Чего? Отчего потеряли вы?
– Оттого, что не по-ступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?»
Это предание отчасти подтверждается свидетельством сестры Гоголя, которая утверждала, что брат ее мечтал поселиться в Оптиной пустыни.

В дневнике Е.А. Хитровой сохранилось свидетельство, как однажды Гоголь читал вслух проповедь свт. Филарета, митрополита Московского, на евангельский стих: «Ищите Царствия Божия» (Мф. 6, 33; Лк. 12, 31). Святитель говорил о «краже», то есть о несоблюдении воскресных дней. По этому поводу Гоголь заметил: «Как это часто со мной случалось! А проку-то и не выходило. Когда внутренне устроен человек, то у него все ладится. А чтобы внутренне устроенным быть, надобно искать Царствия Божия, и все прочее приложится вам».
Гоголь говорил: «Как странно иногда слышать: «К стыду моему, должна признаться, что я не знаю славянского языка!» Зачем признаваться? Лучше ему выучиться: стоит две недели употребить».
Как-то он обронил: «Нельзя осудить человека в чем бы то ни было, сейчас сам то же сделаешь».
Княжна Репнина-Волконская видела Гоголя в последний раз в четверг на масленой, 7 февраля 1852 г.: «Он был ясен, но сдержан, и всеми своими мыслями обращен к смерти, глаза его блистали ярче, чем когда-либо, лицо было очень бледно. За эту зиму он очень похудел, но настроение духа его не заключало в себе ничего болезненного, напротив, оно было ясным, более постоянно, чем прежде. Мысль, что мы его скоро потеряем, была так далека от нас; а между тем тон, с каким он прощался, на этот раз показался нам необычайным, и мы между собою заметили это, не догадываясь о причине».
Никогда Николай Васильевич не оставлял заботы о ближних, в том числе и о крестьянах. Сестра его помнила, как однажды, когда они были в церкви, Гоголь заметил, что священник дал им просфоры, а крестьянам нет. По дороге из церкви он попросил сестру, чтобы она велела к каждой службе печь по 25 просфор, разрезать их на 4 части и отправлять в церковь для раздачи всем прихожанам. При этом он дал ей 25 руб., чтобы она не брала у матери муку, и обещал и впредь присылать деньги. Вместе с сестрой Гоголь заходил в избы мужиков, смотрел, как они живут, ездил на поле к жнецам.
«В то время был плохой урожай и хлеб такой низкий был, что нельзя было жать, и они руками вырывали его с корнями. Мы подъехали к жнецам, брат подошел к ним, спрашивал: «Тяжелее рвать, как жать?» – «Жать легче, а рвать – на ладони мозоли поробилися». А он сказал им в утешение: «Трудитесь, чтобы заслужить Царство Небесное». Со временем брат присылал матери денег, чтобы она купила хоть по теленку тем мужикам, у кого не было скота, и мне прислал 50 руб., чтобы я по усмотрению своему помогала нуждающимся». – рассказывала Ольга Васильевна.
Писатель Г. Данилевский, известный автор исторических романов, лично знал Гоголя и совершил в мае 1852 г. поездку на родину писателя. По его свидетельству, местные крестьяне никак не хотели поверить, что Гоголь умер, и среди них родилось сказание том, что похоронен в гробу был кто-то другой, а барин их будто бы уехал в Иерусалим и там молится за них. В этом наивном сказании есть глубокая духовная правда: Гоголь действительно переселился в Горний Иерусалим и там из своего чудного, но таинственного и не ведомого нам далека, у Престола Господня молится за всю Русскую землю, чтобы неколебимо стояла она в православной вере и чтобы больше было в ней правды и любви, – ведь это и было главной заботой великой души великого русского писателя.
Владимир Воропаев, доктор фил. наук, профессор МГУ.
https://pravlogos.ru/gogol-kotorogo-my-ne-znaem/
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 25 Ноя 2024, 19:20 | Сообщение # 19 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | КРЕСТИНЫ ГОГОЛЯ
Вначале несколько слов о том, где и когда родился Гоголь. Вопрос этот может кому-то показаться странным, и тем не менее он существует. Если мы обратимся к энциклопедическим изданиям (как советским, так и современным российским), а также к работам маститых гоголеведов - И.Золотусского или Ю.Манна, то прочтем, что Гоголь родился в 1809 г. 20 марта или 1 апреля по н. ст. Однако если писатель родился 20 марта, то отмечать день его рождения мы должны 2 апреля по новому европейскому календарю (в нашем столетии при пересчете со ст. ст. на новый прибавляется 13 дней). Кроме того, и это главное, – Гоголь родился 19 марта, а не 20-го. На этот счет есть неопровержимые доказательства.
По свидетельству М.И. Гоголь-Яновской, матери писателя, он родился «в 9 году 19 марта». Двоюродная сестра Гоголя, М.Н. Синельникова (рожденная Ходаревская), писала С.П. Шевыреву, другу и душеприказчику Николая Васильевича, 15 апреля 1852 г.: «День его рождения мне очень памятен – 19 марта, в один день с его меньшой сестрой Ольгой…»
О.В. Гоголь (в замужестве Головня) родилась 19 марта 1825 г. и не раз говорила, что появилась на свет в один день с братом: «Он был на 16 лет старше меня, он родился в 9-ом, а я – в 25-ом году, и заметьте, в один и тот же день, 19 марта, родились мы: он – первый сын и я – последняя дочь в нашей семье».
В 1852 г., вскоре после кончины Гоголя, Отделение русского языка и словесности РАН приняло решение издать его биографию. Написать ее было поручено С.П. Шевыреву. Летом 1852 г. он отправился на родину писателя для сбора материала. В своем путевом дневнике Шевырев со слов его родственников сделал запись: «Родился 1809 г., 19-го марта, в 9 час. вечера. Слово Трофимовского, когда он смотрел на новорожденного: будет славный сын»..
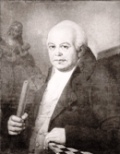
М.Я. Трохимовский, известный украинский врач-филантроп, принимал роды у Марии Ивановны. По ее воспоминаниям, ее муж еще до своей женитьбы страдал два года от лихорадки, от которой «насилу освободил его известный бывший у нас медик Трофимовский»
Принято считать, что Гоголь родился во флигеле доктора М.Я. Трофимовского, принимавшего роды Марии Ивановны. Между тем, по авторитетному свидетельству земляка и одного из ближайших друзей Гоголя, Михаила Максимовича, квартира Марии Ивановны в Сорочинцах «была в домике генеральши Дмитриевой, в котором и родился 19-го марта Гоголь. Восприемниками его были: молодой Трофимовский Михайло Михайлович, и Дмитриева».
Несколько слов о восприемниках (крестных родителях) Николая Васильевича, тем более что сведений о них сохранилось немного. Устав Церкви предполагает для человека одного восприемника от купели. Для мальчика – отца, для девочки – мать. Второй восприемник возник в качестве доброго обычая в практике РПЦ. Согласно церковным правилам, крещающийся должен иметь одного крестного родителя соответственно его полу. Собственно, мальчику нужен только крестный отец, а девочке – крестная мать, но по древней русской традиции, как правило, приглашают обоих.
Итак, крестным отцом Гоголя был Михаил Михайлович, сын М.Я. Трохимовского. Известно о нем немного. После 20-ти лет военной службы он вышел в отставку и поселился в Сорочинцах; военный советник (по Табели о рангах соответствовал чину полковника); женат на внебрачной дочери графа П.Г. Разумовского.

Известен его портрет работы В.Боровиковского,где он изображен в армейском офицерском мундире с орденом Св. Анны 2-й степени... Крестной матерью Гоголя стала Екатерина Ивановна, бездетная вдова генерал-майора А. Дмитриева, героя русско-турецкой войны, кавалера ордена св. Георгия 4-й степени. В 1800–1830 гг. она проживала в Сорочинцах, где имела дом и крепостных; у нее воспитывалась сестра писателя О.В. Гоголь-Головня, она учила девочку грамоте и рукоделию.

Софья Николаевна Данилевская (рожденная Быкова),внучатая племянница Гоголя, со слов его сестер рассказывает: «Я хорошо помню младшую сестру писателя – Ольгу Васильевну. Мне было 20 лет, когда она умерла. Ее часто навещали художники, писатели, журналисты. Они всегда останавливались в нашей Васильевке, в доме моего отца, Н.В. Быкова. Он был любимым внуком матери писателя и воспитанником Анны Васильевны, его сестры. Они свидетельствовали приезжим журналистам со слов матери, что Николай Васильевич родился в доме Е.И. Дмитриева. но газетчики зачем-то выдумали небылицу, будто Гоголь родился во флигеле доктора Трохимовского.

И что этот домик был крыт соломой, а в комнате имелся только глиняный пол! В действительности доктор арендовал землю и поставил флигель для крепостных крестьянок. Моя бабушка Е.В. Гоголь, как и ее сестры, родилась в доме генерал-майора А.А. Трощинского, двоюродного брата матери писателя.

При крещении ее держал на руках сам бывший министр юстиции и сенатор Д.П. Трощинский, а крестной матерью была Ольга Дмитриевна, внучка последнего короля Польши С.Понятовского. Журналисты не понимают, что мать Гоголя принадлежала к высшему сословию, поэтому не могла рожать во флигеле вместе с крепостными крестьянками».
Именно 19 марта отмечали день рождения Гоголя его друзья. Тот же Михаил Максимович писал С.Т. Аксакову 19 марта 1857 г: «Сегодня день рождения нашего незабвенного Гоголя, и мне живо вспомянулось, как за 7 лет мы с ним обедали у Вас в этот день взятия Парижа! Боже мой, как хорошо мне прожилось в тот март месяц и как часто я тогда проводил у Вас время с Гоголем…»
Его день рождения совпал с днем взятия русскими войсками Парижа в 1814 г., и впоследствии он отмечал оба эти события вместе.
19 марта 1849 г. Гоголь праздновал свое 40-летие у Аксакова. В следующем году он обедал в этот день у Аксаковых вместе с М.А. Максимовичем и О.М. Бодянским. Присутствовали также А.С. Хомяков и С.М. Соловьев. Пили за здоровье Гоголя и пели украинские нар. песни. 19 марта поздравляли Николая Васильевича с днем рождения родные и близкие ему по духу люди. «Письмо ваше (от 19 марта) с поздравлением пришло ко мне в тот день, когда я удостоился приобщиться Святым Тайнам», – сообщал писатель матери и сестрам 3 апреля 1849 г.

Н.Н. Шереметева, тетка Ф.Тютчева, писала Гоголю 12 февраля 1843 г. из подмосковного Покровского: «Я к вам хотела писать и не получа письма вашего, чтобы к 19 марта достигло до вас мое поздравление. Поздравляю вас, мой милый друг, с рождением; важен для христианина этот день, получаем право наследовать вечное блаженство, как и получим, если пройдем здешнее странствие, как должно христианину…»
Биографы Гоголя считали датой рождения писателя 19 марта. Сомнения в этом возникли после публикации выписки из метрической книги Спасо-Преображенской церкви в Сорочинцах, где крестили Гоголя.

Здесь под № 25 сделана следующая запись: «Март а20 числа у помещика В.Яновского родился сын Николай и окрещен 22. Молитствовал и крестил священнонаместник Иоанн Беловольский». В графе о восприемнике указан «господин полковник М. Трахимовский».
Выписку из метрической книги впервые опубликовал А.И. Ксензенко. Позднее, в 1908 г., появилась ее фотокопия. На ошибочность указанной здесь даты рождения Гоголя настаивали многие исследователи. Не секрет, что метрические записи в церковных книгах, давая верную дату крещения, часто ошибаются в дате рождения. Пример подобной ошибки находим и в отношении А.С. Пушкина. Известно, что поэт родился 26 мая. Между тем в церковной метрической книге рождение Пушкина датировано 27 мая. Если документ вступает в противоречие с другими фактами и не подтверждается иными свидетельствами, он не может считаться достоверным.
Таким образом, есть все основания считать научно-обоснованной дату рождения Гоголя именно 19 марта, а не 20-го (как ошибочно указано в метрической книге) и соответственно отмечать день рождения писателя 1-го апреля по н.ст. Итак, крестины Гоголя состоялись 22 марта 1809 г.. Кто мог присутствовать на них? Прежде всего это протоиерей Иоанн Беловольский, настоятель Спасо-Преображенской церкви в Сорочинцах, который и совершал Таинство. Во-вторых, это крестные новорожденного М.М. Трохимовский, его отец, и Е.И. Дмитриева.

По всей видимости, на крестинах были отец писателя В.А. Гоголь-Яновский и кто-то из родных и гостей. Матери не было. Правила Церкви не ограничивают присутствие родственников или близких людей во время совершения Таинства Крещения, однако до 40-го дня после родов предписывают матери не входить в храм. На 40-й день над ней прочитываются особые молитвы, и она может снова участвовать в Таинствах. По церковной традиции имя христианину нарекают в честь святых угодников Божиих, почитаемых РПЦ. Мать Гоголя, у которой двое детей умерло, едва появившись на свет, дала обет перед образом свт. Николая, называемым Диканьским, что если будет у нее сын, наречь его Николаем, и просила священника села Диканьки молиться до тех пор, пока его не известят о рождении дитяти и попросят отслужить благодарственный молебен. Испрошенный молитвой, новорожденный Николай и был встречен в этом мире молитвой благодарения Богу. По словам сестры писателя, О.В. Гоголь-Головни, брат ее любил вспоминать, почему назвали его Николаем.
Владимир Воропаев, доктор фил. наук, профессор МГУ им. Ломоносова, Член СП России
30.08. 2024. РНЛ
https://ruskline.ru/analitika/2024/08/29/krestiny_gogolya
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 21 Фев 2025, 15:03 | Сообщение # 20 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | ХОЛОДНЫЙ ПЕПЕЛ "МЕРТВЫХ ДУШ"
Почему Гоголь не сжигал II том великой поэмы

Каминные часы в Доме Гоголя в Москве остановлены на цифре три. В это время в ночь на 12 февраля 1852 г., ровно за 9 дней до своей скоропостижной кончины, Николай Васильевич сжег некие бумаги, среди которых, по легенде, известной каждому россиянину, был II том "Мертвых душ". Сегодня камин, в котором писатель похоронил свое детище, туристам разрешают фотографировать, строго предупреждая, чтобы без вспышек, словно опасаются, что воспламенится пепел истории и озарит ярким светом одну из самых громких мистификаций XIX в.: а существовал ли II том и точно ли Гоголь сжег его под покровом зимней ночи?
Единственный очевидец тех событий - молодой гоголевский слуга С.Григорьев, которого писатель когда-то привез из родного Миргородского уезда; окружающие рассказывали, что "это был парень смирный и чрезвычайно преданный своему хозяину".
Больше о нем ничего не известно, кроме ставшего хрестоматийным рассказа про ту роковую ночь. По его словам, Гоголь долго-долго молился, потом повелел Семену "подать из шкафа портфель". А когда портфель был принесен, вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. В разных источниках сохранился короткий разговор, который якобы произошел между барином и слугой.
- Что вы делаете, Николай Васильевич?
- Не твое дело.
Тут и начинаются вопросы.
Все знали, что Николай Васильевич был любителем отдавать огню свои бумаги. Считается, что первую редакцию II тома "Мертвых душ", которую, впрочем, никто не видел, Гоголь сжег еще летом 1845 г. Мы знаем об этом от самого автора: "Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде..."
А "Ганс Кюхельгартен", изданный молодым Гоголем под псевдонимом В. Алов? Известно доподлинно: когда книгу начали ругать в прессе, Николай Васильевич скупил все нераспроданные экземпляры и отправил их в огонь. О чем же воспоминания очевидца Семена? Брошенная в огонь кипа якобы не сгорела сразу, а лишь обуглилась по краям, и тогда Гоголь "вынул связку из печки, развязал тесемку и, уложив листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет". Почему опытный в сожжении своих бумаг Гоголь не развязал тесемку сразу?
Впрочем, версия Семена - лишь искра в костре противоречий при этом не самая яркая, хотя бы потому, что рассказ слуги стал расходиться по Москве лишь после смерти писателя, когда никто не мог подтвердить слова "очевидца". Куда большего внимания заслуживают документы, составленные полицейскими после смерти писателя.

Е.Вишняков. Гоголь на смертном одре. Стих. Н.Гербеля. 1852.
Среди них - опись вещей, обнаруженных при осмотре комнат, в которых жил Гоголь - в них ни слова про какие-либо рукописи. По законам того времени комнаты, где жил писатель, опечатали на полгода. Затем снова вскрыли и снова все тщательно переписали - снова никаких бумаг. И вдруг спустя еще несколько дней - настоящая сенсация! В том же шкафу, который полицейские при свидетелях не раз осматривали, вдруг обнаружились рукописи Гоголя. И среди них - черновые главы "Мертвых душ"! Но тогда что же писатель сжигал? И сжигал ли вообще? Ключ этой тайны не провернуть, если не развенчать еще один миф, имя которому "Гоголь".

О многом может рассказать уже обстановка комнат в доме на Никитском бульваре, где Николай Васильевич прожил свои последние годы. В глаза бросаются прежде всего литографии и рисунки с итальянскими пейзажами. I том своей знаменитой поэмы Гоголь написал в Италии, а всего за границей русский писатель прожил без малого дюжину лет.
"России почти не видал, от этого местами в его "Мертвых душах" нелепое соединение Малороссии и Великороссии", - брюзжал в своих дневниках Бунин. Он же 30 апреля 1940 г. сделал странную запись: "Убежден, что Гоголь никогда не жёг "Мёртвых Душ". Не знаю, кого больше ненавижу, как человека - Гоголя или Достоевского".
О чем это? Возможно, Бунин не может простить Гоголю его склонности к мистификациям, которая, действительно, у писателя была. И речь не о колдовстве, ни в какого Вия он не верил, а просто молодой Гоголь обожал врать и других тому же учил: "Никогда не надо говорить правду. Вот едешь в Рим - скажи, что едешь в Калугу, едешь в Калугу - скажи, что едешь в Рим".
Даже в письмах матери он не раз лгал о своих путешествиях, а иногда подделывал штемпели на конвертах - будто бы отправлял их из-за границы. "Таинственный Карло", как называли Гоголя сверстники еще во время учебы, так всех запутал, что литературоведы до сих пор распутывают его маршруты и нередко разоблачают то, что Гоголь на полном серьезе сам о себе писал в письмах и книгах. Тут же, в гоголевских комнатах, иконы, портреты оптинских старцев, церковные книги... Это уже другая ипостась Николая Васильевича. Он считал себя монахом в миру и в монастырь бы ушел, но те же оптинские старцы отговорили - ваше дело творить. И он творил, убежденный, что пишет душеполезные книги. Все они, начиная от ранних повестей до "Размышления о Божественной Литургии", наполнены христианскими символами: "Дело мое - это не литература, дело мое - душа".
Замах божественный, но надо понимать, что после гибели Пушкина именно Гоголь стал первым русским писателем. Он это осознавал и не боялся играть в апостола. Возможно, это его и подвело. У первого после Пушкина писателя России не было собственности, всю свою зрелую жизнь он скитался по гостиницам, ютился у друзей и знакомых. Вот и в доме на Никитском бульваре был только гостем, жил здесь по приглашению своего друга, графа А.Толстого. В истории с якобы сожжением II тома Толстой играет главную роль. Его послужной список - военный губернатор Одессы, гражданский губернатор Твери, генерал-лейтенант в отставке - полностью противоречит репутации ортодокса, реакционера и мистика. С Гоголем они стоили друг друга, хотя ближний круг писателя считал его знакомство с графом "решительно гибельным". У Толстого Гоголь жил на всем готовом - еда, одежда, бумага, чернила, все заботливо предоставлялось в любое время, и ничего взамен не требовалось. Однако литераторы и журналисты тех лет такое благодеяние чаще всего воспринимали как заботу сумасшедшего графа об умалишенном писателе. Ведь с тех пор, как Гоголь основательно "ударился в религию", всерьез его уже мало кто воспринимал. И.Тургенев, побывавший у Гоголя за считанные месяцы до его смерти, вспоминал: "Ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове. Вся Москва была о нем такого мнения".
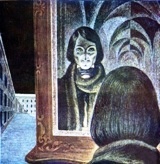
Никто из медиков диагноз, поставленный Гоголю обществом, не подтверждал, но именно Толстой зачем-то после кончины друга стал поддерживать этот образ. С Гоголем в последние его месяцы действительно творилось неладное, вплоть до галлюцинаций (о которых мы знаем, впрочем, в основном из рассказов Толстого). Но это объяснимо - в начале 1852 г. вдруг умерла его ближайшая подруга Е.Хомякова, сестра его любимого поэта Н.Языкова, того самого, который написал стихотворение "К не нашим", до сих пор не потерявшего в своей актуальности. Гоголь был так удручен, что не смог даже пойти на похороны, а во время панихиды произнес: "Для меня все кончено". Вскоре Гоголь решил, что он умирает, и среди ночи попросил вызвать приходского священника отца Алексия Соколова из церкви Симеона Столпника - той самой, с которой сегодня начинается Новый Арбат. Но священник нашел Гоголя в здравии и посоветовал тому не торопиться с уходом в мир иной. Откуда мы обо всем этом знаем? Опять же со слов Толстого, он же рассказал друзьям, что вскоре даже слуги начали якобы беспокоиться за жизнь барина, мол, совсем рассудок у того помутнел.
Есть в этой трагедии еще один персонаж, овеянный мифами. Это духовник графа Толстого - протоиерей Матфей Константиновский. Его на Москве называли мракобесом, поговаривали, что это именно он посоветовал писателю избавиться от II тома - якобы крайне неудачно там изображен какой-то губернатор, да и священник получался странный, больше католический, чем православный. "Сожгите, а то засмеют вас". Но на поверку все оказалось не совсем так. Сохранилось интервью священника публицисту Филиппову, где тот задает прямой вопрос: "Говорят, это вы посоветовали Гоголю сжечь II том". Ответ: "Неправда и неправда. Гоголь имел обыкновению сжигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстанавливать их в лучшем виде. Да едва ли у него был готов II том..."
Толстой любил рассказывать знакомым, как утром 12 февраля к нему в комнату пришел Гоголь, расстроенный и поникший: "Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определённые, а сжёг главы "Мёртвых душ"..."
Но если современники безоговорочно графу верили, то литературоведы XX в., до которых помимо слухов дошли и документы, были совсем иного мнения, особенно когда начали распутывать описанную выше историю с пропавшими черновиками, которые вдруг обнаружились на самом видном месте спустя полгода после смерти писателя. Никто, кроме Толстого, их туда подбросить не мог.

С.Дурылин, один из самых выдающихся литературоведов XX в., доказал это в своей статье "Дело" об имуществе Гоголя". По его мнению, "чья-то дружеская рука заранее, тотчас после кончины Гоголя, изъяла их из его комнаты для того, чтобы вернее сохранить для его семьи и для потомства".
Есть и другая версия, объясняющая, зачем Толстой сунул свой нос в камин. Духовник пересказал ему содержание глав, прочитанных Гоголем, и это напугало графа - неужели нелепый генерал, что не понравился священнику, это он? Толстому было чего опасаться: от писаний Николая Васильевича ему уже доставалось. В "Выбранных местах из переписки с друзьями" цензура запретила ряд писем, обращенных именно Толстому. По этому поводу на Москве судачили долго. Испугавшись за репутацию, которая и без того была подмочена, Толстой решил лично перечитать все главы и вынуть оттуда крамольные места, а для того, чтобы замести следы, и выдумал миф о сожженных "Мертвых душах". Все ли страницы прошли цензуру или граф оставил что-то себе? В одном из писем он проговаривается сестре: "Я не знаю достаточно Шевырева (издатель Гоголя), чтобы доверить ему без меня это дело и оставить его одного хозяином этих бумаг...". Но литературоведы уверяют, что если граф что-то и спрятал, то весьма незначительное.
Всего же из так называемого II тома до нас дошли 4 начальные главы и отрывок одной из последних глав, условно называемой 5-й. Литературовед Е.Дмитриева, автор книги "Второй том: замыслы и домыслы", замечает, что эти рукописи состояли "словно из двух слоев". Будто бы Гоголь на каком-то этапе начинал переписывать набело текст, попутно подвергая его не слишком значительной правке, а затем уже по этому тексту прошелся с правками еще раз - внося исправления на полях и между строк. Все это говорит лишь обо одном - Гоголь работал над продолжением "Мертвых душ" долго и мучительно. Иногда писатель говорил, что высшие силы забрали у него талант. Историки литературы считают - дело не в трансцендентном, просто замысел, который вынашивал Гоголь, изначально был неподъемен. "Мертвые души" опираются на "Божественную комедию". Как и Данте, Гоголь хотел сделать свою поэму трехчастной, чтобы показать русский ад, чистилище и русский рай.
Рассказывает известный ученый, доктор фил. наук А.Ужанков: "Но уже II том у Гоголя не получается таким, каким он его задумывал. То ли потому, что понятия чистилища нет в православной традиции, то ли потому что из-под пера Гоголя не выходили положительные персонажи, то есть те, кто уже чистилище прошел".
"Замысел был грандиозный, но несбыточный, потому что показывать путь духовного возрождения - это не задача литературы", - вторит Ужанкову один из самых авторитетных специалистов по Гоголю В.Воропаев. Он же категорично заявляет: "Второго тома Гоголь так и не написал. Потому что никто никогда не видел беловой рукописи второго тома "Мертвых душ". Никто и никогда". Современные ученые выводы Воропаева не оспаривают. Что же касается потомков, мы пока как следует не прочитали даже том первый...
Максим Васюнов
11.02. 2025. журнал "Родина"
https://rodina-history.ru/2025/02/11/holodnyj-pepel-mertvyh-dush.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 20 Июн 2025, 18:59 | Сообщение # 21 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | ДУХОВНИК ЦАРСТВУЮЩЕГО ДОМА И Н.В. ГОГОЛЬ

Протоиерей И.И. Базаров родился 21 июня 1819 г. в Туле в семье протоиерея И.Г. Базарова, преподавателя философии Тульской Духовной семинарии. В 1839 г. окончил Тульскую Духовную семинарию и поступил в Санкт-Петербургскую Духовную академию. По окончании академического курса в 1843 г. защитил магистерскую диссертацию по теме: «О Церкви Англиканской, сходстве ее с Православной и различиях от нее». Преподавал русскую словесность в Санкт-Петербургской Духовной семинарии. 16 апреля 1844 г. рукоположен во священника русской церкви во Франкфурте-на-Майне и назначен духовником вел. княгини Елизаветы Михайловны (племянницы Николая I), вскоре умершей.
В 1844–1851 годах – настоятель русской домовой церкви в Висбадене. В 1845 г. возведен Святейшим Синодом в магистры богословия. С 1851 г. – бессменный настоятель русской придворной церкви в Штутгарте, куда был переведен согласно желанию вел. княгини Ольги Николаевны (наследной принцессы, а затем королевы Вюртембергской), духовником которой состоял в течение 40 лет до самой ее кончины. В 1853 г. возведен в сан протоиерея.
За время своего 50-летнего служения за границей протоиерей И.Базаров издал ряд трудов на русском и нем. языках. Наиболее известное его сочинение – «Библейская история», выдержавшая более 30-ти изданий и разошедшаяся в количестве свыше миллиона экземпляров (первоначально издана в Карлсруэ в 1854 г. под названием «Сказания, заимствованные из священных книг Ветхого и Нового Завета»). За этот труд автор был удостоен Академией золотой медали. Награжден орденами Св. Анны 1-й степени, Св. князя Владимира 2-й степени и Св. Александра Невского, а также заграничными орденами: вюртембергским Короны и фридриха Большого Креста со звездой, веймарским Белого Сокола, нассауским Адольфа, баденским Церингенского Льва 2-й степени и баварским Св. Михаила.
Известность в лит. кругах отец Базаров приобрел после публикации своего письма (адресованного тайному советнику и цензору К.С. Сербиновичу) с описанием последних дней жизни В.Жуковского, духовником которого он состоял. О своих встречах за границей с Н.В. Гоголем, В.А. Жуковским, И.С. Тургеневым, А.М. Жемчужниковым, князем П.А. Вяземским, Н.И. Пироговым и др. протоиерей рассказал в мемуарах, опубликованных в журнале «Русская Старина» за 1901 г. Им написаны также воспоминания о Е.А. Жуковской, жене поэта, и гос.
канцлере А.М. Горчакове.
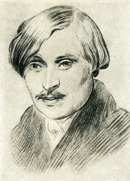
Рис.Иванова
Гоголь познакомился с И.Базаровым в 1845 г., когда тот был настоятелем вновь учрежденной русской домовой церкви в Висбадене. О своих встречах с писателем священник вспоминает: «Вскоре мне пришлось в семействе Жуковского познакомиться и с другим нашим лит. художником Н.В. Гоголем. Это было время начинавшейся его нервно-нравственной болезни. Раз я получил от него из Франкфурта записку такого содержания: „Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю“ (записка датируется серединой апреля 1845 г.
Приехав на этот зов в Sachsentrausen (заречная сторона Франкфурта, где жил Жуковский), я нахожу мнимо умирающего на ногах, и на мой вопрос, почему он считает себя таким опасным, он протянул мне руки со словами: „Посмотрите! совсем холодные!“. Однако, мне удалось убедить его, что он совсем не в таком болезненном состоянии, чтобы причащаться на дому, и уговорил его приехать в Висбаден поговеть, что он и исполнил. При этом случае, бывши у меня в кабинете и рассматривая мою библиотеку, он заметил и свои сочинения. „Как! – воскликнул он чуть не с испугом, – и эти несчастные попали в вашу библиотеку!“.
Это было именно то время, когда он раскаивался во всем, что им было написано.
Потом он заехал ко мне по пути из Эмса. Рассказывая, что он встретил там так много русских дам, сделал замечание, что верно у русских женщин такая уж дрянная натура, что им чаще других приходится отправляться в Эмс на лечение. „И все это наш славный Петербург тому виною“, – заметил он. Случилось потом мне и еще встречать его у Жуковского, но он был мрачен, почти ничего не говорил и больше ходил по комнате, слушая наши разговоры»
В воспоминаниях о В.А. Жуковском отец Иоанн рассказывает, как однажды в 1847 г. в Висбадене Гоголь обратил его внимание на то, что немцы строят русские православные храмы на горе, сказав при этом: «Как будто самый Промысл указывает на то, что Православная Церковь должна стоять выше всех других. И подождите недолго, и она загорится звездою первой величины на горизонте христианства
Владимир Воропаев, доктор фил. наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, член СП России
https://ruskline.ru/analiti....v_gogol
НЕСОМНЕННОЕ ДАРОВАНИЕ: ГОГОЛЬ И ФЕТ
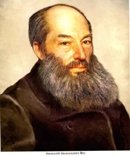
С 1835 по 1837 год юный А.Фет учился в немецком пансионе Крюммера в г. Верро (Лифтляндия), затем поступил на словесное отделение Московского университета, который окончил в июне 1844 г. В студенческие годы он изучал историю мировой литературы, штудирует трактаты Шеллинга и Гегеля, писал стихи. В ноябре 1840 г. выходит первая книга Фета «Лирический пантеон», с 1842 года он регулярно печатается на страницах журналов «Москвитянин» и «Отечественные Записки». С большой симпатией к дарованию поэта отнесся историк М.П. Погодин, в пансионе которого Фет провел весь 1838 г. В конце декабря 1839 г. или в 1-й половине 1840 г. в Москве Погодин передал «желтую тетрадь» со стихотворениями Фета на прочтение Гоголю, который возвратил ее со словами: «Это несомненное дарование».
Вот как рассказывает об этом сам поэт: «…Аполлон Григорьев, не взирая на примерное рвение к наукам, успел, подобно мне, заразиться страстью к стихотворству, и мы каждое свидание передавали друг другу вновь написанное стихотворение. Свои я записывал в отдельную желтую тетрадку, и их набралось уже до трех десятков. Все мы хорошо знали, что Гоголь проживает на антресолях в доме Погодина, но никто из нас его не видал.

Только однажды, всходя на крыльцо погодинского дома, я встретился с Гоголем лицом к лицу. Его горбатый нос и светло-русые усы навсегда запечатлелись в моей памяти, хотя это была единственная в моей жизни с ним встреча. Не будучи знакомы, мы даже друг другу не поклонились. Желтая моя тетрадка все увеличивалась в объеме, и однажды я решился отправиться к Погодину за приговором моему эстетическому стремлению. „Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю, он в этом случае лучший судья“. - сказал Погодин.. Через неделю я получил от Погодина тетрадку обратно со словами: „Гоголь сказал, это несомненное дарование“»
В письме к поэту Я.Полонскому от 23 мая 1888 г. Фет вспоминает этот эпизод своей биографии, которому он придавал важное значение: «Что касается моего юбилея, то, как я писал на днях Н.Н. Страхову, основание к 50-летнему поминанию моей музы с полным правом наступит в декабре этого года или в январе 1889 г. когда желтая тетрадь моих стихов, одобренных Гоголем, стала ходить по рукам университетских товарищей, и несколько стихотворений из нее перешли в «Лирический Пантеон», напечатанный в 40-м г.»Фет ошибался, относя это событие к декабрю 1838-го – январю 1839 г. В период с октября 1837 г. по сентябрь 1839 г. Гоголя не было в Москве: он жил в Италии. Вероятнее всего, тетрадь стихов была ему показана в декабре 1839-го – январе 1840 г. На ошибку памяти поэта обратил внимание Г.П. Блок. В своих воспоминаниях Фет рассказывает этот эпизод, но не датирует его. Поэт разделял убеждение Гоголя, что стихотворение А.С. Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один…» адресовано Императору Николаю I. 30 декабря 1887 г. он писал поэту К.Романову (К.Р.): «В глубине души я вынужден признать, что, невзирая на верноподданнические убеждения, я не был бы так предан памяти Императора Николая, если бы не знал его глубокого сочувствия всем свободным искусствам вообще, сочувствия, так ярко выставленного Пушкиным стихом: „С Гомером долго ты беседовал один…“»Владимир Воропаев, доктор фил. наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, член СП России
https://ruskline.ru/analiti....v_gogol
https://ruskline.ru/analiti...._aa_fet
|
| |
| |