|
НА ВОЛНАХ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА...
|
|
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 05 Май 2018, 23:13 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | В ХРАМЕ НА ВАГАНЬКОВСКОМ ВОССОЗДАЛИ ИСТОРИЧЕСКУЮ ЗВОННИЦУ
25 ноября 2018 г. на Ваганьково состоялся чин освящения 12-ти новых колоколов. Чин освящения колоколов совершил первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений. После этого их подняли на звонницу храма Воскресения Словущего. Новые колокола были отлиты на средства прихожан храма. По предложению настоятеля игумена Петра (Еремеева) на юбках (нижних частях) каждого колокола выгравированы имена родственников жертвователей. Самый большой колокол весит 1700 кг, а самый маленький – 80 кг.
 
Кроме этого, были отреставрированы несколько старинных колоколов храма, чудом сохранившихся до наших дней. В итоге собран колокольный набор из 15-ти колоколов, из которых самому древнему – более 1,5 веков.
«Сегодня особенный день. 245 лет назад здесь, на Ваганьково, был освящен первый храм во имя святого Иоанна Милостивого. И именно сегодня, в день его памяти, мы возрождаем звонницу, прежде оглашавшую кладбище и его окрестности великолепным звоном. Сегодня, освятив новый колокольный ансамбль, мы вернули голос нашей колокольне, и каждое богослужение, каждое прощание и моление об усопших здесь будет иметь особое ваганьковское звучание. И каждый из тех, кто приложил усилия к возрождению звонницы, сегодня радуется всем сердцем, что колокола были освящены. Это не только вернуло старинному храму звоны, утерянные в советские годы, но и стало продолжением большой работы по возрождению богослужебных традиций прихода», — игумен Пётр (Еремеев), настоятель храма Воскресения Словущего на Ваганьково.
Божественную литургию в храме в этот день — день памяти свт. Иоанна Милостивого — митрополит Истринский Арсений совершил в сослужении настоятеля и духовенства прихода, а также насельников Высоко-Петровского мужского монастыря. Один из приделов храма освящен в честь свт. Иоанна, поэтому праздничное богослужение проходило при большом стечении прихожан и гостей.
После богослужений Высокопреосвященнейший Арсений обратился к прихожанам: «Милостью Божией, чаяниями прихожан и людей доброй воли ваганьковская звонница зазвучала. И сегодня совершена та молитва, которая призывает благословение Божие и служит напоминанием о том, что есть Бог, есть Его святая воля, и есть Его творения, которые созданы прославлять своего Творца. Всегда радостно, когда на приходе появляется что-то новое. Тепло становится от осознания того, что в винограднике Христовом мы что-то сделали. Благодарю вас, отец-настоятель и дорогие прихожане, за осуществление этого проекта возрождения звонницы».
В конце праздника владыка наградил жертвователей именными благодарственными грамотами.
сайт храма "Священное Ваганьково")
ttp://vagankovo.net/hom-enews/na-vagankovo-vozrodili-zvonnicu
НА ВОЛНАХ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА...
На волнах колокольного звона мы плыли сквозь ночь и туман

«Дело необыкновенно! У этих людей вся религия в колоколах и образах», - восклицал в начале XVII в. краковский дворянин Ст. Немоевский, имея в виду особенности русской религиозности. И действительно, всех иноземцев удивляло количество колоколов на Руси. Такое единодушное удивление европейцев тем более примечательно, что познакомились на Руси с колоколами намного позже, чем в Европе, откуда первые колокола к нам и попали. Впервые услышав колокольный звон, русские люди его полюбили. Полюбили так сильно, что в их жизни он сразу стал играть особенную роль. Он звал их на молитву и на ратный подвиг, возвещал о радости и горе, предупреждал о пожаре и эпидемии, о приближении врага, подавал сигналы времени, указывал дорогу путникам в метель. Малиновый звон входил в их жизнь с молоком матери. В народном восприятии поражает то, что колокол мыслится как живое существо, во многом подобное человеку. Колоколу приписывалась способность чувствовать и переживать, а в его звуках слышалась человеческая речь. Колокола наделялись волей и способностью к самостоятельным действиям. В духовных стихах и житиях колокола звонят сами по себе в ознаменование чудесных событий.
Колоколам давали имена и прозвища. Собрание колоколов на одной колокольне называлось «колокольная фамилия», т. е. «колокольная семья». Считалось, что колокола могут сами выбирать себе место, где им висеть, а главное - сохраняют верность своей колокольне. До наших дней дошел рассказ о том, как по приказу Петра I часть колоколов сняли, чтобы перелить на пушки, но колокола Троицкой лавры не захотели стать орудиями убийства и в итоге вернулись на место, откуда они были силой изъяты. Судьба колоколов-бунтарей, символизирующих волю (вечевые колокола Новгорода, Пскова), была под стать человеческой. Их «наказывали», обрубали им «уши» и вырывали «язык», а чаще просто снимали, забирая в качестве трофеев или отправляя в ссылку. Одно из преданий рассказывает, как по приказу И.Грозного в Новгороде был «казнен» и переплавлен колокол Софийского собора. Люди верили, что колокольный звон и сами колокола несовместимы с ложью, несправедливостью и греховностью. При перенесении колоколов с места на место, при их отливке и особенно при поднятии их на колокольню всегда соблюдались определенные правила. Считалось, что если в числе присутствующих есть нечестивые, бессовестные люди или если колокол отлит на неправедные деньги, то с ним обязательно что-то случится. Он упадет, расколется, или голос его будет лишен звона. Поэтому перед началом действа все негодяи вызывались из толпы и изгонялись.
Колокольный звон был для людей мерилом праведности и добра. «Рожь чище звона», «голос чище звона» или «слава, что звон» - так говорили о том, что было достойно высшей оценки и похвалы. Недаром среди русских юридических обычаев была так называемая очистительная присяга, принимаемая не только над крестом или иконой (когда человек клялся в том, что он прав, и в качестве доказательства целовал икону или крест), но и под колокольный звон. «Ходить под колоколами» - так говорили о людях, лишенных возможности доказать свою невиновность иным способом и решивших оправдаться в церкви, при стечении народа и под колокольный звон. Есть много легенд об исчезнувших колоколах. Колокола падали в воду, уходили под землю, становились невидимыми, если им грозило перейти в руки нечестивых людей, иноземных врагов или разбойников. Наиболее известна китежская легенда, рассказывающая о том, как во времена нашествия Батыя ушел на дно озера Светлояра чудесный город Китеж. Говорят, что и сейчас в одну из летних ночей в водах озера можно увидеть очертания города, услышать песнопения и тихий колокольный звон. Подобных легенд о провалившихся под землю селах, городах, церквах и монастырях в России известно великое множество. Иной раз люди и сами, не желая, чтобы колокола достались врагу, закапывали их в землю или топили в водах озер, рек и колодцев. Ушедшие под землю или затопленные колокола, как правило, не удается вернуть на место. И только дети и праведные люди могут иногда услышать, как зов из незапамятных времен, их отдаленный звон.
Современные ученые сделали удивительное открытие: колокольный звон может лечить болезни! Группа исследователей под руководством кандидата биологических наук Ф.Я. Шипунова установила, что колокола работают как генераторы энергии в ультразвуковом диапазоне, разрушая болезнетворную среду. Колокольный звон обезвреживает вирусы гриппа, желтухи и другую инфекцию. Велико воздействие колоколов и на душевное состояние человека, на его психику. Много лет психиатр А.В. Гнездилов из Санкт-Петербурга успешно лечит ряд психических заболеваний звучанием колоколов. На его счету сотни исцеленных людей. Люди, жившие на Руси несколько столетий назад, об открытиях современных ученых не знали. Но, наверно, догадывались, что в колокольном звоне заключена целительная сила. Во время эпидемий они устраивали «целодневный звон» - били в колокола круглые сутки. Звонили, не жалея сил, чтобы услышал и помиловал Господь. Детей и взрослых при испуге, лихорадке и других болезнях «водили под колокола» (то есть ставили под колокол на колокольне и начинали в него бить). Больным становилось легче.
Самым веселым, долгожданным и любимым был пасхальный звон. В этот день каждый человек мог подняться на колокольню и вызванивать на колоколах все, что ему заблагорассудится. Во многих местах России пасхальная неделя даже получила название «Звонильной». Пожалуй, только ленивый не звонил на Пасху в колокола. Колокольный звон представлялся человеку благотворной и праведной силой, способной спасти его душу. В народе был обычай - давать деньги на литье колоколов или покупать их в память о своих родных и близких. Особая роль отводилась колоколам в деле спасения души самоубийцы, человека, умершего внезапной или насильственной смертью, а также некрещеного младенца. Как известно, погребение таких людей проходило без отпевания и колокольного звона, да и хоронили их вне кладбища. Для того, чтобы спасти душу самоубийцы, принято было делать тайные пожертвования на колокол, который должен был «вызвонить» ему милость и прощение за совершенный грех.
Вместе с тем жертвователями, случалось, становились и разбойники, которые раскаялись в своих грехах и стремились заслужить прощение. Есть интересное предание о Стеньке Разине. Однажды он затопил в озере большой колокол села Успенского. Зачем он это сделал - неизвестно. Но если, утопив персидскую княжну, Разин особо не мучился, то тут его загрызла совесть. Наверно, в глубине души атаман был по-своему верующий. Желая замолить тяжкий грех, он придумал для этого способ весьма необычный. Он велел своим людям бросать на то место, где под водой лежал колокол, бочки золота и серебра до тех пор, пока колокол не зазвонит: «Не будет звона - так не будет Стенька прощен, а звон будет - так будет Стенька прощен». Неизвестно, сколько бочек они туда бросили. Но колокол «простил» разбойника, зазвонив в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Колокольный звон «по сход души» помогал умирающему при тяжелой агонии. По общему убеждению, мучительная агония указывала на человека, сильно грешившего в жизни (колдуна, преступника), за душой которого охотились дьявол и нечистые духи, а колокольный звон обладал силой отгонять их.
Колокольному звону приписывалась огромная отвращающая сила, способная разогнать тучи и избавить мир от нечистой силы и зла. Подобное значение придавалось колоколам буквально повсюду. Оно вошло в принятый в Православной Церкви чин освящения колокола, в одной из молитв которого сказано следующее: «Колокол сей небесным Твоим благословением исполни. Услышав звон его, да отступят нечистые силы далеко от оград Твоих верных, и все стрелы их огненные, разожженные на нас, да угаснут, треск же молний, падение града, и все вредные поветрия, всесильною и крепкою десницею прогоняемые и сдерживаемые, да прекратятся, утихнут и отступят...» (перевод с церк.-слав). Люди верили, что колокольный звон приближает их к Богу. В народе ходили легенды о заповедных местах, где люди сохранили истинную веру. Там, в легендарном Беловодье, «Опоньском царстве», «Анапе» или «Ореховой земле», удаленных от суетного мира, колокольный звон никогда и не прерывался. В этих местах, находящихся где-то далеко, за морем или за горами, жизнь была вольной, богатой и праведной, и люди не переставали искать их. Иногда им даже удавалось приблизиться к заветной цели, однако достичь ее они так и не могли. Единственное, что оказывалось доступно человеку, — это услышать звуки той обетованной земли, в том числе и доносящийся оттуда колокольный звон...
* * *
Конечно, в то время народ был простой, неученый. В поверьях и мифах, связанных с колоколом, причудливо переплелись легенда и реальность, христианство и язычество. Был, например, такой вот метод народной медицины. Колокол или его «язык» обмывали на колокольне так, чтобы вода стекала в горшок, а затем поили ею больного. Смешно ведь? И смешно, и трогательно. И... завидно: была же вера! Пускай бездумная, но чистая, идущая из сердца. И исцелялись люди! Да, они многое просто придумали. Нет никакого Опоньского царства. Но придумать такое могли только люди с поэтическим складом характера, с чистым сердцем и с жаждой по Богу. Любили на Руси колокола! Ведь колокольный звон объединял народ. Объединял для чего-то хорошего - для молитвы, для ратного подвига, для светлого праздника... Люди чувствовали себя одним целым. Эх, кто отлил бы нам сегодня такой колокол, чтоб зазвучал над всей страной! Чтобы всех разбудил, чтоб везде стало слышно, чтоб отдалось в каждом сердце! Может, тогда и открылось бы небо над нами, и услышал Господь, и отвел от нас беды?
Ксения Романова
(По статье Т.Агапкиной «Мать Пресвятая Богородица, колокол святой»: Какие звоны раздавались над Россией». «Родина», 1997, №1,2)
2012. газета "Вечный зов"
https://www.vzov.ru/2012/12_01-02/20.html
ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ КОЛОКОЛА НА РУСИ
Ошибочно считается, что колокола придумали католики. На самом деле они известны в православии с начала V в., когда свт. Павлину Милостивому, спящему на лугу, приснились ангелы, раскачивающие чудесные цветы-колокольчики, издающие мелодичный звук. Вернувшись домой, Ноланский владыка заказал несколько таких колоколов, которые за сотню лет совершенно покорили бывшую Римскую империю. На Руси они, скорее всего, тоже появились до разделения Церквей, хотя первое упоминание о них и относится к 1066 г. Сначала их делали греческие и европейские мастера, но ещё до монголо-татарского нашествия появились русские, поставившие колокольное мастерство на невиданную прежде высоту. Довольно сказать, что наши колокола могут брать 3 ноты: одну внизу, в месте удара, другую в середине и 3-ю – в верхней части колокола.

А.Васнецов. «Пушечно-литейный двор на реке Неглинной в XVII веке»
Первым решил использовать колокола для войны первый Иоанн Грозный. Но он как взял, так и вернул, велев восполнить Церкви этот урон. В одной Москве колоколов было тогда 5 тыс.. Что начиналось, когда все они звонили разом? Это был город-оркестр, где перезвоны пронизывали всё пространство. Были среди них и безымянные, но были и те, которыми гордились. Например, 160-тонным, сделанным по заказу государя Алексия Михайловича. Опытные иностранные мастера хвастались, что готовы сделать его «всего» за 5 лет, а молодому мастеру Емельяну Данилову понадобилось на это целых 9 месяцев. Был бы постарше, мог бы и раньше управиться. В ту же эпоху начали лить колокола из пушек – турецких да татарских – донские казаки. Народ был исключительно суровый, но веровал крепко. Со времён едва ли не более древних, чем Крещение Руси, русские воины-ветераны меняли меч на посох, становились монахами или православными странниками, отправляясь в ближние и дальние места для поклонения святыням. Было так и на Дону, где особым почтением пользовались Никольский монастырь близ Воронежа и Рождественский -Черняев в Шацке. Братия там была такая, что и не думай враг покуситься: старый казак, он и в рясе десятка басурман стоил.
В 1660 г. возведена была первая церковь в Черкасске, на правом берегу Дона, в 3-х десятках вёрст от нынешнего Ростова. В казачьих храмах и можно было увидеть колокола, в прошлой жизни стрелявшие по русским, да не дострелявшие и занявшие после переплавки место на звонницах. То же было и у запорожцев. Самым знаменитым из колоколов был полтавский «Кизекерман». Назвали его так по имени крепости Кызы-Керман, взятой казаками в 1695 г. Кроме османских пушек, пошло на него и 27 пудов серебра (почти полтонны), пожертвованных полковником П.Герциком ради такого славного дела и в память о русских воинах-казаках. Именно этот колокол, занявший место на звоннице Спасского храма, встречал Петра после Полтавской битвы. Впоследствии он раскололся и был переплавлен. Переселившись на Кубань, этой традиции – переплавлять орудия убийства в торжественные звоны – запорожцы не оставили. М.Цветаева писала:
Царю Петру и вам, о царь, хвала!
Но выше вас, цари, колокола.
Пока они гремят из синевы –
Неоспоримо первенство Москвы.
И целых сорок сороков церквей
Смеются над гордынею царей!
Это было несколько несправедливо, так как никто, кроме Петра, на колокола особо не покушался, а многие так, наоборот, очень любили украшать ими звонницы. Но Пётр был исключением. Иногда его пытаются обвинить за это сверх меры, иногда оправдать безо всякой меры, особенно советские историки и писатели. Истина лежит пусть и не посередине, но лишена ярко выраженного обличительного и славословящего пафоса. Присматриваться к колоколам у нас начали, ещё когда Пётр, можно сказать, под стол пешком ходил, а страной правила, по сути, его старшая и сводная сестра Софья. В Великом Новгороде и других местах она велела выяснить, сколько у нас есть неподписанных колоколов, то есть, менее ценных, отлитых по нужде, а не пожертвованных частными лицами. Колокола попроще велено было каким-то образом взвесить, то есть прицелилась на них власть совершенно определённо. Беда была в недостатке меди, которую ввозили в основном из Швеции. Стоил этот металл очень дорого – 5-6 руб. за пуд, цена 3-х лошадей. А для одной только пушки «Скоропея» меди потребовалось на 1200 руб. Безумно дорого – и огромно было искушение покуситься на десятки тысяч русских колоколов. Начал Пётр издалека, предложив, скажем, Иверской обители прислать либо 200 пудов меди, либо 1000 руб. деньгами. Про звоны умолчал, хотя лить их после этого практически перестали, а разбитые колокола отправляли в Москву. Но вскоре началась война со шведами, так что основного источника меди страна лишилась, а затем последовала нарвская катастрофа. Русская армия была не то чтобы совсем разбита, но потерпела поражение. Шведы, опасаясь её, всё ещё сильной, обещали отпустить с пушками, но обманули.
Так страна фактически лишилась артиллерии – 195 орудий, в том числе 64 тяжёлых осадных пушек, а это около 150 тонн медных сплавов. Отсюда и Петровский указ 1701 г., предписывающий всем монастырям и храмам страны отдать в казну четверть всех колоколов. И стали их снимать, чтобы повезти в Первопрестольную. Народ, ужаснувшись, сочинил тогда легенду, оправдывающую государя или во всяком случае смягчавшую его поступок: будто бы после нарвского поражения к государю явился некий бедно одетый странник, пообещав достать огромное количество меди. Царь изумился, спросил: «Откель?» Странник же показал на колокола и сказал: «Возьми их и перелей в пушки, а когда, Господь даст, победишь ты врага, так из его пушек вдвое можешь наделать колоколов…».
А вот другая история, такая же выдумка. Якобы оказавшись на Соловках, император задумал снять самые большие монастырские колокола. Монахи стали умолять не делать этого, но услышали в ответ: «А зачем вам колокола?» «Созывать народ к богослужению», – отвечали монахи. «Ничего, – отозвался государь, – если от вас народ не услышит звона, так пойдёт в другие церкви. Разве это не всё равно?». Но монахи не отставали, говорили, что умалится через отнятие колоколов слава святых соловецких угодников. Государь же ничего им на этот раз не ответил, а только приказал всем монахам вместе с игуменом монастыря отплыть на дальний остров архипелага и там слушать во все уши, что будет. После этого велел 3 раза позвонить в колокола, а потом 3 раза палить из пушки. Когда монахи вернулись, спросил: «Ну что же вы слышали?» «Мы слышали, – отвечали царю отцы, – точно будто из пушек палили». «Ну вот то-то и есть, – заметил царь. – Колоколов ваших вы не слыхали, а пушки славу мою до вас донесли! Так уж лучше давайте мне ваши колокола: я их на пушки перелью, а пушки эти славу святых угодников соловецких распространят до самого Стекольного города. Стокгольма, значит». Всё как бы логично. В советское время любили эту легенду, вспоминая, как сами ограбили храмы до нитки. Всё, да не всё. Общий вес колоколов на Руси составлял не менее 6 тыс. тонн. Четверть от этого, затребованная царём, вдесятеро больше потерянного под Нарвой. А это была уже обычная петровская гигантомания. Уже к маю привезли 90 тыс. пудов. Всё потерянное восполнили, но меди меньше вроде как и не стало, так – отщипнули.
Целые колокола поначалу вообще не трогали, они как стояли, так и стояли, в том числе один из самых прекрасных и древних на Руси, привезённый из Троице-Сергиевой лавры. В 1427 г. его подняли на звонницу ученики прп. Сергия Радонежского по благословению св. игумена Никона Радонежского. Осталось предание, что, когда колокол хотели разбить, он не поддался и гудел после этого трое суток. А когда о чуде сообщили царю, он заплакал и велел колокол вернуть. Это легенда народная. Есть легенда историческая, основанная на реальном приказе царя, сохранившемся в Пушкарском приказе. Он появился после того, как колокол нашёл среди других стольник Тимофей Кудрявцев: «Великий государь указал тот колокол вернуть, и за тот колокол иной меди колокольной или какой не имать, и велеть тот колокол в монастыре беречь». Реальность же несколько грустнее. Во время московского пожара 1701 г. колокол сильно пострадал, но спустя 7 лет мастер Иван Моторин отлил из него новый, который и был возвращён в Лавру. Справедливости ради нужно сказать, что государь не требовал, чтобы присылали именно колокола. Его устраивали и деньги, и другая медь. Более того, колокольные сплавы для литья пушек были малопригодны. Датский посланник Юст Юль вспоминал, как русские артиллерийские офицеры объясняли ему, что из-за колокольной меди у их пушек очень быстро прогорают затравки, после чего требовался значительный ремонт. Поэтому большая часть вины лежала на местных воеводах, которые слишком давили и торопили, а также на архиереях и игуменах.

«Лебедь» на звоннице Софийского храма Вологды
Вологодская епархия не отправила в Москву ни единого колокола, но царь был доволен безмерно. Что за чудо? А не было никакого чуда. Просто архиепископ Гавриил (Кичигин) был большим любителем церковного благолепия, а колокола так просто обожал. В 1688 г. по его заказу были отлиты в немецком Любеке колокола: один весом в 462 пуда для соборной колокольни и ещё два по 200 пудов. А тут возьми да отдай. Отправил только битые колокола, да котловую медь, да английское олово, а ещё красную медь – особо ценную, благодаря ей колокольная становилась пригодна для пушек. Что интересно, план перевыполнил на 2 сотни пудов – на всякий случай. Этот жест сильно смутил сидевшего на приёмке боярина И.А. Мусина-Пушкина, мол, нам лишнего не надо, чего это ты, владыка, разошёлся. Царь же был благодарен настолько, что отправил в дар владыке несколько больших колоколов, в том числе отлитый И.Моториным «Лебедь». Народная память, как водится, всё перепутала, сохранив легенду, что государь лично приехал в Вологду снимать колокола, но местный звонарь столь искусно сыграл для него «Камаринскую», что император смилостивился.
Вернёмся же к звонам, отлитым из пушек. Здесь можно помянуть тот, что хранится в Измаиле и был отлит по приказу А.В. Суворова после штурма. И другой – 300-пудовый, что был на звоннице величественного Кокандского собора. Его изготовили из пушек Худояр-хана. Имя колоколу дали в честь героя, эти орудия добывшего, – М.Скобелева. Увы, лишь четверть века он просуществовал. В 1934 г. до него добрались советские охотники за цветными металлами.
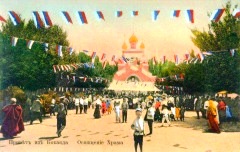
Старинная открытка с надписью: «Привет из Коканда. Освящение храма»
Ещё одна история связана с переселением запорожских казаков на Кубань. Когда знакомишься с нею, создаётся впечатление, что сначала решили отлить колокола, а уже потом выбрать храмы для них. Использовать решили пушки, отбитые у турок в войне 1787–1791 гг. Войсковой есаул З.Е. Сутыка с товарищами-офицерами согласились взяться за дело. 16 медных трофейных пушек и одну мортиру отвезли в Херсон, попросив, чтобы из них отлили 9 колоколов. «Мы бы рады, да олова нет» – отвечали литейщики. Олово шло по 25 руб. за пуд, а требовалось его немало. «Да и где искать?» – приуныли казаки. Нашли в Харькове – на ярмарке. Закипела
работа. Самый большой колокол вышел совсем уж знатным – 440 пудов, да и остальные весьма солидными. На опробовании звонов присутствовал сам Суворов, который, послушав гудение исполина, прослезился и сказал: «По ратным трудам черноморцев велик и сей звон!». И поплыли колокола, с помощью военных моряков, по Днепру, Чёрному морю, Кизилташскому лиману (через который раньше река Кубань впадала в Чёрное море). 2 колокола отдали в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Тамани, нашлось место и для остальных, а главный из звонов решили доставить в Екатеринодар, в недавно построенную Свято-Троицкую церковь. Везти предстояло против течения Кубани на байде, которую тянули воловьи упряжки. Храм стоял в недостроенном укреплении, где в один из дней услышали мощный глас казачий: «Эй, там, в крепости! Принимай колокольные звоны!». Сбежался весь город. Тащили с версту всем миром. А колоколенка-то была деревянная – казалось, семитонная махина её просто раздавит. Но выдержала – основательно строили! Так 25 июля 1795 г., на св. великомучеников Бориса и Глеба, обрёл Екатеринодар свой голос. Но самый знаменитый из таких «пушечных» колоколов, конечно же, таганрогский. Он знаком всякому, кто бывал в Севастополе и навестил Херсонес – место, где началась Святая Русь, где принял крещение св. князь Владимир. Колокол там находится не в храме, а висит в арке на берегу и именуется «Туманным». На фоне моря в арке он выглядит ошеломительно, да и история у него под стать – редкостная.

«Туманный» колокол в Таганроге, на мысе Херсонес
Начало её можно понять по едва различимой, но всё же понятной надписи: «Сей колокол… вылит… Святого Николая Чудотворца в Таганро… из турецкой артиллерии весом… пудов 1778 г. месяца августа… числа». При чём тут Таганрог? Именно там поначалу базировался Черноморский флот. В память о солдатах и моряках, погибших в тех местах, построили там Никольскую церковь. Такого рода колокола на берегу моря именовались у нас туманными, помогая кораблям в тумане находить путь к берегу.

Никольская церковь. Таганрог
Отлили звон, понятно, из турецких орудий, которым, похоже, переводу не было. Когда флот перевели в Севастополь, колокол отправился туда вместе с ним, где вновь созывал моряков на службы, а в годы Крымской войны воодушевлял наших воинов на оборону города. Когда в разрушенный Севастополь вошли враги и стали искать, чем поживиться, звон был снят для переплавки в пушки, но медных уже больше не делали. В конце концов его передали Собору Парижской Богоматери, где его и обнаружили русские в 1898 г. 15 лет шли переговоры о его возвращении. Успели перевезти незадолго до Первой мировой, подняв на звонницу Херсонесского монастыря, рядом с храмом Святого Владимира. Но не было покоя ни стране, ни звону. Вновь сняли его в 1925-м, решив отправить на переплавку, но моряки отбили, убедив пощадить, после чего «колокол, бывший в плену в Париже, был установлен на берегу моря для звона в непогоду». В 60-е, когда звон сменила сирена, он замолчал на целых полвека, и лишь в прошлом году был разомкнут замок, сковывавший его язык.

Это был его 240-й день рождения. В канун Преображения Господня ровно в полдень звонарь Свято-Владимирского собора А.Зайцев ударил в «Туманный колокол» – эту святыню моряков-черноморцев – 12 раз.
Владимир Григорян
18.04. 2019. газета "Вера"
https://vera-eskom.ru/2019....e-21579
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 13 Фев 2022, 20:10 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | «КАЖДЫЙ УДАР КОЛОКОЛА ОТРАЖАЕТСЯ В ВЕЧНОСТИ»
Почему звонарское послушание – страшное
Энтузиасты на средства президентского гранта купили оборудование, собрали по всей Сибири разбитые колокола и воссоздают их заново. О неожиданных находках, особенностях старых колоколов, почему звонарю нельзя подниматься на колокольню с холодным сердцем и как колокольный звон сопровождает шествие «Бессмертного полка».
Для А.Талашкина открытие мира колокольных звонов началось во время репетиций спектакля «Вий» по повести Гоголя. Его путь в этот мир пролегал издалека, с событий, совершенно не связанных с православной службой и колокольным звоном. В детстве он выучил с пластинки несколько юморесок и смешил знакомых родителей. Позже выступал в школьной и университетской командах КВН. На разборе выступлений КВН в Казани встретился с режиссером И.Рутбергом, влюбился в его талант и сразу же записался к нему на курс пантомимы. А на четвертой сессии получил роль семинариста в постановке «Вий».
– В роли семинариста сценарист видел не меня, а моего однокурсника, Василия с большими пластическими возможностями, но, видимо, Бог как-то иначе решил, отвел его. Так или иначе, Вася бросил учебу. И единственной подходящей кандидатурой оказался я, но мои возможности были несоизмеримо беднее задуманных в сценарии, поэтому было решено, что панночка будет двигаться, а бурсак – говорить. Получился интересный эффект на стыке 2-х миров: потусторонняя жуткая пластика и текст. На репетициях я впервые в жизни увидел вблизи текст 90-го псалма, начал ходить в московские храмы, чтобы напитаться церковной атмосферой. Репетировали мы каждый день и подолгу. Постепенно в моем сознании стерлась грань между вымыслом и реальностью. Композитор Н.Бабич предложил создать голос панночки из фрагментов композиций одной певицы, которая, кажется, была даже запрещена в США из-за своего сатанинского репертуара. На первом просмотре, когда по сценарию ночью панночка начинает выходить из гроба, я выкладывал круг из листов с текстом спасительной молитвы. Она не могла пройти эту прозрачную стену, начинала поднимать и бросать меня. После одного такого удара я на несколько секунд впал в ступор: забыл, как меня зовут, не понимал, где нахожусь, что делаю и почему на меня смотрят какие-то люди. В кульминации этой борьбы я находил веревку от большого колокола и звонил набат. Колокол был воображаемым, но звонил я по-настоящему. На меня так сильно повлияла эта работа, что после ее выпуска, вернувшись домой, я пошел учиться в школу звонарей.
– Звонарь – полноправный участник литургии?
– И литургии, и всенощного бдения – любого богослужения. Св. праведный Иоанн Кронштадтский писал, что богослужение начинается с первым ударом колокола. Церковный звон призывает на молитву, выражает торжество, настраивает на церковный день, несет проповедь, всё это не может случиться без живого участия звонаря. И когда в суете, шуме мегаполиса вдруг раздается уверенный и чистый голос церковного колокола, каждый в этот момент понимает, что изменяется само пространство – земная Церковь соединяется с небесной. Здесь правильно говорить о синтезе церковных искусств: архитектуре, иконописи, церковном пении, церковном чтении и колокольном звоне. Все едино. Вырви что-нибудь одно, и служение будет неполноценным.

Наши священники говорят, что на колокольню нужно входить, как в алтарь. Я спрашиваю себя: «А как я? С таким же благоговением?» Когда звоню, часто испытываю внутреннее ликование. Я понимаю, что звуки колокола, с одной стороны, земные, а с другой стороны – это голос Горнего мира, голос рая. Еще до революции на колоколах писали: «Благовествуй, земле, великую радость, хвалите, небеса, Божию славу».
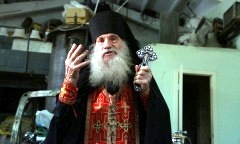
Как говорит руководитель Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии игумен В.Соколов, каждый удар колокола отражается в вечности: он слышен и на земле, и на небе. В этом смысле, звонарское послушание – страшное. Если неготовый звонишь, в нечистоте, тем более в гордости или прелести – это сразу слышно, на это сразу обращается внимание. Если воспринимать колокольный звон как духовное оружие, то получается, что это меч обоюдоострый, направленный и на меня тоже.
– На колоколах можно любую мелодию сыграть?
– Можно, но только на западных. В Европе получили распространение колокола, отлитые особым образом. Они звучат точно в ноту, на таких инструментах можно сыграть любую мелодию, хоть «Спокойной ночи, малыши», хоть произведения Генделя – все, что написано для фортепиано или органа.

В Россию карильоны привез царь Петр I, сегодня они звучат в Петропавловской крепости, в Петергофе. Изучая колокольные звоны, я мечтал услышать карильон, и когда встретился с ним в Петергофе – сразу узнал. Но чем больше слушал, тем больше мне становилось грустно – не такого звона я ожидал. Чего именно я ожидал – я и сам не понимал, но, в сравнении с церковным звоном, музыкальный хоть и представляет определенный интерес – проигрывает. Он говорит о земном, а церковный – о небесном.
Русская традиция колокольного звона иная. На Руси колокола подбирали по благозвучию. У русских колоколов свой особый путь, как и у России, своя особая культура, свой способ звона. На православных можно вызвонить не мелодию, а короткие фразы-попевки – перекличку 2-х-3-х колоколов. Единственное известное нам исключение, когда в колокольный звон вливается мелодия – трезвоны Московского Свято-Данилова монастыря. Старший звонарь иеродиакон Роман Огрызков, подняв архивные документы, узнал, что раньше в колокольный звон вплетали мелодию тропарей и в монастыре стали вызванивать тропарь Пасхи, тропарь Кресту. И, когда колокольный подбор целиком вернулся в Москву из Гарварда, восстановил эти звоны. Но это уникальный случай.
– Внутреннее состояние человека, его характер отражается в звоне?
– У каждого звонаря свой почерк. Имея определенный опыт слушания звонов и зная конкретных звонарей, можно определить, кто звонит. Мы в школе звонарей уже научились слышать и внутреннее состояние ученика – страх, смятение, душевное спокойствие или внутреннее воодушевление. Есть такое понятие, как пустозвон, когда просто звонят руки – без малейшей работы души. Но если в звонаре есть хотя бы капелька молитвы, если он хотя бы краем сознания осознает, что делает, для чего его батюшка благословил, если он в звон вкладывает хотя бы каплю своего сердца – Господь достраивает недостающее. Бывает, звонарь неумелый, а прихожане восторгаются звоном, плачут.
– Что вы переживаете на колокольне?
– Первоначальная влюбленность и восторг прошли. Возникла ответственность, но до сих пор я ощущаю радость. Обыденность не наступает, ей нет места, когда богослужение живет и оживляет: каждый день в церкви читают разные места из Евангелия, будничный день отличается от воскресного, а воскресный от праздничного. Стараешься выразить это в звоне. Бывает, что-то случится и не чувствовать этого нельзя. В этом году отрок попал под поезд. Мне отец Роман звонит и говорит: «Я сейчас еду отпевать Никиту». Как раз в это время оказался в храме и отзвонил погребальный звон. Сейчас в России звонят погребальный звон после молебна 9 мая. Звон этот призван почтить память воинов, погибших за Родину, всех, кто работал в тылу, всех, кто не жалел своей жизни ради Великой Победы. И когда в этот день стою на колокольне, с одной стороны, оживают образы моих дедов, а с другой – возникают образы известных и незнакомых воинов, они как будто смотрят на нас, как смотрят персонажи с полотен Глазунова. Эту связь нельзя не ощущать в звоне. Последние 5 лет наша передвижная звонница участвует в военном параде 9 мая в Новосибирске. Это важно для меня лично и имеет большое значение для всех новосибирцев, которые приходят на главную площадь города. Это видно по глазам людей, которые проходят мимо колоколов и слышат эти звоны.

Сегодня многие из нас утратили понимание колокольного звона и не все могут отличить, например, перезвон от трезвона. Но в шествии Бессмертного полка оживает память поколений, и каждый, кто несет портрет своего деда или прадеда, узнаёт этот погребальный звон о каждом, кто отдал жизнь за «други своя». Погребальный звон, звучащий над площадью надо всеми, сразу окрашивает происходящее любовью, ради которой эти колокола и отливаются, ради которой они и поют. А завершается шествие всегда кратким, но торжественным проводным трезвоном, символизирующим надежду на воскресение души и жизнь вечную, как это положено по уставу Православной Церкви.
– Алексей, расскажите о проекте, как родилась идея собирать и восстанавливать разбитые колокола?
– Все началось с коллекции из нашего Музея колокольного звона. Здесь собрана целая коллекция колоколов дореволюционного литья, большинство из которых имеют трещины и лишены голоса. Ремонтировать колокола очень непросто, а в ряде случаев – просто невозможно. Например, если колокол является экспонатом какого-нибудь краеведческого музея. А как он звучал – узнать очень хочется. Вот мы и решили повторить внешний и внутренний профиль колокола, а также хим. состав каждого изделия. Так мы надеемся в некоторой степени приблизиться к потерянному оригинальному звучанию. Наш проект мы назвали «Вернем колоколу голос», его реализует приход храма во имя М.Архангела в Новосибирске в партнерстве с Сибирским центром колокольного искусства, а финансирует Фонд президентских грантов. На выделенные деньги мы сможем восстановить 22 колокола. Разбитые колокола мы искали по сибирским регионам: более 11-ти тыс. км. проехали от Тюмени до Иркутска.

– Были неожиданные находки?
– Когда мы приехали за одним из колоколов в Тюмень, оказалось, что он пропал с колокольни Знаменского собора. И тут с нами связался звонарь И.Лисуконь из с. Угловского Алтайского края и предложил восстановить лопнувший колокол из местного краеведческого музея. Пожалуй, одним из самых интересных колоколов проекта является экспонат Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Его привез в Новосибирск в 1969 г. академик А.П. Окладников из своей Зашиверской экспедиции. В этом колоколе всё необычно: и форма, и орнамент, и хим. состав. Если классическая колокольная бронза состоит на 80% из меди и на 20% из олова, то здесь олова меньше процента, а заменено оно в полном объеме на цинк. Колокол разбит, и услышать его голос – особая радость.
– Еще интересные находки привезли из экспедиции? Какой колокол самый старый?
– Самый древний датированный колокол в проекте отлит из сибирской полевской меди в Екатеринбурге в 1731 г., попал в проект благодаря надписи. У Барабановского колокола из Красноярского края интересный растительный орнамент и глухой звук. У колокола из небольшого села в Тюменской обл. голос сохранен, значит, можно будет сравнить его звучание с голосом копии и увидеть, насколько удается его повторить при восстановлении. Всего 3 колокола, изготовленных на заводе Шишкина, обнаружено в Сибири, 2 из них в нашем проекте. Колокол, предположительно отлитый на фабрике «Якима Рязанова наследники», пострадал во время пожара. Единственный из подлинных колоколов Троицкого Рафаилова мужского монастыря с большой трещиной, которая проходит через все тело. Вообще у каждого из колоколов проекта своя история, каждый по-своему уникален.
– Ваша книга «Зов Чингисского колокола», получившая звание «Книга года» в номинации «церковно-краеведческая литература» на конкурсе «Сибирь-Евразия 2019», написана после экспедиции в с. Чингис, где, по рассказам местных жителей, разбили и затопили колокола с местного храма. Сегодня поиски завершены?
– На 1-м этапе мы нашли 5 осколков. На 2-м этапе в поисках баржи с разбитыми колоколами мы исследовали акваторию Оби, выяснили рельеф дна, нашли перепады до нескольких метров, но основную массу осколков разбитых в 1937 г. колоколов обнаружить пока не удалось. Сейчас поиски чингисских колоколов приостановлены. Мы сделали все, что в наших силах, ждем: может быть, откроется какая-то новая информация или свидетельство. Недавно позвонил выпускник звонарской школы и сказал, что совсем в другом месте – в районе Огурцово – рыбаки нашли колокол в Оби. Мы ездили туда перед самым ледоставом, но пока безрезультатно. В этом году продолжим поиски, еще раз пройдем по участку с цепью – если колокол выступает из дна даже на 20 см., мы зацепим и вытащим его.

Участники проекта сканируют колокол, отлитый на заводе П.И. Гилева сыновей в Тюмени
– Защита диссертации стала естественным продолжением вашего служения? Звонарю обязательно применять в своей работе научный подход?
– Существует много споров, достаточно ли церковному звонарю умения владеть колоколами или нужно изучать и кампанологические (кампанология – наука о колоколах) исследования. Мое мнение таково: как нельзя птице лететь с одним крылом, так нельзя звонарскому искусству развиваться без науки и без практического освоения. Одно помогает другому. Еще 15 лет назад в кампанологической среде считалось, что колокола в Сибири не отливались, а привозились из Москвы, а нам удалось найти уже около 100 фактов отливки колоколов в Сибири. Удалось собрать данные почти о трехстах колоколах, обнаруженных в Сибири. Собрали сведения о бытовавших до революции колокольных звонах, звонарях, о колокольных подборах.
– Кто может учиться на звонаря?
– Учиться может, наверное, каждый, но стать церковным звонарем сможет только человек верующий. Ведь, поднимаясь на колокольню, звонарь должен понимать: зачем он идет к колоколам. Муз. образование кому-то может помочь, а кому-то даже помешать. Но умение слышать инструмент, умение вычленить из общей массы звучания отдельные голоса каждого колокола – всегда пригодится звонарю. Я много лет звонил, не слушая колокола, только следил за ритмом. Но оказалось, это только необходимый минимум. Умение слышать каждый голос, умение пробудить этот голос, чтобы он был полногласным, без хрипов, без криков, чтобы колокола звучали и пели – это ключевые навыки звонаря.
– Есть мнение, что звонари со временем глохнут…
– Полноценных исследований на эту тему пока нет, поэтому говорить, что слух снижается – не совсем корректно. Да, бывает, что у звонаря развивается тугоухость, но неизвестно: связано ли это с колокольным звоном или, например, с возрастными изменениями. Кто-то пользуется наушниками и берушами, кто-то ничем не пользуется для защиты слуха. Поначалу я звонил только в наушниках, но потом постепенно отказался от этого – мне хочется слышать колокола во всей полноте. В учебном классе, когда ученики подолгу отрабатывают на тренажере какие-то элементы, конечно, лучше гасить вредные частоты.
– Почему так важно восстановить старые колокола?
– Колокол способен выразить то, что мы не можем выразить словом или мыслью. Он пронизывает звуком весь мир, проникает сразу в глубину души и связывает нас с небом. Поэтому мы так стремимся приблизиться к голосам старинных сибирских колоколов. Приблизиться к колокольным мастерам, к той утраченной и звонарской, и колокольнолитейной культуре – это значит еще глубже понять утраченное, войти в то состояние, которое было до катастрофы, случившейся с нашей Родиной в ХХ в. И, конечно, хочется расслышать эти голоса. Оживить это все – наша задача в проекте «Вернем колоколу голос». Как-то батюшка игумен В.Соколов пришел в цех благословить литье колоколов. Глянул на стену, на которой висят фотографии-портреты наших колоколов, отливаемых в проекте, и предложил дать им имена. Для него это все живое. Это важно не только для нас, но и вообще для всех, кто проникается нашей идеей. Выпускники нашей школы звонарей, посетившие литье колоколов, рассказывают, что теперь иначе подходят к колоколам, а когда звонят, то в их сознании колокола как бы расцветают, становятся алыми, какими были во время заливки. Если внутри будет мертво, то электронные звонари нас вытеснят за несколько лет. Технически они звонят лучше, чем люди, могут исполнить Московский, Ростовский и многие др. звоны. Но если самый неумелый звонарь вкладывает сердце, разум, память, любовь, ответственность, хотя бы в малой степени, его звон будет лучше самой искусной колотушки.
Татьяна Сушенцева
01.12. 2019. Правмир
https://www.pravmir.ru/kazhdyj....rashnoe
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 19 Янв 2023, 22:21 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | ЗВОНКАЯ ИСТОРИЯ
Когда едешь по разрывающимся от гула моторов и рявканья клаксонов современным трассам, то порой хочется перенестись в далекие времена - туда, где не было ни асфальта, ни скоростей, ни аварий, ни визга тормозов. А по трактам мчались резвые тройки да звенели лишь поддужные колокольчики... Может быть, поэтому и сегодня, когда мы слышим звук колокольчика, в душе пробуждаются и радость, и тревога, и вера в то, что все еще впереди - в конце дороги, где обязательно ждет счастье...

Проверить действие этой удивительной колокольной магии можно в Музее колоколов, что 8 лет назад открылся в Касимове Рязанской обл.. Большие и маленькие, с богатым и скромным прошлым - в витринах музея расположилось более 900 экспонатов, каждый из которых оставил свой звон в истории.

Многие думают, что колокольчики - предмет исконно русский и уж где-где, а в России-то испокон веку путь сопровождался звоном - об этом свидетельствуют многочисленные песни. Сразу вспоминается и "однозвучно гремит колокольчик...", и "динь-динь-динь, динь-динь-динь - колокольчик звенит...", и "слышен звон бубенцов издалёка...". Кажется, перезвон колокольчиков был неотъемлемой частью русской дороги. На деле это не так: в России поддужные переливы появились только в конце XVIII в. Звуковой сигнал был необходим, чтобы тройку было слышно, чтобы уступали дорогу, а на станциях заранее готовили сменных лошадей. Как же ямщики оповещали о своем прибытии до появления колокольчиков? Да очень просто: пальцы в рот и давай свистеть. Петр I такой сигнальной системой был крайне недоволен. Он решил заменить молодецкий посвист европейским вариантом и завез в Россию медный почтовый рожок. Но эта "срамная дудка", как окрестили ее ямщики, русским была не по душе. Во-первых, не слишком удобно править мчащейся тройкой, держа одной рукой дудку у рта. А во-вторых, климатические условия в Европе и России слишком отличаются: попробуйте подуть в металлический рожок зимой. Так что мужики нововведение игнорировали, и на почтовых станциях по-прежнему разливался разбойничий свист. "Только в конце XVIII в. кто-то придумал повесить под дугу колокольчик. Автор этой идеи неизвестен. Но колокольчик пришелся по душе, и все встало на свои места: и свист прекратился, и тройку было слышно за несколько верст". - рассказывает экскурсовод Касимовского музея колоколов С.Соловьева.

Поначалу звон был привилегией почтовых и курьерских троек, на частные повозки вешать колокольчики запрещалось. Но удержать людей было сложно. Несмотря на запреты, всем полюбилась езда со звоном. Богатые люди Касимова не просто вешали колокольчики, они пошли дальше: стали заказывать колокольчики со своими именами.

Образцы, сделанные по заказу касимовской знати, украшают витрину музея: есть здесь принадлежавшие знаменитому роду касимовских купцов Алянчиковых; экземпляр, которым владели яркие в местной истории братья Баташевы - целая коллекция касимовских колокольчиков рассказывает об истории города. Кстати, экскурсовод музея Фарида Голицына нашла в здешней коллекции колокольчик своих предков - теперь история ее семьи стала частью экскурсии. Приезжали сюда из Нижнего Новгорода потомки местного купца Верьина - в экспозиции обнаружился их фамильный колокольчик. Многие касимовские семьи могут найти здесь связь с предками, ведь Касимов тесно связан с колокольной историей. Первая ассоциация, которая возникает, когда речь заходит о поддужных колокольчиках, скорее всего, будет связана с Валдаем - именно валдайские колокольчики завоевали наибольшую известность. Однако Валдай был не единственной территорией, где рождались колокольчики. Два крупных колокольных центра находились в Тюмени и в Касимове. И если самыми популярными были валдайские колокольчики, то Касимов заслужил славу самого крупного центра по их производству - здесь отливалось огромное количество звенящего товара. В городе не было крупных заводов, изготовлением колокольчиков занимались кузнецы. Существовала даже целая улица, которая именовалась Кузнечной. Лёнины, Барановы, Лобзенковы, Маврины, Кисловы - история сохранила немало имен известных местных мастеров. У современных коллекционеров касимовские колокольчики ценятся очень высоко: считается, что звук у них чище валдайских, да и сохранилось их намного меньше.

В касимовском музее постарались представить всю колокольную историю, потому собрали в витринах достижения всех 3-х крупных центров ямщицких, или дужных, колокольчиков России. И тюменским, и валдайским, и касимовским отведены достойные места. Не забыли здесь и о центрах, появившихся позже. К примеру, село Пурех Нижегородской обл. - самый молодой колокольчиковый регион. Первый касимовский колокольчик датируется 1804 г.. А в Пурехе мастера начали отливать свои изделия только в середине XIX в. Поначалу это были копии валдайских и касимовских, зато потом, когда везде наблюдался упадок этого промысла, в Пурехе начался расцвет. Здесь появились крупные предприятия, причем отливали они не только поддужные колокольчики, но и мощные церковные колокола. Еще один колокольный центр находился в Вятской губернии: г. Слободской славился своими мастерами. Без изготовленных ими колокольчиков музей был бы неполным. В Касимове отливалось много колоколов, и среди кузнецов была высокая конкуренция. Нужно было так подать свое изделие, чтобы побольше продать. Тогда колокольные мастера придумали наносить по юбке всевозможные надписи. Чего только не писали! В том числе поговорки и шутки. Например: "Еду - поспешаю, народ потешаю", "Еду не свищу, а наеду - не спущу", "Каждый свят, пока черти спят", "Живи умненько, воруй маленько, будешь вор и добрый человек", "Не любо - не слушай, а звенеть не мешай"... Есть и такие, которые в наше время назвали бы рекламными: "Кто сей колокол купил, тот и счастье получил", "Купи, денег не жалей, ездить будет веселей".
Мастера могли и похулиганить - нередко наносили на свои изделия не совсем приличные надписи. Причем не стеснялись в выражениях, и зачастую на колокольчиках можно встретить непечатные слова. Кстати, такие экземпляры высоко ценятся у коллекционеров. Надо сказать, изготовители поддужных колокольчиков, похоже, не сильно церемонились с русским языком: во фразах часто встречаются орфографические ошибки. У каждого колокольчика можно заметить интересную деталь - к языку приделано кольцо. Сделано это не для красоты, а для соблюдения правил. Ведь вешать колокольчики на частный транспорт было запрещено. Конечно, запрет этот постоянно нарушали, но при въезде в город или при приближении к почтовой станции частник должен был привязать колокольчик, дабы своим звоном не ввести в заблуждение тех, кто готовил сменную тройку для почтового транспорта. Русскому человеку вообще сложно что-то запретить, он всегда придумает, как обойти закон. И изобретательный русский народ, конечно, придумал выход: да, колокольчики под запретом, но ведь про бубенцы ничего не сказано. Ими стали украшать сбрую - получался ошейник с бубенцами, который надевали на лошадь. Правда, звучанием бубенцы недотягивали до колокольчиков - звук получался глухой, поэтому их называли "глухарями". Не то, конечно, но, как говорится, на безрыбье... Впрочем, позже вешали и бубенцы, и колокольчики - так и громче, и праздничнее, всё как любит русский человек.

Помимо поддужных колокольчиков и бубенцов сбруи украшали колокольчиками другого вида - седёлочными. Их располагали на спине у лошади, ближе к шее - там, где проходили седёлочные ремни - седёлка. Существовали еще и подшейные колокольчики - эти образцы тоже представлены в экспозиции. Конические называли цыганскими - их вешали на шею коровам и козам. Трапециевидные именовались "ботало" - их обычно носили коровы. Ботало нужно было не только для того, чтобы хозяин по звуку мог найти свою потерявшуюся буренку, эти колокольчики выполняли еще и роль оберега - считалось, что его звук защищает животное от злых духов, от людского дурного глаза.

Есть в экспозиции музея и церковные колокола, которые нередко делали те же мастера, что изготовляли поддужные колокольчики. В музее можно увидеть разнокалиберных представителей колокольного семейства. Так, самый большой экспонат был отлит на Валдае, на заводе П.И. Усачевой. Весит он 600 кг. А отлит был "в молитвенную память царю Александру III". Еще один сюжет, связанный с Александром III: Семья царя возвращалась из Крыма, и на станции Борки, что под Харьковом, поезд, на котором они следовали, потерпел крушение. Несколько вагонов сошло с рельсов, было очень много жертв, а вот из царской семьи серьезно никто не пострадал. В народе это посчитали божественным знаком, и в честь этого чудесного спасения решили отлить колокол — деньги на него собирали всем миром. И вот в 1890 году на предприятии Павла Павловича Рыжова, купца первой гильдии, почетного гражданина города Харькова, был отлит колокол. Был он из чистого серебра и весил 17 пудов. К сожалению, этот серебряный гигант не сохранился до наших дней - был переплавлен на монеты. Но в музее все-таки есть экспонат, имеющий хотя бы отдаленное отношение к этому историческому факту - здесь представлена рында, которая была создана на том же заводе Рыжова.

Кстати, корабельные рынды также представлены в музее. Еще Петр I издал указ: судно свыше 12 м. на своем борту обязано иметь сигнальный колокол. Рынды отличаются и формой, и размером. Самая большая в местной коллекции принадлежала крейсеру "Мурманск". Есть в экспозиции и иностранные образцы. Одна из заморских рынд принадлежала британскому судну "Фредерик", которое было затоплено еще в годы Первой мировой войны. Самому старому экспонату касимовской коллекции почти 350 лет - это колокол для храма Успения Богородицы, что в селе Ирицы Шиловского района, отлитый в 1673 г. Храма давно нет, а вот колокол уцелел и хранится в музее. Вообще, родиной колоколов и колокольчиков считается Древний Китай. Именно там мастера изобрели сплав олова и меди, а потом заметили, что изделия из этого сплава имеют прекрасное звучание, а иллюстрацией может служить сигнальный колокол из Китая.

"Конечно, не из первых изобретенных, но посетители сразу могут заметить отличия от наших: нам привычны колокола с языком внутри, в китайский же бьют снаружи звуковым молоточком. Звук получается красивый, но совсем другой, непохожий на звон наших. Да и форма другая - у нашего юбка расклешенная, а у этого зауженная". - рассказывает С.
Соловьева.
Что касается первых христианских колоколов, то их родиной считается итальянский город Нола в провинции Кампания. Существует красивая легенда, как это произошло. В V в. епископ этого города, св. Павлин Ноланский, как-то шел по полю, поросшему колокольчиками. Он прилег отдохнуть, уснул, и ему приснилось, что ангелы спускаются с небес и звонят в эти цветы-колокольчики. Очень понравилось ему это звучание, он вернулся домой и заказал мастеру отлить колокол в виде цветка. Когда изделие было готово и в него ударили, вокруг разлился красивый звон. С тех пор колокола отливают именно так. Павлин был канонизирован и в православной, и в католической церкви. На иконах его изображают с колокольчиком в руке. Конечно, это лишь легенда, и никто не может точно сказать, как и когда появились колокола, но не исключено, что все именно так и было... Есть здесь и колокольный прародитель - до изобретения христианских колоколов народ на богослужение собирали при помощи била. В музее с есть гражданское било, на котором сохранилась интересная надпись: "время трудиться, время срамиться". С помощью этого сигнала созывали и работать, и "срамиться". Ведь какие-то спорные вопросы было принято решать сообща, собираясь на площади. Люди кричали, спорили, ругались - одним словом, "срамились".
В касимовском музее есть звонница - она позволяет представить размеры колоколов и их иерархию. Самый большой колокол называется "благовест". Уже из названия понятно, что он нес благую весть, созывал народ на богослужение. Поменьше - подзвонные, самые маленькие - зазвонные. Экскурсовод демонстрирует, как работает звонница, и по музею разливается густой, бархатный звон. "Это старинная звонница, - объясняет Светлана, - есть у нас и еще одна, современная, сделанная не так давно по заказу нашего музея, чтобы люди могли почувствовать разницу в звучании". А разница, надо сказать, существенная: если у старинных колоколов звук глубокий, насыщенный, с долгим и мощным послезвучием, то у современных какой-то дребезжащий, поверхностный. На вопрос, почему звук настолько отличается, Светлана вздыхает: "Наверное, прежние мастера знали секреты. Может, были какие-то тонкости в пропорциях олова и меди. Ведь эти знания по крупицам собирались годами - некоторые династии существовали на протяжении веков. Все накопленные знания потеряны, поскольку в советские времена почти не было колокололитейных производств, и в России были утрачены все секреты мастеров. У современных, конечно, очень красивый дизайн, но чего-то не хватает".
Поначалу отечественные кузнецы не владели искусством отливки колоколов, и этот товар привозили из Западной Европы. Дело это было хлопотное и дорогостоящее. Догадались привезти европейских мастеров, чтобы они обучали искусству изготовления колоколов. Первые небольшие мастерские появились в Киеве в XII в. В XV уже был первый завод, ну а после XVI в. вся Русь "зазвенела". Появились целые династии знаменитых российских колокололитейщиков. Самгины работали в Москве, Усачевы - на Валдае, Оловянишниковы - в Ярославле. И, конечно, у каждого семейства были свои секреты. А вот примета у всех была одна. Перед тем как мастер приступал к отливке колокола, он запускал в народе заведомо нелепый слух или сплетню. И считалось, чем дальше молва разнесет этот слух, тем колокол получится звонче. Когда мастер что-то рассказывал, говорили: не верьте ему, он сейчас колокол заливает. И до нас дошло выражение, которое и до сих пор используют в современной речи. Про человека, который врет, и сегодня часто говорят: "заливает"
По мнению экскурсоводов, не обязательно быть верующим человеком, чтобы почувствовать на себе воздействие колокольного звона - нередко гостей музея пробирает до мурашек, когда демонстрируется звучание старинной звонницы.Сразу вспоминается "малиновый звон"... Когда у туристов спрашиваешь, что означает это выражение, кто-то вспоминает про малиновку, кто-то пытается проводить аналогию - малиновый, красный, красивый. Дело в другом. Первые колокола с приятным, бархатным звучанием были отлиты в бельгийском г. Мехелен - на французский манер он произносился как "Малин". Петр I привез эти колокола в Россию, и их звон стали называть малиновым - по месту изготовления. Со временем история про город забылась, и осталось только название, и сегодня красивый звон на Руси так и называется малиновым. Часто можно слышать, что колокольный звон по-особому действует на организм. Наверное, частоты, на которых звучат колокола, обладают таким воздействием. В старину различные болезни лечили колокольным звоном, от эпидемий спасались, если на город надвигалась опасность, начинали звонить в колокола и днем, и ночью. И были случаи, когда зараза обходила стороной. Современные исследования доказывают, что колокольный звон обладает некоторым дезинфицирующим свойством, под его воздействием уничтожаются некоторые вирусы и бактерии. В давние времена депрессию, плохое настроение лечили колокольным звоном. И вообще, считалось, что даже личностные качества человека улучшаются, когда он слышит колокольный звон. В нем просыпается все самое лучшее и доброе. Может, потому на Руси так любили колокола? И нередко наделяли их свойствами живого существа. Неслучайно составляющие колокола названы по аналогии с частями человеческого тела. Колокол на звоннице крепили за уши. Потом все следовало как у человека - шея, плечи, тулово... Самая широкая часть у поддужных колокольчиков - это юбка, или сарафан, у больших церковных - губа, по которой изнутри ударял язык.

Этот колокол отлит он в Гатчине на заводе Лаврова. На своем заводе он отливал пушки, бронзу усовершенствовал, сделал более прочной. Так что когда на его заводах стали отливать колокола, они отличались особой крепостью - Лавров давал 10 лет гарантии на свои изделия. Лавровский колокол, представленный в касимовской коллекции, был отлит по заказу купца И.Мартынова в честь рождения долгожданного наследника. Колокол, естественно, пожертвовали храму. Раньше не говорили "подарить или пожертвовать" - говорили "приложить колокол". На них часто можно встретить надпись "сей колокол приложил...".
В годы советской власти многие церкви были разрушены, имущество разграблено. Конечно, досталось и колоколам. Часть была продана за границу, часть - переплавлена на бронзу. Многие колокола просто сбрасывали с колоколен, и они разбивались. Верующие собирали и бережно хранили эти осколки - спустя много лет они пополнили экспозицию Музея колоколов. М.Силков, который собрал всю эту обширную коллекцию, хранил все, что связано с колоколами. Жаль, внуки Михаила Петровича не сохранили фотографии... У нас здесь кого только не было - и китайцы, и индусы, и индейцы. Многие знаменитые люди приезжали и говорили, что музей у нас замечательный". - говорит Фарида Голицына. Он и правда такой - и интересный, и разнообразный, и по провинциальному душевный. А самое главное - звонкий. И звон этот пробуждает в душе каждого посетителя самые светлые чувства.
Зоя Мозалева
05.12. 2022. журнал "Русский мир"
https://rusmir.media/2022/12/05/kolokola
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 29 Июн 2023, 13:28 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | УГЛИЧСКИЙ ССЫЛЬНЫЙ

худ. С.Блинков. Царевич Дмитрий
В 1591 г. в Угличе погиб царевич Дмитрий, сын И.Грозного и его последней жены Марии Нагой, именно с этого момента принято считать начало Русской смуты. С подачи Карамзина и Пушкина с его «Борисом Годуновым» принято считать, что в смерти царевича виноват именно Б.Годунов. К моменту смерти царевича не исчезла возможность появления законного наследника у царя Федора, ведь последний умер лишь спустя продолжительное время после описываемых событий в 1598 г. Поэтому сложно поверить, что Годунов обладал даром видения будущего и мог предусмотреть все на года вперед.
Что-то вроде судебного следствия по Угличскому делу рассматривал Освященный собор во главе с патриархом Иовом. В ходе заседания 2 июня митрополит Геласий огласил устное заявление М.Нагой, которая признавала расправу над Битяговскими и другими свидетелями делом неправым и просила снисхождения для своих родственников. Собор обвинил Нагих и угличан в самоуправстве и попросил светскую власть назначить им наказание.

Предположительный портрет Марии Нагой
В итоге М.Нагая была пострижена в монахини под именем Марфы, Шуйский казнил 200 угличан, а 60 семей 1 апреля 1592 г. сослал в Сибирь (в основном, в Пелым). Но с точки зрения права, интересен вердикт в отношении зачинщика самоуправства - набатного колокола Спасского собора Углича, в который били чтобы известить горожан о смерти царевича, по сути с его набатного боя начались беспорядки.

По обычаю, того времени, осужденных в ссылку преступников метили, лишая возможности побега: клеймили, рвали ноздри, за особые провинности отрезали уши и языки. Кое-кто из угличан тоже тогда лишился языка “за смелые речи”. Набатный колокол, звонивший по убиенному царевичу, сбросили со Спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо, принародно на площади, наказали 12 ударами плетей. Вместе с угличанами отправили его в сибирскую ссылку в Тобольск. Так в истории отечественного права первый и последний раз появились неодушевленный субъект преступления, но дальнейшая судьба колокола имеет еще и интересный подтекст, с традиционно полагающимся бюрократическим антуражем.
В Тобольске тогдашний городской воевода князь Лобанов-Ростовский велел запереть корноухий колокол в приказной избе, сделав на нем надпись “первоссыльный неодушевленный с Углича”. В 1837 г. по распоряжению архиепископа тобольского Афанасия колокол повесили при Крестовой архиерейской церкви под небольшим деревянным навесом. С этого времени угличский колокол сзывает к богослужению, бывающему в Крестовой церкви, но доколе он висел на соборной колокольне, в него отбивали часы и при пожарных случаях били в набат.
В 1890 г. колокол был куплен у архиерейской церкви Тобольским музеем и стал его собственностью. Колокол стал для Тобольска настоящей достопримечательностью, туризм еще тогда был развитой отраслью, а такой предмет был весьма премиальной туристической приманкой, ни один турист не опустит из виду, чтобы не повидать первоссыльного угличского колокола, сосланного Годуновым в 1593 г. Лишь только пароход пристанет к пристани, то извозчики первым долгом предлагают обозреть его и при этом начинают рассказывать историю Углича.
Но время шло вперед. С XVIII в. убийство царевича стараниями Карамзина и Костомарова стало фактом (вот так история сплетается с правом), признанным правительством и освященным церковью. Расправу угличан с тех пор считали выражением их патриотизма и преданности царской власти. Значит не заслуживали они того возмездия, которому подверглись при Годунове. Это соображение утвердилось в сознании угличан, и в декабре 1849 г. они пожелали каким-нибудь внешним образом ознаменовать не заслуженность позора, которому 2,5 века тому назад подвергся их город. И вот угличане, в числе 40 чел., подали прошение министру внутренних дел о возвращении ссыльного колокола. Когда об этом доложили императору Николаю I, он распорядился: “Удостоверясь предварительно в справедливости существования означенного колокола в Тобольске, и по сношению с г. оберпрокурором Святейшего Синода, просьбу сию удовлетворить”.
Дело поступило в Святейший Синод. В Тобольске создали комиссию во главе с археологом-любителем протоиереем А.Сулоцким “для изыскания свидетельств, подтверждающих подлинность ссыльного колокола”. Комиссия установила, что колокол не тот. Оказалось, что угличский колокол расплавился в 1677 г. во время жуткого пожара, а в XVIII в. отлили новый колокол - такой же по весу, но отличающийся от прообраза по форме.

П.Конюскевич, митрополит Сибирский и Тобольский, “для отличения его от прочих колоколов” приказал учинить на нем надпись следующего содержания: “Сей колокол, в который били в набат при убиении блг. царевича Димитрия в 1593 г., прислан из города Углича в Сибирь в ссылку во град Тобольск к церкви всемилостивого Спаса, что на торгу, а потом на Софийской колокольне был часобитный, весу в нем 19 пуд. 20 ф.”
Получив такое сообщение Священный синод в возвращении ссыльного колокола отказал. Казалось бы, простейшее решение для цивилиста, никакой виндикации, ибо нет предмета истребования. Но в нашем Отчестве ничего не бывает так просто и понятно.

Через некоторое время об опальном колоколе опять вспомнили угличские земляки, проживающие в Петербурге, в том числе угличский мещанин и питерский купец 2-й гильдии Л.Ф. Соловьев. Он, конечно, знал, что находившийся в Тобольске колокол не является подлинным, что его принадлежность Угличу ничем не докажешь. Но он и не собирался этого делать. Иную поставил купчик перед собой цель - передать родному городу этот вновь отлитый колокол к 300-летию ссылки, чем заработать славу и для Углича, и, прежде всего, для себя самого, “принимающего участие в достохвальном событии”.
Соловьев понимал, что волокита с получением колокола могла длиться долго, и предложил Угличской гор. думе еще в 1887 г. возобновить хлопоты о возвращении колокола. В январе 1888 г. он собирает около 60-ти проживающих в Петербурге угличан, председательствует на этом собрании и делает доклад: Наш изгнанник-колокол по суду истории, оказалось, терпит незаслуженное наказание, ссылку по оговору, Настало время исправить ошибку, снять позор с невинного. Давайте ходатайствовать о его возвращении на родину. Звон его в нашем родном городе напомнит о том счастливом времени, когда Углич был не забытым далеким углом, а цветущим торговым городом, имевшим далеко не малое значение в семье других русских городов. Пусть наши земляки под его звон вспомнят далекое прошлое своего города, пусть под этот звон они воспрянут духом, и, по примеру своих прадедов, постараются поставить свой родной город на тот уровень, на котором он был в более счастливые времена!
И тут начинается бюрократическое приключение. Угличане, проживающие в Петербурге, просили думу родного города предоставить полномочия Леониду Федоровичу для ходатайства о возвращении колокола из Тобольска в Углич. Гор. голова Углича решил обратиться к ярославскому губернатору. Губернатор ответил, что со своей стороны не видит препятствия к обсуждению в Угличской думе вопроса о возвращении ссыльного колокола. Наконец дума обсудила этот вопрос и предоставила Соловьеву полномочия - ходатайствовать о возвращении колокола. Тот сразу же организовал в столице общество земляков-угличан, которое в Петербурге иронически называли “обществом колокольного звона”.
За своей подписью и печатью председателя Угличского общества о возвращении колокола предприимчивый купец отправил письма министру внутренних дел и синодальному обер-прокурору, ярославскому архиепископу и тобольскому епископу. В апреле Соловьев уже сообщает в Углич: “По высочайшему повелению ходатайство наше удовлетворено. Теперь мы обсуждаем, как нам лучше и торжественнее возвратить колокол в наш родной город. Мы надеемся, что жители Углича со своей стороны тоже позаботятся об этом”. Однако в Тобольске посчитали распоряжение его превосходительства министра внутренних дел недостаточным, ждали, когда вопрос решит “его величество”, поскольку сослан колокол по распоряжению царя Б.Годунова.
“Я затрудняюсь дать согласие к отправлению в Углич находящегося в Тобольске при домовой архиерейской церкви колокола, так как этот колокол вовсе не составляет собственность архиерейского дома. Желающие возвратить его в Углич пусть имеют переписку с начальником Тобольской губернии г. Тройницким”, - писал в 1889 г. Авраамий, епископ Тобольский и Сибирский ярославскому епархиальному архиерею. Пыл Соловьева на некоторое время остыл, но через год проявился с новой силой.
В июне 1890 г. Леонид Федорович пишет в угличскую гор. управу, что гор. управление Тобольска колокол по его просьбе не отдает, что это, мол, их собственность, и просит управу написать свое ходатайство в Тобольск. В июле вновь обращается “с усердной просьбой” - воздействовать на тобольскую управу. Видимо, ходатайство в Тобольск было послано, поскольку в декабре Соловьев сообщает в Углич, что тобольские губернатор и архиерей колокол не отдают, и предлагают управе просить ярославского губернатора направить прошение о возвращении колокола в Правительствующий Сенат для доклада императору Александру III. Гор. управа, считая ссыльный колокол в Тобольске не настоящим, не решилась вводить в заблуждение губернатора, и тем более, императора. Угличская гор. дума на заседании 28 декабря 1890 г. приняла следующее постановление: “Во избежание излишней и. бесплодной переписки с г. Соловьевым по настоящему делу, прекратить с ним всякие отношения и предложить г. Соловьеву освободить на будущее время гор. общественное управление от дальнейших своих заявлений по настоящему вопросу”.
Испытывая на себе длительную напористость Соловьева, гор. управа для крепости попросила вручить ему ответ через петербургскую полицию. Что и было сделано. Но тот продолжает действовать самостоятельно через ярославского губернатора и Святейший Синод.
Из Углича писали Соловьеву: “Милостивый государь, Леонид Федорович! Многие угличане душевно сочувствуют Вам, но официально выходит, напротив. В заседании 11 июля в думе слушали Ваше письмо, посланное начальнику губернии. По прочтении председатель, он же гор. голова, заявил: “У нас поставлено - с Соловьевым никаких переписок не иметь...” Будет ли это написано в журнале гор. думы, не знаю. Что ответят господину начальнику губернии по Вашему письму, вероятно, Вас уведомят. Если угодно Господу Богу, осуществится желание угличан, да поможет Вам царевич Димитрий. Угличанин.”
По-иному отнеслись к заявлению Соловьева в Святейшем Синоде. Там не стали долго разбираться с этим делом, даже не пытались проверить, тот ли церковный колокол находится в Тобольске, а просто доложили о просьбе угличан императору Александру III. Государь “на всеподданнейшем о сем докладе... изволил собственноручно начертать: “Я полагаю, что все-таки вернуть его обратно в город Углич можно, так как в Тобольске он совершенно не нужен и легко заменить его другим”.
Указ о возвращении церковного колокола был получен в Угличе 27 октября 1891 г. и на следующий день рассмотрен в гор. думе, которой ничего не оставалось, как объявить глубокую благодарность живущим в Петербурге угличанам и лично Л. Ф. Соловьеву за успешное ходатайство их перед Синодом и царем. Соловьев был в восторге. “С момента объявления мне высочайшей резолюции не могу нарадоваться благополучному исходу дела, тяготевшего надо мною около 4-х лет, вовлекшего в большие расходы и породившего массу неприятностей. Но слава Богу, все это пережито и вся брошенная в меня грязь исчезла яко дым”. - писал он в Углич.
Но в Тобольске не сдавались, готовя доклад в Священный Синод: “Ввиду вновь обнаруженных несомненных доказательств того, что имеющийся в музее колокол не есть подлинный угличский, и ввиду того, что он для Тобольска представляет значительный исторический интерес, так как более 2-х веков слыл в народной молве ссыльным, обращал на себя всеобщее внимание, что в 1837 г. в бозе почивший император Александр II, посещая еще наследником престола Тобольск, изволил сделать в него удар и таковой же удар сделал ныне при посещении музея августейший наш покровитель, ходатайствуем об оставлении на месте находящегося ныне в музее колокола”.
Затем Соловьев пишет в Углич: “Я представлялся господину министру гос. имуществ и господину обер-прокурору Святейшего Синода, у последнего тотчас же познакомили меня с ходатайством тобольского губернатора об оставлении исторического колокола навсегда в Тобольске, так как Углич никогда не владел. 28 сего декабря я вновь представился перед министром гос. имуществ с просьбою о выдаче окончательной справки. Получил бумагу, из коей видно, что ходатайство Тобольского губернского музея его превосходительством отклонено. Своевременное заявление мое господину министру гос. имуществ помогло в деле, а то бог весть что могло случиться".
И вот в “Сибирском листке” (1892 г. № 8) появилось следующее сообщение: “Наконец спор тоболяков с угличанами из-за ссыльного колокола окончился. Комитет Тобольского губернского музея просил министра гос. имуществ вторично доложить государю императору дело о злополучном колоколе. На днях министр уведомил комитет музея, что не считает удобным утруждать особу его величества вторым докладом об этом деле. Таким образом, угличане скоро явятся в Тобольск, заберут “свое сокровище” и водворят его на прежнее место...”.

фото С.М. Прокудина-Горского. Угличский колокол
Начался торг по купле и продаже колокола. В Петербург приезжал тобольский гор. голова Трусов и в переговорах с Соловьевым вначале спросил за передачу колокола 15 тыс. руб. Но Тобольский музей назначил цену в 600 руб., объяснив, что столько уплачено за отливку нового колокола для архиерейской церкви, который повешен взамен снятого угличского. Позднее, когда эта сумма была уже уплачена, Соловьев сообщил угличскому гор. голове: “В годовом отчете расходов Тобольского музея значится: на отливку нового колокола для архиерейской церкви израсходовано 360 руб. 65 коп.”.
Так что тобольские власти все же запросили с угличан значительно больше. Но угличскую управу и местное духовенство это ничуть не смущало. Главное - возвращается на родину “первоссыльный неодушевленный”. Не смущало и другое обстоятельство, что церковный колокол совсем не тот, а лишь копия его, изготовленная позднее. В представлении угличан и всех верующих он должен быть “способным на святые деяния и чудеса”, а о многих “приключениях” ссыльного колокола народу сообщать не стали. Так в представлении людей он остался ““невинным страдальцем” и предметом особой святости. Колокол предстояло доставить на родину и устроить ему пышную встречу. Этим были озабочены представители местной власти и православной церкви.
20 мая 1892 г. в 11 час. ночи, во время перенесения колокола с парохода на южный вход паперти Спасо-Преображенского собора, двухтысячная толпа народа сопровождала колокол при неумолкаемом “Ура!”.. На всю остальную часть ночи избран был из числа граждан, под управлением купца Н.А. Бычкова почетный караул в присутствии 2-х полицейских надзирателей. 21 мая к окончанию в соборе божественной литургии, около 10 час. утра колокол повешен был на особо устроенном перекладе, а в собор прибыло все гор. духовенство и все представители гор. и общественного управления. По окончании литургии духовенство в преднесении святых икон Преображения господня, Югской богоматери и св. царевича Димитрия, вышло на соборную площадь и здесь совершило благодарственное Господу Богу молебствие... Однако, как бы то ни было, а дело с получением колокола Соловьев довел до конца. И с 1891 г. стал ходатайствовать о предоставлении ему звания Почетного гражданина Углича. Дума вынесла решение дать ему такое звание, а почти через год в апреле 1893 г. ярославский губернатор сообщает угличскому гор. голове, что “государь-император по представлению министра внутренних дел соизволил на присвоение Л Ф. Соловьеву звания почетного гражданина города Углича”.
https://zakon.ru/blog....lchikov
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 17 Авг 2023, 20:45 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | ВОЛОГОДСКИЙ ЗВОНАРЬ ОЛЕГ ТИМОФЕЕВ: «КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН ПРИХОДИТ К ЧЕЛОВЕКУ САМ»
Какие секреты открывает и таит колокольный звон церквей? Как приобщиться к древнему ремеслу?

- Как вы стали звонарем?
- В середине 90-х учился в муз. училище по классу духовых и ударных, времена были трудные, и я откликнулся на приглашение стать певчим в вологодском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Как-то проходя по мосту, услышал колокольный звон с кремлевской колокольни - поднялся, разговорился: как живете, где научились? «Все сами, - говорят, - заходи, научим!»
Если копнуть глубже... Наверное, дело в том, что я из поколения малолетних антисоветчиков. Родился в 1974-м, увлекался музыкой, религиозной культурой, иконами. Когда вместо прежних комсомольцев пришли новые деятели, понял: ничего не меняется, надо оставаться во внутренней эмиграции и искать отдельную нишу. С 1997-го увлекся звонарским искусством. На тот момент ансамбль колокольни Софийского собора существовал уже 8 лет.
- Обучались по особой нотной грамоте?
- Изначально звонари следовали народной вокальной традиции, передавали мастерство из рук в руки. Ноты появились в конце XIX в., вместе с исследователями традиции. Их записывал известный виртуоз и теоретик русского колокольного звона Константин Сараджев.
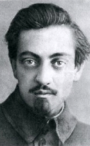
Мы, увы, не застали ровесников века - старичков, звонивших в Псково-Печерском монастыре, Ростове Великом и московских колокольнях, - изучали звоны по нотам и собственной «физике».
- Каждая развеска колоколов уникальна, а значит, вам всякий раз заново приходится выстраивать их созвучие?
- Да, каждая историческая колокольня имеет уникальный подбор и развес колоколов - тут нужна высокая адаптивность. Сейчас технологии позволяют заказывать наборы бил, которые будут схожи, как детдомовцы. Раньше же колокола закупались постепенно, звонницы формировались десятилетиями, даже столетиями, но опытные звонари поймут их за несколько минут.
- Какая колокольня стала любимым инструментом вашего ансамбля?
- Та, на которой чаще звоним, - наша, софийская, у нас 24 колокола.
- Каждый из пяти участников ансамбля звонит в свою группу?
- Колокольня - наш общий индивидуальный инструмент; мы просто обязаны все усвоить, овладеть всеми колоколами.
- Можно ли сказать, что вы достигли уровня прежних виртуозов?
- Традиция - вещь, которая живет во времени и немного меняется вместе с ним, мы стараемся ее сохранять.
- Существует ли годовой круг звонов, приуроченных к праздничным и будним дням православного календаря?
- В Церковном Уставе прописано, когда и как бить; звонов не так уж много, но есть несколько исполняемых один или два раза в год.
- Какую роль играли звоны в дохрамовую эпоху?
- Сигнальную, они звали на молитву. В древние времена били дубинами в подвешенные на столбах деревянные палки, затем появились металлические била, в послемонгольский период - византийские колокола, потом - европейские. Приезжали мастера, обучали местных литейщиков и звонарей, а наша традиция развивалась в связи с изменениями технологий литья. К XVIII в. в России образовались прекрасные умения, и сейчас эти колокола звонят и в Ростове Великом, и в Московском Кремле, и у нас.
- С каким самым древним колоколом вам довелось пообщаться?
- Наверное, главное открытие случилось в Псково-Печерском монастыре. Там находятся колокола XVII–XVIII вв. с очень интересной технологией звукоизвлечения. Мы бьем в языки, а они в очеп - веревкой, привязанной к раскачивающей колокол балке. Язык свободно болтается, и внятно звонить довольно непросто. В России чаще звонят в языки - они позволяют извлекать более филигранные звуки.
Самый мощный колокол, с которым довелось познакомиться, - ростовский «Сысой».

Он весит 4 тыс. пудов, около 65 т., его раскачивают вдвоем, а самый интересный - тысячепудовый Успенский колокол Московского Кремля. Он висит довольно низко, в него нужно заходить и качать изнутри. Казалось бы, звук должен оглушать, но эта масса создает накатывающие волны: звон словно замирает вокруг тебя, это очень мощное ощущение.
- Существует ли опасность оглохнуть?
- Многое зависит от того, как извлекаешь звук: принцип «громче крикнешь - дальше слышно» тут не работает. Древние архитекторы - умные люди, все акустически просчитывали и промеряли. Современные же колокола, случается, лязгают по ушам.
- Искусство отливки сегодня не на высоте?
- Напротив, и сегодня делают вполне достойные инструменты. Промеряют древние колокола, создают профиля и сплавы, и все-таки копии дают несколько иной звук вследствие их чистоты. Раньше было больше глиняных примесей и повсюду лили несколько по-разному.
- Существуют профессиональные фестивали колокольной музыки?
- Да, с 90-х годов, их довольно много. Мы делимся опытом, но конкурсы практически не проводятся - мериться силами у церковных людей как-то не принято. Правда, в Каменск-Уральском действует Уральский колокольный центр, проводящий конкурсы специально для своих выпускников и студентов, это довольно интересно.
- Много ли в России звонарских школ?
- Да, как правило, они образуются при семинариях и духовных училищах, в каждой программе свои нюансы.
- В ваш цех все активнее приходят женщины?
- И девушки, и даже дети, очень талантливые, звонящие лучше взрослых.
- На какую творческую встречу вы пригласили бы неофита?
- Например, в столичный Данилов монастырь, там служат люди, как и я, начинавшие в 90-е годы. Многое связано с географическим положением - в Москве несколько школ, есть хорошие в Екатеринбурге и Ярославле.
- Дарит ли работа мистические чувства?
- Очищает ум, ведь человек - существо по большей части иррациональное: на нас влияет звук, свет, цвет, форма, тактильные ощущения.
- Но восприятие классической музыки подразумевает некое психоэмоциональное соавторство, а колокольный звон буквально обдает нас из заоблачной выси...
- Разумеется, церковь - не оркестр: колокольный звон приходит к человеку сам, человек, может, и не сразу в храм зайдет, но прислушается, глядишь - отступят житейские волнения, и мысли обратятся к Создателю. Тут все работает исподволь.
- А что влияет на вас в большей степени - процесс звукоизвлечения или качество наступающей тишины?
- Важно и то и другое. Как исполнитель, я должен звонить достойно и внятно, а человек со стороны больше ориентируется на понятность, но мистическое сознание в любом случае творит с нами великие вещи.
- Хоровое пение так же очищает душу?
- Безусловно. Это прекрасная вещь, завязанная на резонанс наших частот в голове, груди, животе, доставляет и огромное физическое удовольствие. Равно как и работа на колокольне - звонари не занимаются нелюбимым делом.
- Звонарство - это и духовная практика, и искусство, и приключение...
- Каждая колокольня - отдельный мир звукосочетаний. Недавно мы побывали в костромском Железноборовском монастыре, вроде ничего особенного: ну, колокольчики висят, а так все хорошо подобралось, что хотелось сутки звонить, до того успокоительно. У каждой колокольни свой голос, настраивающий на что-то особенное: где-то веселенькое, хоть плясовую бей, а где-то хочется звучать тихо-тихо и долго-долго.
- Каждая колокольня - особый инструмент, а окружающий ее ландшафт - акустический резонатор.
.- Это так, колокольня - звуковое лицо храма, но порой современные бетонные церкви неудачно резонируют с жилыми кварталами. В лесах и на природных возвышенностях - иное дело; тут уместно сравнение с цифровым и аналоговым звуком. Не каждый звук человек слышит ухом, что-то грудью, или животом, или пятым чувством. Все наши органы - единый аналоговый инструмент, не предназначенный для употребления цифровых раздражителей души. И все-таки человек относится в колокольному звону иначе, чем к физической акустической волне.
- Недаром с колокольным звоном связано немало легенд, и Москва звалась городом сорока сороков. Сегодня даже невозможно вообразить себе этот симфонический звук; а сохранились ли на Руси города, где звонари регулярно составляют концерты?
- Да, на вологодской Соборной горке 3 храма на расстоянии 100 м. - у нас радостный пасхальный перезвон. Правда, раньше колокола были слышны за 20 верст, а сейчас звуки поглощает фоновый шум, но так бывает не везде.

Недавно мы побывали в усадьбе Островского, а в паре километров стоит деревенский храм в Николо-Бережках - и звук летит прямо по лесу: идешь и не понимаешь, откуда звон, - прямо райская радость.
Алексей Коленский
10.08. 2023. газета "Культура"
https://portal-kultura.ru/article....eku-sam
XIV ФЕСТИВАЛЬ ЗВОНОВ «ДАНИЛОВСКИЕ КОЛОКОЛА»

24 сентября, с 12:00 до 14:00 час., на Соборной пл. Данилова монастыря пройдет XIV Фестиваль звонов «Даниловские колокола». Звонари-виртуозы из разных уголков России исполнят самобытные региональные колокольные звоны. За выступлением звонарей можно будет и наблюдать на большом экране, установленном под колокольней.
https://msdm.ru/news/16940894342913
Адрес монастыря: ул. Даниловский Вал, 22, стр. 4, м. "Тульская", "Серпуховская", "Шаболовская"
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 05 Дек 2025, 13:53 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7548
Статус: Offline | ОРКЕСТР КОЛОКОЛОВ
Как услышать симфонию в колокольном звоне
Колокольный звон – это не просто часть церковной службы, а особый язык, на котором общались жители Древней Руси. Он звал людей к молитве, будил город на праздник, предупреждал об опасности, сопровождал народ и в радости, и в горе. В прошлом каждый храм, каждый город имел свой звук – свой ритм, тембр и манеру звона, по которым люди узнавали, что происходит, даже не выходя из дома. Ростов Великий стал одним из главных центров этого искусства: здесь колокола не просто звучали – на них играли как на муз. инструменте, создавая настоящие звоновые «мелодии». Сегодня ростовские звоны – не музейный экспонат, а живая традиция. Знакомясь с ними, мы не просто слышим прошлое, а прикасаемся к культурной памяти, которая до сих пор звучит в настоящем.

Звонница Ростовского кремля
Ростовскую звонницу построил в 1689 г. митрополит Ион (III) Сысоевич. Он любил колокольные звоны, очень серьезно отнесся к установке колоколов, их расположению и строительству подколокольных сооружений. В 1841 г. паломник иеромонах Иероним (Суханов) был так потрясен местными колокольными звонами, что даже сделал их нотную запись. Она была найдена в 1993 г. А.Б. Никаноровым. Запись была самодельной, и до сих пор специалисты спорят, как правильно читать эту странную партитуру. В 1851 г. собиратель русских древностей И.П. Сахаров свидетельствовал, что на колокольне Ростовского Успенского собора звонили по нотам, на три настроя – Ионинский, Акимовский и Дашковский, хотя эти ноты до сих пор не найдены.
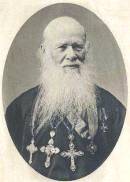
Ключевой момент в колокольной истории произошел в XIX в., когда ростовский священник, протоиерей Аристарх Израилев, очень талантливый акустик-самоучка, придумал способ измерения частоты с помощью набора собственноручно изготовленных камертонов. Тогда А.Г. Столетов даже заказал у него такой экземпляр для Императорского Московского университета. В 1884 г. вышла книга Израилева с подробным описанием ростовских колоколов и партитурами звонов. Это единственные сохранившиеся на данный момент нотные дореволюционные записи такой музыки. В 1919 г. большевики хотели уничтожить уникальные колокола. Тогда нарком А.В. Луначарский по просьбе директора Ростовского кремля Д.А. Ушакова лично приехал в город с группой ученых и помог спасти их. Петр I в свое время также хотел перелить ростовские колокола на пушки, но от него тогда откупились какими-то безумными деньгами,.
В 1963 г. звукорежиссер к/с им. М. Горького А.Матвеенко и звукорежиссеры киностудии «Мосфильм» И.Урванцев и Ю.Михайлов сделали две записи ростовских звонов для фильма С.Бондарчука «Война и мир», а в 1967 г. вышел художественно-документальный фильм «Семь нот в тишине», который рассказывает о разных муз. жанрах, в том числе о ростовских колокольных звонах. В те годы звоны производили старейшие на тот момент местные звонари: А.Бутылин, М.Урановский, П.Шумилин и Н.Королев. Алексей Погарский подчеркивает: Благодаря этим записям они смогли передать нам дух живой традиции. В последующие годы регулярные колокольные звоны в Ростове были приостановлены и возобновились в 1989 г.. У большинства колоколов на звоннице есть названия, у каждого – свой размер: самый большой «Сысой» весит 32 т, «Полиелейный» – 16 т. Человек, производящий звон, находится внутри этого колокола. «Лебедь» весит 8 т, «Голодарь» – 2700 кг, «Баран» – 1280 кг, «Красный» – 480 кг, «Козел» (Тихоновский) – 320 кг, а «Ионафановский» – 106 кг. Также на колокольне расположено 4 безымянных и 3 зазвонных колокола.
Ростов Великий является столицей российской колокольной традиции, потому что именно в этом городе сохранился исторический набор уникальных колоколов, единственная нотная запись исторических звонов и звукозапись тех звонарей, кто помнил живую дореволюционную традицию. В 2018 г. по приглашению директора Ростовского кремля Н.С. Каровской А.Погарский вместе со специально собранной группой опытных звонарей попытались собрать воедино три этих составляющие и провели очень большую работу. Однако знакомство Алексея с ростовскими колоколами произошло задолго до этого.Первый раз он оказался в Ростове Великом в 1986 г. на школьной экскурсии. Ребятам рассказали про звонницу, но подняться на нее почему-то было нельзя. А снова он попал туда уже только в 2014 г. Тогда Погарский сделал свою первую запись в Ростове и обнаружил бездну между тем, что слышал на звоннице и что было на всех без исключения записях. Огромная разница между тем, как колокольный звон слышится снизу и как его слышит сам звонарь. Все записи звучали ушами слушателя, но Алексею захотелось, чтобы они звучали ушами звонаря. Он понял, что хочет записать колокола так, как записывают симфонический оркестр.

В самом начале своей работы он столкнулся со многими сложностями. Запись на общие микрофоны не давала яркого тембра и правильного баланса, мешали окружающие шумы, ближние кардиоидные микрофоны звучали странно и не решали проблему тембра. Было непонятно, как правильно расположить ближние микрофоны, добиться правильного звукового баланса. Перед звукорежиссером при этом стояли достаточно серьезные задачи: красиво и достоверно передать звук больших колоколов, взять под контроль железный призвук колоколов и собрать сложное пространство звонницы в цельную звуковую картину, напоминающую запись оркестра. Взять информацию об особенностях такой записи было практически негде.
Великолепная работа В.Киранова «Технология звукозаписи колокольных звонов» была опубликована только в 2021 г. Тогда я только Погарский нашел статью П.Кондрашина «Практика записи православных богослужений», в которой автор коротко и емко обобщает свой личный опыт. Там можно было прочесть очень ценные советы, но они были лишь небольшим дополнением к основной теме статьи. Он признается, что теперь записывает на «круговые» микрофоны всё: рояль, орган, хор, ансамбль средневековой музыки и оркестр русских народных инструментов, СО и Санкт-Петербургский оркестр импровизации. Но именно запись ростовских звонов стала первой, позволившей Алексею найти наиболее эффективный способ звукозаписи, передающий весь объем и красоту звучания. Возможно, послушав ее, вам захочется посетить Ростов Великий. Зайдите в Успенский собор и обязательно поднимитесь наверх, на звонницу, чтобы живьем почувствовать дух колоколов, В 2019 г. на Первом Международном конкурсе звукорежиссеров Московской гос. консерватории его запись ростовских звонов была отмечена премией. В итоге решением большинства проблем стали «круговые» микрофоны, которые он установил совершенно новым способом.
Наталья Малахова
1.12. 2025. Православие.ру
https://pravoslavie.ru/174208.html
|
| |
| |