|
МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ
|
|
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 21 Май 2012, 00:18 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | " Я НЕ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, НО ВСЕ, ЧТО Я ГОВОРЮ О БОГЕ - ПРАВДА...” *

- В наш журнал пишут разные люди, как правило, искренне ищущие Истину. Часто нам задают один и тот же вопрос, сформулировать который можно так: Зачем ходить в храм, выполнять какие-то правила, придуманные священниками? Ведь человек уже встретил Господа, зачем же эту светлую встречу омрачать какими-то условностями: заучиванием молитв, чтением всевозможной церковной литературы? Ведь самое главное в жизни человека уже произошло: он уверовал!
- Самое основное - это встреча с Богом и то, что человек встретил Бога, выбрал Его своим Богом, посвятил Ему свою душу и жизнь. И если бы человек жил в отрыве от всего христианского общества, то он мог бы на этом остановиться. Например, в древности люди узнавали о существовании христианской Церкви, принимали крещение и порой больше никогда не имели общения с Церковью, потому что жили в других частях римского государства или в местности, где не было христианских общин и священников. Поэтому, конечно, главный вопрос в том, чтобы сохранить в себе этот живой опыт, опыт встречи с Богом.
Наше богослужение, церковные правила развивались очень постепенно, и развивались они в помощь, а не в ограничение молитвенной свободы или лирической открытости Богу. Иногда у нас нет слов. Рвется душа к Богу и хочет Ему что-то сказать, но слов нет. А если посмотреть в молитвенник, то можно найти слова, которые написали святые. Потому что они тоже оказались в таком же положении, им хотелось что-то сказать от себя Господу. И они это выразили в той или иной молитве. Но тут надо учитывать то, что, во-первых, совершенно немыслимо идентифицироваться, слиться с десятком молитв вечернего или утреннего правила, как будто они просто твои. Ведь каждая из них написана каким-то одним святым, и он вложил туда свой опыт о Боге, о своей собственной судьбе, о том, как он видит жизнь и мир. И когда мы их читаем, мы не можем просто сказать: “Я всецело заодно с этим святым”. Но я могу быть честным и сказать: “Я ещё неопытный, я не знаю точно, как выражать самое глубинное, что во мне есть по отношению к Богу". И вот я возьму ту или иную молитву, именно те молитвы, которые уже доходят до моей души, и буду читать. Причем буду говорить вместе со святым - от себя. Что-то я могу сказать честно его словами, но от себя. Чего-то я сказать не могу, я ничего об этом не знаю. Приведу пару примеров.
Помню, когда я был подростком, то "насмерть" поссорился с товарищем. Я пришел к моему духовнику, отцу Афанасию и говорю: “Батюшка, что делать? Когда я читаю молитву “Отче наш” и дохожу до слов “и оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим”, я не знаю, как это сказать, потому что не прощаю, не могу простить и никогда не прощу”. Отец Афанасий сказал: “А в чем проблема? Когда дойдешь до этих слов, скажи: “Господи, не прости мне моих грехов, так же как я не прощаю Кириллу, моему другу”. Но я не мог так сказать, я хотел быть прощенным. А батюшка сказал: “Хочешь, но не можешь. Иди домой…”. Через некоторое время я вернулся и услышал слова духовника: “Ну, если не можешь, тогда “перепрыгни” через эти слова”. Я попробовал, но не смог, потому что хотел быть прощеным. Опять вернулся. И услышал: “А ты хотел бы быть в состоянии ему простить - чтобы хоть это доброе намерение Бог принял от тебя?” -“Конечно, хотел бы!” - “Когда дойдешь до этого места скажи: “Господи, в меру того, как мне хочется простить его, Ты и меня прости!”. И так батюшка меня через эту молитву “протянул” до момента, когда я сообразил: я поссорился из-за пустяка - и ради этого себя лишаю Божьего прощения?…
Другой пример того, как мы можем пророй положиться на слова молитвы и на молитву святого, когда у нас нет ни веры достаточной, ни уверенности. У меня был такой позорный случай. Когда я жил с бабушкой и мамой, у нас в квартире завелись мыши. Они полками бегали, и мы не знали, как от них отделаться. Мышеловки мы не хотели ставить, потому что нам было жалко мышей. Я вспомнил, что в требнике есть увещевание одного из святых диким зверям. Там начинается со львов, тигров и заканчивается клопами. И я решил попробовать. Сел на койку перед камином, надел епитрахиль, взял книгу и сказал этому святому: "Я ничуть не верю, что из этого что-то получится, но раз ты это написал, ты, значит, верил. Я твои слова скажу, может быть, мышь поверит, а ты молись о том, чтобы это получилось". Я сел. Вышла мышь. Я её перекрестил: “Сиди и слушай!”- и прочел молитву. Когда я кончил, перекрестил её снова: “Теперь иди и скажи другим”. И после этого ни одной мыши у нас не было! Вот вам два примера, оба позорные в том, что касается меня. Но это говорит о том, что мы не можем просто взять молитву святого и прочесть ее, как будто она наша, и думать, что мы на уровне святого или "отделались". Вопрос в том, что читать те или иные молитвы не так просто. Надо эти молитвы продумывать, “процеживать”. Надо выбирать те молитвы, которые тебе подходят.
Есть в одном письме святителя Феофана Затворника слова, где он говорит, что когда ты читаешь псалом, и на второй строчке все твое внимание уйдет в слова и они тебе в душу ударят, останься с этими словами. И вот этому надо учить людей. То же самое относится к хождению в церковь. Там люди могут встретить Бога каким-то особенным образом. Но если им надо встретить Его под контролем правил, они, может быть, и не придут второй раз. В Париже у нас была дама, заведующая домом престарелых. Она была искренне верующей, приняла православие по убеждению. Она была французской графиней, очень элегантной, культурной женщиной. Когда она первый раз поехала в Россию, то пошла в храм в своем лучшем платье, в лучшей шляпке, с накрашенными губами. А старушка в храме повернулась, посмотрела на неё и сказала: “Миленькая, да в храм нельзя входить разряженной, как проститутка. Дай-ка я тебя поправлю!” Она плюнула в платок и вытерла ей лицо…
Так часто случается, когда человек приходит ещё незрелый. Ему все указывают: того не делай, этого не делай. А надо дать человеку войти и на своем уровне погрузиться в то, что происходит в церкви. Знаете, богослужение, молитва похожи в каком-то смысле на то, как мы можем пойти на концерт и слушать произведения великого композитора. Всего мы не можем воспринять, но что-то до нас доходит. И по мере того, как мы снова это слышим, мы созреваем и все глубже и глубже уходим в этот музыкальный, психологический, а затем духовный мир данного композитора. То же самое нам надо делать с людьми, которые приходят в церковь. То есть не требовать от них невозможного.
- Владыка, в Церкви, по идее, люди должны быть если не святыми, то хотя бы стремящимися к Свету, к Господу. Почему же даже в этом святом месте мы часто встречаем недостойных людей?
- Вопрос справедливый. Я думаю, что дело священников и сознательных мирян - воспитывать других людей в правде, в чистоте. Это просто несчастье, что на самом деле в Церкви порой происходит то, о чем вы говорите. Но все-таки это Церковь, откуда - вот что меня поражает - Христос не уходит! Потому, что Он пришел грешников спасти, и Он пришел с ними быть и хоть Своим присутствием что-нибудь в них изменить. И если мы верны Христу, то можем забыть, что за человек стоит рядом.
Думаю, что мы всегда можем найти в другом человеке много нехорошего. Однако если я знаю, что пришел в Дом Божий, что здесь живет Христос, что Он до сих пор распят ради тех людей, которые недостойны Его воплощения, Его учения, Его смерти и Воскресения, то закономерен вопрос: “А я-то каков? Неужели я могу осудить этого человека, которому никто никогда не помог стать другим? Что я могу сделать для этого человека?” Не просто сказать что-то красивое, а что-то сделать для него, на себя посмотреть и начать себя уважать.Мне кажется, что первое, чему мы должны научиться - это уважать себя самих и, конечно, другого.
- Одна знакомая жаловалась мне, что ее сын стал... ходить в православный храм! Он был художником, но бросил искусство, к науке стал относиться с подозрением, свое прошлое увлечение стал называть исчадием ада. С тревогой она спрашивала меня, не является ли Православная Церковь такой же сектой, как некоторые другие религиозные организации? Ведь именно в секте человек становится косным, не способным воспринимать все многообразие мира. Может быть, говорила она, Православная Церковь - символ косности, не успевающей за современностью?
- Быть христианином - это значит быть таким человеком, который может в любую ситуацию, в любые занятия внести свет Божий. Конечно, есть развратная музыка и есть возвышенная музыка, есть искусство, того или иного рода; но не искусство виновато, а виноват данный человек, который ищет и старается выразить что-то, что в нем есть, и оно у него выходит уродливо. Так же, как человек, у которого нет слуха, но который хочет петь - у него все, что он ни запоет, звучит ужасно. И нет такой сферы в культуре, которая не может быть освященной. Если мы возьмем историю Церкви, то, например, святой Иоанн Дамаскин писал стихи и музыку. Многие иконы были написаны святыми. А научные исследования - это попытка как можно глубже познать мир, каким Бог его сотворил, и то, что с ним произошло из-за человеческого отпадения от Бога.
После средней школы я учился в Сорбонне, изучал физику, химию и биологию, а затем учился на медицинском факультете, где я получил откровение о Боге. Я одновременно начал открывать и тайны мироздания, и то, что писали святые отцы и духовные авторы. И это слилось у меня в одно. Это не значит, что так обязательно случится, но это не вина науки, литературы или музыки. Я думаю, что мы должны быть готовы встретить всё, что есть на свете в области знания, культуры, вглядеться, что в этом есть такое, что говорит истину о Боге и о человеке. И помочь другому разобраться в этом.
- Владыка, в августе этого года должна состоятся канонизация новомучеников и исповедников, пострадавших в годы советской власти. Среди них в лике святых предполагается прославить последнего Российского Императора Николая II и всю царскую семью. Сейчас в нашей стране существует множество мнений по этому поводу, ибо личность царя вызывает много вопросов. Каково Ваше отношение к канонизации и Императору Николаю?
- Я думаю, что канонизация царской семьи законная вещь и справедливая. Потому, что происходит не канонизация монархии как таковой, а канонизация человека или группы людей. Это не попытка занять позицию “монархисты против немонархистов”. Это признание того, что из себя представлял Государь император как человек и как он рассматривал свое место в России. Как человек, мы знаем, он был нравственным, чистым, с открытой душой. Его отношение к своему служению было классическим: монарх перед Богом представляет всю свою Родину и всех своих подданных. Поэтому, когда пришло время распятия России в ужасах гражданской войны, революции и последующих десятилетий, он счел невозможным от этого уйти. Ему предлагали бежать из России в Англию, но он отказался, потому что считал, что представляет Россию перед Богом и народом, и что если его страну распинают, то и он должен принять распятие. Это, как мне кажется очень точно выражено в стихах, которые записала одна из дочерей государя, великая княжна Ольга:
… И у преддверия могилы
Вдохни в уста твоих рабов
Сверхчеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.
Они именно отдавали свою жизнь в единстве с русским народом и с Родиной. Именно это важно для канонизации: личная нравственность, личное осознание ответственной солидарности с судьбой России, с русским народом…
- Сейчас распространено мнение что необязательно регистрировать брак. Если люди верны друг другу и любят друга - почему они должны дожидаться какого-то обряда и до этого срока откладывать близость?
- Знаете, за столетия у нас сложилось сложное отношение к любви человеческой, к телесному и душевному общению и к браку как таковому. Один из отцов Церкви писал, что мир не мог бы существовать без таинств, и во всем языческом мире осталось одно таинство после падения человека - это брак. Потому что это то действие, через которое Бог соединяет двух воедино и присутствует в этом единстве. Но это значит, что эти двое должны действительно друг друга любить, они должны стать действительно едиными. В христианском опыте брак - это икона взаимного отношения Христа и Церкви! В сущности, разница между сожительством по любви в полной чистоте и браком церковным в настоящем смысле слова именно в том, что в светский брак еще не есть икона Христа и Церкви. И вот если говорить в этом смысле о браке церковном по отношению к гражданскому или просто взаимной любви, соединяющей 2-х, тут есть ещё один момент: самое главное здесь то, что в церковном браке Христос вступает в семью и раскрывает новые горизонты взаимоотношений между людьми.
- Многие люди, приходя в храм, замечают там очень много обыденных отношений, бытовых сцен - а ведь именно от этого большинство из них бежали и пришли в Церковь! Они ждут чистых, сейчас принято говорить - “неформальных” - отношений между людьми...
- Знаете, в древности, в самом начале, люди соединялись с Церковью, зная, что это смертельно опасно. Первое поколение христиан было чистым, потому что принадлежать Церкви значило быть готовым на мученичество. Потом Церковь была признана государством, и положение изменилось. Теперь принадлежать к Церкви ничего подобного не значит. И потому, в этом смысле, Церковь стала в значительной мере светским обществом, которое верит в Бога, во Христа. Но в этой Церкви есть главные моменты, которые спасительны. В этой Церкви есть люди, которые, действительно, всю жизнь отдали Христу, для которых встреча со Христом было переменой всего. И они незаметно в этой среде находятся. Кроме того, Церковь - это место, где мы можем встретить Бога, так, как мы не можем встретить Его на улице. Хотя и бывает, что мы Его встречаем совершенно в неожиданных обстоятельствах. Это больше относится к войне, чем к мирному состоянию. Мне довелось видеть, как люди просыпаются от греховной жизни на войне. Или, например, в период, когда у нас в эмиграции была неописуемая беднота и голод, но маленькая группа людей создавала маленький храм в каком-нибудь подвальном помещении, и этот храм был местом убежища для Христа Спасителя... В мире, который Его отверг, люди голодные, холодные, бедные создавали место, которое Ему полностью принадлежит.
Но когда тихо и мирно - оказывается, что это делать гораздо трудней. Ведь мы говорим о Церкви как о Доме Божьем. Это место, где Бог живет. Это место, куда мы приходим к Нему и понимаем, что Он тут есть. И порой люди это чувствуют. Я помню одного человека, который как-то зашел в наш храм. Он должен был передать посылку нашей прихожанке, хотя сам был безбожником. Он хотел прийти к концу службы, но когда зашел в храм, ему “не повезло” - служба ещё не отошла. Он сел в глубине церкви. После, когда все уже ушли, он продолжал сидеть. Я подошел к нему и попросил выйти, так как нужно было закрывать храм. А он говорит: “Я хочу знать, в чем тут дело? Я неверующий, но у меня чувство, что что-то здесь происходит. От чего такое ощущение? От мерцания свечей, от заунывного вашего пения или это коллективная истерика? В чем дело?” Я ответил, что, с моей точки зрения, это Божье присутствие, но если Бога нет, то у меня нет ответа для него. Этот человек захотел прийти в храм ещё, но только тогда, когда не будет людей. Он опасался какого-либо “гипнотического влияния”, как он сказал. Приходил три-четыре раза и все время чувствовал чье-то присутствие. “Знаете, я заметил ещё, что люди приходят в церковь с одним выражением лица, а уходят с другим, с каким-то просветленным. А когда они идут по ступенькам и что-то получают от вас, то у них глаза другие. Значит что-то происходит. Если ваш Бог пассивный, Он мне не нужен, но если активный - это дело другое. Давайте встречаться и говорить о Нем”… Через год он крестился.
Этот храм и люди в нем, конечно, не святые; но самые обыкновенные люди, коллективно стоящие в присутствии Христа - вдруг делаются носителями чего-то. И если ты обращаешь внимание не на людей, а на то, что создается соборностью, тогда ты можешь уловить что-то, несмотря на греховность людей. Знаете, я священник уже 50 лет с лишним, и я нехороший человек, но то, что я говорю о Боге, - правда. И если то, что я говорю – правдиво, то, несмотря на мою греховность, это может до человека дойти. Есть такое японское присловье: “Если ты стреляешь из лука в цель, твоя стрела не пробьет центра мишени, если одновременно не пробьет твоего сердца".
http://sinergia-lib.ru/index.php?page=antony&id=712
|
| |
| |
| NK | Дата: Понедельник, 21 Май 2012, 13:59 | Сообщение # 2 |
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 323
Статус: Offline | Замечательно, что на сайте появилась православная страничка. Замечательно, что открылась она интервью с митрополитом Антонием Сурожским. Потому что в этом интервью есть ответы на многие вопросы, которые возникают у людей, только пришедших к вере в Бога или людей, задумавшихся об этом. От банальных (с виду):
- «Зачем ходить в храм, учить молитвы, читать церковную литературу, если ты уже уверовал?» (это для тех, кто считает, что главное – Бог в душе, а принимать участие в жизни Церкви не нужно);
- «почему часто встречаются в храме недостойные люди?» до более глубоких (канонизация царской семьи, разница между сожительством по любви в полной чистоте и церковным браком и др.)
Интервью очень понравилось. Особенно запали в душу два фрагмента. Один, о том, как духовник постепенно, по шажочку, привёл Антония Сурожского (когда он был подростком) к прощению друга, благодаря сознательному, а не формальному чтению молитвы «Отче наш».
Другой, о том, как неверующий человек, зайдя в храм только для того, чтобы передать посылку, попал на службу и вдруг почувствовал что-то необъяснимое для себя, а потом пришёл к вере. Когда увидела вот эти сведения об Антонии Сурожском: «После средней школы я учился в Сорбонне, изучал физику, химию и биологию, а затем учился на медицинском факультете, где я получил откровение о Боге…», то вспомнила пятнадцатилетней давности «увещевания» одной своей знакомой. Тогда я делала первые шаги к вере. Знакомая говорила: «Как ты можешь в это верить?! У тебя же техническое образование! Ты же учила физику!» Жаль, что тогда я не знала об образовании Антония Сурожского. Это, наверное, было бы для неё поводом задуматься. Впрочем, прошло несколько лет, и она крестила свою внучку.
P.S. Ещё очень понравился фрагмент об избавлении от мышей в квартире по молитве святому.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 05 Авг 2012, 21:40 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | О СЛОВЕ БОЖИЕМ
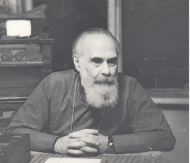
Митрополит Сурожский Антоний. Как часто с любовью вспоминается это имя людьми, лишь недавно вставшими на путь реального воцерковления, решившимися не называться, а быть христианами, услышать Бога и ответить на Его любовь. Все они, обращаясь к наследию владыки Антония, находили образец честного отношения к себе и к своей вере, причем образец этот был не из далеких времен христианской древности, а в жизни нашего современника, служившего Богу на Западе, в условиях главенства секулярного мира, навязывающего отнюдь не христианские ценности. Сегодня все мы живем в этом секулярном и, можно сказать, языческом мире, где понятие веры во Христа является скорее бесплатным приложением к образу жизни современного человека, который, по слову русского философа И/Ильина, преследует одновременно различные цели и служит, одновременно разным «богам» [И.А. Ильин. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. - М.: Дар, 2005].
Именно такой внутренне разделенный человек (а таковым может быть как неофит, так и церковный человек со значительным «стажем» жизни на приходе) в творениях вл.Антония призывается встать на трудный, но благодатный путь борьбы с неискренностью и самообманом, на путь реальной жизни под водительством не собственных мечтаний, а Духа Святого. Иными словами - на путь спасения. Миссионерская значимость творений вл. Антония определяется особым живым слогом, чуждым высокопарных и далеких от жизни рассуждений, что почти сразу ставит человека перед выбором предстояния Богу Живому или следования удобным, но мертвым схемам внешнего благочестия, на путях которого нет Христа. Митр. Антоний Сурожский позволяет нам по-новому осмыслить такие, казалось бы, простые понятия, как покаяние, смирение и послушание. Каждого из нас он призывает по-настоящему научиться слушать и слышать Бога, и иметь мужество следовать услышанному. Конечно, голос Божий мы можем услышать и в вещаниях собственной совести, и в творениях св.отцов, в проникновенных словах старцев. Однако именно в Священном Писании Господь ясно дает слышать Себя и призывает каждого из нас к Себе.
Наше время, несмотря на очевидное внешнее распространение Православия и даже некоторой моды на него, характеризуется поразительным невежеством в отношении Cвщ.Писания среди абсолютного большинства православных христиан. Именно поэтому трезвое и пленяющее искренностью слово вл.Антония помогает нам вернуться к истинно отеческому отношению православного христианина к этой Книге книг. Проповеди вл.Антония помогают нам увидеть значимость Cвщ. Писание, пути подготовки к его чтению, а главное - к реализации его в собственной жизни.
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА БОЖИЯ
Вл.Антоний вслед за блаж.Иеронимом ["Мы едим Его Тело и пьем Его Кровь в Божественной Евхаристии. Но также при чтении Свщ.Писания» называет Свщ.Писание Таинством, которое обновляет, дает жизнь, открывает нам вечность и все остальные другие таинства… где действует Бог. В Писании Сам Бог приходит в нашу жизнь. Но как это Божье посещение меняет каждого из нас? Слышим ли мы, то что Бог говорит нам в Своем Слове? Проникает ли оно в наши глубины, как семя, падающее в добрую землю, принося плод не размышлений, не переживаний только, но жизни? Эти вопросы ставит перед собой и нами вл. Антоний. Отношение к Слову Божию он отождествляет с нашей готовностью встретить в своей жизни Самого Бога: «Примем слово Божие, - говорит владыка, - будто прямо от Бога, - от любимого и возлюбившего нас Бога. И начнем жить» . Именно начать жить, а не только гностически потреблять библейские тексты, видя в самом знании текста Писания смысл и цель подобных штудий, призывает нас известный пастырь. Что же говорит митр.Сурожский Антоний о нашем «слышании» и «знании» Свщ.Писания?
«Год за годом повторяется по воскресеньям чтение одних и тех же отрывков из Свщ. Писания. Почему снова такое понятное, так хорошо известное место читается, зачем - разве мы этого не знаем»? - так выражает недоумение многих христиан вл.Антоний. «Нет, не знаем! - также решительно отвечает он. Потому что узнать по слуху тот или иной отрывок, вспомнить все, что там сказано, это еще не значит “знать”. Мы знаем отрывок Свщ. Писания только тогда, когда он для нас стал жизнью, то есть когда мы живем так, как там говорится/ Услышать - это значит отозваться, и не только на одно мгновение, а отозваться навсегда. Мы слушаем слово Божие изо дня в день, из недели в неделю и из года в год, и остаемся такими холодными, потому что мы не хотим слышать. Мы хотим услышать то слово, которое нам желанно. И жизнь остается мелкой и бедной, без глубины, без вечности и без вдохновения. Не в этом ли причина, что лишь ограниченный процент православных христиан имеет обычай регулярно обращаться к Слову Божию, чтобы жить Писанием, думать и говорить с его помощью? Разве не сбывается на нас слово древнего пророка Иеремии, говорящего: «К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут слушать; вот, слово Господне у них в посмеянии; оно неприятно им» (Иер. 6:10).
По мысли вл. Антония, о чтении Слова Божия следует говорить в категориях синергии, как о соработничестве с Богом. А до тех пор, пока «Евангелие остается для нас внешним законом, пока Евангелие остается Божественной волей, отличной от нашей воли или противной ей, мы не евангельская община, способная дать миру откровение благой вести».
В полемике с сектантством православное богословие особый упор делает на тот факт, что Свщ. Писание было дано Богом через Церковь и для Церкви, указывая тем самым на невозможность понимания глубины Писаний вне Православного Предания. Однако как это положение понимается нами не в полемическом ракурсе, а в положительном смысле? Для вл.Антония Писание принадлежит не абстрактной Церкви, а каждому литургическому собранию, которое имеет Писание не только «на скрижалях каменных», но и «на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3).
На каждой службе мы предстоим перед словом Божиим и думаем, что этим мы становимся народом Божиим; но от нас требуется гораздо большее, если мы хотим быть таким народом Божиим, который может сказать, что Божественное слово принадлежит ему. Евангелие родилось в Церкви. Именно изнутри этой общины родилось познание Бога, любовь к Богу, видение также состояния и судьбы, становления и призвания человека. Народ Божий - это такая община, которая свидетельствует о чем-то, что является ее жизнью, предметом ее любви, ее радостью. Библейский народ - это не народ, который читает Библию, верно хранит ее и возвещает ее; подлинный народ Божий, подлинный народ библейский, подлинный народ евангельский должен быть такой общиной, которая могла бы сама написать Священное Писание, проповедовать его из собственного опыта, дать ему начало, родить его. Если мы не такая община - мы не принадлежим поистине ни Евангелию, ни народу Божию. Это ли мы видим в действительности? Желаем ли мы стать снова такой общиной, которая желает научиться жить согласно слову Самого Бога, научиться быть таким народом, жизнь которого согласна со словом Евангелия? Какие же реальные шаги предлагает нам владыка Антоний Сурожский на пути возрождения в нашей повседневности православного отношения к Слову Божию?
КАК ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ
Первое условие для извлечения пользы от последовательного чтения Евангелия вл.Антоний видит в честном и серьезном отношении к этому делу, с единственным желанием - открыть истину, понять, что там сказано. При чтении Евангелия человек непременно натыкается на различные места, которые по-разному отзываются в нашей душе. Среди них владыка указывает на непонятные и даже чуждые нам речения, которые необходимо принять к сведению и читать дальше, ожидая момента, когда мы дорастем до того, чтобы их лучше понять. Другие места могут вызвать отказ и несогласие, что служит знаком человеку: Евангелие и я не созвучны в каком-то отношении. И, наконец, будут такие места, на которые он может отозваться всем сердцем, всей душой, которые кажутся такими прекрасными, такими значительными, что на них необходимо особо остановиться и прочувствовать их силу.
«Готовность честно, открыто, без страха отозваться на что бы то ни было, что дойдет до нашего сознания, что зажжет нашу душу радостью, восторгом и побудит нас не только созерцать красоту, а осуществлять то, что мы обнаружили в себе, в Боге через Евангелие», - таково по Антонию Сурожскому первое условие для чтения Евангелия. Но, слушая Слово Божие, мы часто получаем лишь какое-то мгновенное наслаждение, без всякого намерения жить по слову, которое тронет душу. Бывает, что мы удерживаем слова Писаний в памяти и повторяем их другим, и любуемся их смыслом, но они не приводят в движение нашей воли и не могут изменить нашей жизни... Причину этого вл. Антоний видит в отсутствии в нас глубины и решимости, которая нас заставила бы сказать: «если это правда, то я буду жить так, уже без пощады к себе, без всякой жалости к себе; ради жизни я буду поступать наперекор всем стремлениям, всей лжи, и неправде, и мертвости, которые во мне есть».
Далее, чтобы получить какую-то пользу от чтения Евангелия, нужна выдержка и последовательность. Необходимо вникать в смысл Евангелия, то есть удостовериться в понимании того, что сказано (для этого владыка советует обратиться к помощи словарей и разных переводов библейских текстов). Потому что от того, насколько глубоко понимается слово, оно доходит глубоко или остается поверхностно. Для того, чтобы Слово Божие действительно преображало нашу жизнь вл. Антоний призывает внимательно прислушиваться к тому, что Бог говорит, и вглядываться в то, что Он творит, всматриваясь во все ситуации, которые описаны в том или другом евангельском отрывке. И каждый из нас должен постараться и найти свое место в толпе, Его окружающей, слушать, как если бы мы присутствовали действительно, когда Он произносил эти слова, слушать, как если бы мы стояли в толпе, когда Он целил, спасал, звал к покаянию людей, пришедших к Нему. И наконец, надо читать Евангелие регулярно, предварительно прочитав молитву о Божием просвещении, не торопясь и вслушиваясь в каждое слово. И раньше чем вернуться к обычному делу, владыка советует остановиться, сесть и помолчать несколько минут в тишине, вслушиваясь в то, что Бог говорил нашему сердцу.
ЧТО СТОИТ ИСКАТЬ В ЕВАНГЕЛИИ?
Каждый из нас встречался со стереотипом, будто Православие - это религия запретов, которая, отнимая у человека «радости этого мира», ничего не дает взамен, что Заповеди Божии - лишь система предписаний и запретов. Подобный подход и в Евангелии видит книгу грозного Божьего суда, требований Господних, где каждый может увидеть лишь обличение своего несовершенства и греха.
Часто даже «духовники советуют читать Евангелие… и отмечать все те указания на греховность, которые там есть, и ставить перед собой вопрос: греховен ли я в этом или нет? И делая это, люди проходят мимо самых светлых моментов в Свщ. Писании». Однако для вл. Антония Евангелие не повод для страха и уныния - это прежде всего книга радости и надежды: радости о том, что среди нас Господь, не далекий, не грозный, а родной, свой, как самый близкий друг, облеченный в человеческую плоть, знающий из личного Своего опыта, что значит быть человеком. И радость и надежда о том, что на каждой странице Господь требует от нас, чтобы мы были достойны величия своего человечества, не дает нам стать меньше, чем человек, - хотя мы и грешим так часто и недостойны бываем и себя, и Его. Поэтому, по совету вл. Антония, читая Свщ. Писание, нужно не только искать то, в чем Евангелие нас обличает, а искать еще больше в Евангелии те места, от которых горит сердце, возбуждается желание последовать этим указаниям, яснеет ум, крепость воли возрастает , то, что в Евангелии так глубоко нас трогает, что чувствуется как бы сродство, близость с Богом. Только так Благая весть сможет привнести в нашу жизнь что-то настолько новое, что станет возможно жить, а не только влачить какое-то существование или существовать по необходимости.
О ПРОПОВЕДИ СЛОВА БОЖИЯ
Особое значение имеет опыт вл. Антония для того, кто призван Церковью проповедовать Слово Божие, и прежде всего - для священника, которого владыка вслед за св.отцами именует пятым евангелистом. По совету владыки, проповедь не нужно говорить никому, кроме как самому себе и в итоге делиться с людьми тем, что этот отрывок совершил над самим проповедником. Обращаясь к слушающим его, священник в первую очередь должен обратиться к самому себе с вопросом: что говорит мне этот отрывок? К чему он меня обязывает? Как я слышу? И если я слышу - что скажу? Если слово, которое священник говорит в проповеди, ударяет его душу, если глубоко вонзается, как стрела, в его собственное сердце, оно ударит и в чужую душу и вонзится в чужое сердце. Но если проповедник будет говорить «вот этим людям» то, что, ему думается, им полезно знать, то большей частью это будет бесполезно, потому что ума это, может быть, коснется, но ничью жизнь это не перевернет. А вдруг случится так, что Христос говорит слова, на которые проповедник сам не умеет отозваться?
Здесь многое поясняет опыт самого владыки. Однажды во время литургии он читал Евангелие и, будучи очень усталым, понял, что текст до него не дошел. И в течение всей службы он переживал с ужасом тот факт, что Господь обратился со Своим словом, а у него ничего не дрогнуло в душе. И когда пришло время проповедовать, он вышел и сказал: вот что случилось, Вы понимаете, какой это ужас? Господь мне говорит такие-то слова, а я могу Ему сказать только: «Не доходит, мне нечего Тебе отвечать. Слова падают как будто на каменную почву»… В этом для многих страшном примере мы видим живой образец цельности и искренности, тех ценностей, к которым вл. Антоний призывает нас в своих проповедях. Именно цельность его душевных сил не позволила разуму идти впереди сердца и «теоретически» говорить о том, на что сердце не откликнулось, говорить без стремления поделиться живым опытом, говорить о Боге без Бога. Это и есть то самое состояние, когда проповедник понимает каждое слово, может даже от ума, от какой-то небольшой начитанности им людям комментарий, это было бы неправдой, ведь душа не загорелась, сердце осталось тяжелым и бесчувственное. Это был бы кимвал звучащий. В этом случае он проповедует Христа, не посвятив себя Ему полностью, черпая свои представления о Нем через вторые и третьи руки, а не от Него Самого. Слушатели это чувствуют и не желают больше искать Христа и познавать Его.
КАК ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ СООБЩА
Говоря о литургическом возвещении Евангелия, а также о т.н. келейном чтении, вл. Антоний упоминает еще одну форму приобщения к сокровищам Слова Божия - Евангельские чтения в кругу собратьев («группы изучения Евангелия»). И первый вопрос, который задает сам себе владыка: надо ли читать сообща? Зачем нам вместе читать то, что относится ко мне так лично?
Евангелие говорит не только обо мне или для меня, но обо всех. Каждый из нас может воспринять тот же самый евангельский текст, те же самые слова - с тем же вдохновением, но с более или менее глубоким пониманием. И поэтому надо помнить, что Евангелие дано всем и что каждый из нас, вслушиваясь, вдумываясь, вчитываясь, живя Евангелием, может его понимать с новой и новой глубиной. Поэтому очень важно, чтобы где только есть такая возможность, люди собирались маленькими группами и читали Евангелие вместе, и делились своим опытом. Причем делиться этим опытом не для того, чтобы обогатить свой ум. Ведь когда мы делимся тем, что является для нас самым драгоценным, самым святым, самым животворящим, мы делаешь дело любви. Проповеди вл. Антония показывают, что он видел смысл в организации небольших групп прихожан (по четыре-восемь человек, чтобы мог быть настоящий обмен между людьми ), которые могут помолиться вместе, и в мире своих душевных сил прочесть некоторый отрывок из Евангелия - негромко, внимательно, без драматичности, трезво и благоговейно. После этого, помолчав немного, дать время каждому отозваться, поставить какой-нибудь вопрос или даже высказать некое недоумение. И затем ждать, что, может, кто-нибудь, у кого есть опыт, или кто продумал, или кто прочел нечто на эту тему, сможет отозваться и сказать: "Знаешь, я, может, не все понимаю, но вот как я понимаю этот отрывок, вот как мне его объясняли, вот как его объясняет тот или другой духовный писатель"... И так можно вчитываться вместе в Евангелие, друг другу помогая понять, но тоже, в конечном итоге, поддерживая друг во друге решимость и готовность не только умом понимать, не только сердцем отзываться, но всей волей укрепляться в решимости жить согласно Евангелию во всем, что мне лично и нам вместе стало понятно.
Вот если так приступить к чтению Евангелия сообща, то поддержка единомысленников, поддержка друзей, поддержка людей, которые на одном с тобой пути в Царство Божие, может оказать большую помощь, и от нее не надо отказываться. Значит, стоит вчитываться в Евангелие поодиночке и с любовью делиться со всеми своим пониманием, и из этого общения черпать силы жить. Стоит отметить, что в настоящее время существует опыт создания подобных групп изучения Евангелия («Евангельских чтений») во многих епархиях РПЦ, включая Ростовскую епархию. В своей деятельности они в большинстве случаев руководствуются теми принципами изучения Свщ. Писания, которые были так близки приснопамятному владыке Антонию. Осмысляя духовный опыт митрополита Сурожского Антония в изучении и проповедании Слова Божия, мы неизменно приходим к выводу, что наша вера во Христа и Его Евангелие - это не мировоззрение, это жизнь, открывшаяся перед нами, это новая глубина жизни. А если это не так, то мы еще не стали учениками Христовыми - мы только слушатели. Потому что в понимании вл .Антония быть учеником - значит услышать весть, воспринять ее и жить согласно этому благовестию; не как по указке и по приказу извне, а как если бы нам открылось новое понимание, исходя из которого, мы должны жить.
иеромонах Дамаскин (Лесников)
http://missionerdona.ru/old....emid=88
О ПРИЗВАНИИ И СЛУЖЕНИИ СВЯЩЕННИКА

«Мы делаемся членами Христова воинства, а воинство призвано к борьбе, призвано воевать. Мы теперь делаемся не только спасаемыми овцами стада Христова, мы теперь делаемся Его посланниками в мир, мы Им посылаемся через весь мир пронести весть евангельскую, и, если нужно, доказать ее истинность, правду ее жизнью и смертью. И порой жизнью доказать правдивость учения Христова бывает трудней, чем мгновенной смертью».
Антоний (Блум), митр. Сурожский
Митрополит Сурожский Антоний. Его имя известно многим. Но за внешними атрибутами выдающегося проповедника, богослова и «автора» множества книг (как известно, книг владыка не писал, записывали за ним, его живую речь), стоит прежде всего очень вдумчивый христианин и благоговейнейший священнослужитель. Говоря о призвании и служении священника, хотелось бы отметить именно эту сторону его личности: благоговейного, трепетного отношения к священнослужению в Церкви как служению Богу и людям, которое он воспитывал, взращивал в себе в течение многих лет своей жизни.
«ПЕЧАТЬ БОЖИЯ»
Размышляя о призвании человека к священству, митрополит Антоний выделяет три основных момента. Во-первых, призвание непосредственно от Бога, когда человек слышит в своей душе слова Господа: «Будь моим священником, паси Моих овец». Во-вторых, это серьёзная, осмысленная готовность пойти по пути страданий Христовых, решительный положительный ответ на вопрос Христа: «Можешь ли пить Мою чашу, готов ли погрузиться в тот ужас человеческого страдания, который и Я испытал?» (Мф. 10:38-39). В-третьих - свидетельство людей из церковной общины, желающих видеть конкретного человека священником, готовых доверить ему и молитву, и богослужение, и проповедь, готовых идти к нему на исповедь. Люди как бы со стороны прозревают в этом человеке «Божию печать». Но свидетельство должно исходить не только от церковной общины. Владыка убеждён, что в итоге всё решает видение епископа: «Я не представляю себе, чтобы епископ имел право поставить человека, на котором он не видит этой (Божьей) печати».
СВЯЩЕННИКИ И МОНАХИ
Будущему священнику необходимо избрать один из двух путей: монашество или брачную жизнь.Этот выбор требует от человека определённой зрелости. Нельзя «принуждать людей вступать в путь, о котором они никакого понятия не имеют». Ведь и для монашества, и для супружества необходимо созреть в личностном плане, чтобы потом, став священником, не быть «недорослем», не быть тем, в чьей душе звучит лишь две три, струнки, а не весь орган. Только многолетнее самоиспытание, считает владыка, способно явить в будущем священнике «чудо поющей арфы». Церкви «нужны люди расцветшие, люди живые до глубин, которые могут в других родить жизнь; и это - роль священника и роль монаха».
РЕАЛИЗМ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Частью подготовки к священнослужению является правильное отношение студента духовной школы к своему образованию. Оно может дать первый значимый опыт смирения, столь необходимый будущему священнику. Как учащийся, так и окончивший курс семинарии или академии, должны относиться к полученным знаниям с благоговением, как к бесценному Божьему дару.Тот, кто окончил духовную школу, «должен помнить, что всё это знание ему не принадлежит, что это ему был подарок,- подарок от Бога, так же как ум, которым он оказался способным воспринять эти знания, и подарок со стороны Церкви, гражданского общества, семьи, друзей, древней и современной литературы. Если он обладает этими свойствами, то есть умом, образованностью и прочим, он должен научиться быть благодарным, но не демонстрировать их». Впрочем, это не должно становиться поводом к пассивности и лжесмирению: «не побеждённость, а активное смирение, активная примирённость, активный внутренний мир делают нас посланниками, апостолами, людьми, которые посланы в тёмный, горький, трудный мир, и которые знают, что там их природное место или благодатное место».
Думающий о принятии сана должен воспитывать в себе подлинно евангельскую нищету духа. А «нищи духом те, которые сознают, что всё, что у них есть, - от Бога, и вместо того, чтобы ради приобретения ложного смирения отказываться от этого, отрицать это, они… обращаются к Богу с благодарностью за то, что Он это им дал». Поэтому «каждого студента нужно учить этому: всё, что у него есть, всё богатство - ему дар от Бога; и когда люди хвалят его, чтобы он внутренне не принимал, а превращал похвалу, которую получает, в благодарение Богу и в сокрушение сердечное». Можно сказать и так: тот, кто желает действительно идти по пути смирения, должен стремиться к тому, чтобы и Бог, и люди, окружающие его, «не видели в нём того, чего в нём нет», смирение - «это прежде всего реализм; когда на мысль, будто я гениален, я спокойно себе отвечаю: Не будь дураком, ты очень посредственный человек».
ГРЕХ СВЯЩЕННИКА
Порою из уст студента духовных школ можно услышать размышления о своём крайнем недостоинстве и невозможности принятия священного сана. Действительно, нет достойных этой величайшей чести. Однако если человек по-настоящему думает о священстве, он обязан давать правильную оценку своей греховности. Такую оценку, когда грехи «как нож впиваются в твою душу». Только в этом случае человек может «примириться со Христом, несмотря на то, что ты еще ничуть не стал лучше; но ты осознал, что ты собой представляешь» Ответственность достойного несения сана священника столь велика, что владыка даже одобряет опыт тех священников, которые, совершив «один раз преступление против того или другого основного внутреннего закона», «никогда больше не служили, отказавшись от своего священства, потому что знали, что перед Богом они не могут больше предстоять в священном сане». Каждый, имеющий намерение стать священником, должен задуматься над этим.
АРМЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
В последнее время много обсуждался вопрос об армейской службе студентов духовных школ. В связи с этим интересна роль армии в жизненном пути и пастырском служении митрополита Антония. Андрей Блум пошёл в армию по призыву в 1939 г. В самом начале Второй мировой войны будущий митрополит Антоний работал хирургом французской армии в большом военном госпитале, расположенном недалеко от линии фронта. Владыка позже вспоминал, что армия стала для него, тогда уже тайно принесшего монашеские обеты молодого врача, хорошей монашеской школой. Беспрекословное подчинение приказам офицеров позволяло оставаться внутренне свободным, научало ценить эту свободу при внешней стеснённости действий. Ведь в армии человек выполняет приказы не добровольно, а заповеди Христа нужно исполнять только свободно. Оказывается, что последние исполнить гораздо сложнее, чем внешние приказы. В условиях жёсткой армейской дисциплины христианин трудится, прежде всего, над тем, чтобы остаться свободным от греха, сохранить праведность ради Христа (Рим. 6:18). И иерархическое подчинение или различные трудности службы этому отнюдь не мешают. Наоборот, они развивают внутреннюю собранность, внимание, «то состояние, когда мы собраны внутри себя, живём в глубинах и из этой глубины можем видеть надвигающееся на нас нападение».
Армейская служба научила вл. Антония правильно относиться и к материальным ценностям. У солдата нет ничего своего, всё казённое. Вещи не связывают его, не загоняют в рабство себе. Армия -это и школа укрепления в вере. Чувство опасности и незащищённости, которое испытывает любой солдат в условиях армейской, а тем более военной жизни, научает его искать помощи лишь у Бога, полагаться только на Него. Владыка считал, что в военной ситуации чувство страха естественно для человека, но следует отличать его от проявления трусости, которая выявляет в человеке самые низменные черты. Армейский быт, его скудость и простота, необходимость взаимовыручки научили вл. Антония смотреть на жизнь не только с точки зрения себя самого, но и с позиции других, и это было очень важное приобретение.
ЛИТУРГИЯ
Центральное Таинство Церкви - Евхаристия - как осуществление Боговоплощения в мире, совершается в абсолютном смысле Самим Христом и никакая священническая благодать, «даже никакая человеческая святость не может дать человеку ни права, ни власти принудить Бога воплотиться в хлеб и вино, и никакая человеческая власть не может этот хлеб и это вино соединить с Божеством Христа силой Духа Святого». Однако именно это положение позволяет говорить о многоразличном и предельно ответственном участии в совершении этого таинства священнослужителя. Прежде всего, священник должен понимать, что Таинство Евхаристии дано только собранию, общине христиан, православный священник не может совершать его в одиночку, сам по себе. Евхаристия совершается в единстве Церкви, священник такой же соучастник Евхаристии, как и любой другой член церковной общины. Развивая эту мысль владыки, следует отметить, что поскольку и без священника Литургия также не совершается, то сколь достойным должен быть священник того доверия, которое оказано ему Богом: быть свидетелем и со-творцом освящения людей через Евхаристию, непрекращающуюся жертву Христа.
Владыка, как известно, очень благоговейно относился к каждому священнодействию. Было практически невозможно видеть его разговаривающим с кем-либо во время богослужения. Он предстоял Богу «в страхе и трепете». Поэтому с такой глубокой болью он переживал проявление невнимательности, непонимания важности момента службы со стороны тех, кто приходил в храм. Для владыки Антония богослужение всегда исключало посторонние разговоры, а всё то, что касалось самой службы, должно было быть приготовлено заранее. Стремление сохранить во время молитвы в храме тишину, внешнее спокойствие, пресечь излишнюю суетливость, - это своего рода завет митрополита Антония всем своим собратьям - священникам и архиереям.
Глубоко русский по духу, владыка неизменно боролся с «русской привычкой» разговаривать во время богослужения. Известен также случай, когда он приостановил службу из-за того, что две дамы, вошедшие в храм, стали о чём-то очень оживлённо беседовать. Для владыки Антония был непреложен закон: «когда мы вступаем в храм, мы уже должны быть погружены в страшное чудо нашей встречи и нашего соединения с Богом». Потому что «Церковь - это не только человеческое общество, какими бы ни были его свойства, но что это общество одновременно и равно человеческое и Божественное: Бог и человек в их встрече, в их взаимной отдаче друг другу, в их соединении; это место этой встречи, это сама сущность этой встречи». Поэтому закономерно, что высокое призвание священнослужителя: дьякона, священника, епископа, - владыка Антоний видит в поручении «освящать мир, если нужно, ценой своей жизни» «И связь между народом, прислужником, иподиаконом, диаконом, священником, епископом должна быть совершенно тесна. Это одно тело, в котором каждый исполняет свою какую-то задачу, но задача всех — весь мир освятить, то есть вырвать из плена зла и отдать Богу».
http://vstrecha-mpda.ru/upload....arp.pdf
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 28 Окт 2012, 20:44 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | МЕСТО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
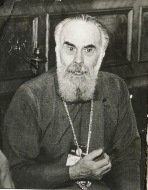
Сегодня я хочу поговорить вот о чём: из алтаря выйти вот сюда, в храм, где мы находимся, и поставить перед собой вопрос, что он собой представляет. Я говорю о храме как о Церкви одновременно, то есть в том смысле, что Церковь - это полнота всех верующих, собравшихся вокруг своего Бога. Церковь, так же как Church, так же как немецкое Kirche, это как бы переделка греческого κυριακός; δόμος, дом Господень. Храм, где мы находимся, это дом Господень. Это, с одной стороны, царская палата, потому что место, где Бог присутствует во всей полноте Своего величия, Своей святости, Своей непостижимой красоты, - это действительно царская палата. В этом смысле Церковь является местом, где пребывает во всей полноте, видимо или невидимо, ощутимо или нет, полнота Всесвятой Троицы, но не только. Мы являемся частью Церкви, мы являемся как бы окружением Святой Троицы, Которая пребывает здесь, среди нас. И мы должны себя воспитывать, чтобы отдавать себе отчет в том, что представляет собой храм, церковь, где мы находимся.
Это место непостижимой встречи, но по-иному, нежели в алтаре. Мы так привыкли входить в храм как к себе домой, что порой забываем, как страшно - не в смысле испуга, а в смысле трепета духовного - это место. Как редко бывает с нами то, что было с мытарем, когда он вошел в Иерусалимский храм и не смел отдалиться от двери, стоял у притолоки, бил себя в грудь, говорил Богу, что он грешник и поэтому недостоин даже вступить в это пространство, которое свято, потому что оно посвящено Богу. Место это - подарок земли Живому Богу. И этот подарок земли, я думаю, можно уразуметь в двух как бы измерениях. С одной стороны, как я уже сказал, это царская палата, здесь живет Бог во всем Своем величии, во всей Своей непостижимости, во всей Своей святости. Для большинства из нас - почти неощутимо, для святых или для таких грешников, как мытарь, так ощутимо, что с трепетом, с молитвой вступаешь в храм, останавливаешься у двери и думаешь: куда я, грешный, недостойный, хрупкий человек, смел войти?! Это место, где только Бог имеет право пребывать, это Его дом. И я, в каком-то смысле, допущен в него, сначала как гость, когда еще не знаю ничего, когда я прихожу извне, и мне дано вступить в это святое пространство и посмотреть: что же здесь делается?
А иногда Бог дает ощутить нечто человеку, что ставит перед ним вопрос, и он ищет, потому что чует что-то и не понимает, но знает, что ему нужно понять. Так много лет назад нашел Бога человек, который случайно, можно сказать, оказался в нашем храме. Я уже вам рассказывал о нем и не буду сейчас повторять, как за непривычной для него обстановкой православного храма неверующий англичанин уловил, как он сказал, «густоту», присутствие, которое постепенно раскрылось для него как присутствие Бога, в Которого он изначально не верил, Которого не знал. Вот какое это место: это место Боговселения, Бог здесь живет. И мы должны входить в храм с чувством, что мы вошли в область, где Живой Бог живет полнотой Своей Божественной жизни и готов с нами поделиться Божественной Своей жизнью, постольку поскольку мы способны ее принять, ей открыться.
Но это не все, есть и другая сторона. В мире, в котором мы живем, Бог - изгнанник. Столько есть стран сейчас, где безбожие победило. Столько есть человеческих душ, в которых безбожие царствует. И храм теперь, особенно в некоторых странах, стал местом убежища для гонимого Бога. Вы понимаете, что это значит? Бог изгнан из душ, Бог изгнан из домов, Бог изгнан из страны, из жизни, и есть какие-то люди, которые порой с риском для своей жизни, как это было в периоды гонений и древней Церкви, и современных десятилетий, дают Ему приют. Они говорят: «Господи! Ты наш Бог, и Ты изгнанник, Ты по миру ходишь, и негде Тебе главу преклонить. Вот Тебе место, которое будет принадлежать только Тебе. Мы будем его строить, мы будем его охранять, мы будем делать все, чтобы это место было достойно Тебя, а Ты здесь, Господи, живи». А сделать храм достойным Бога мы можем только тем, что каждый из нас всей силой души, всей силой воли, всем убеждением своим, всей тоской своей, может быть, всей любовью своей сделает все возможное, чтобы Богу с нами было хорошо, чтобы Ему наше присутствие не было страшно, не было отвратительно, чтобы мы не были ни внутренне, ни жизнью, недостойной нашей веры и Божьего к нам доверия, предателями Бога, в Которого верим. Вот что представляет собою храм, какое это дивное, непостижимо дивное место.
Я хотел бы здесь напомнить вам о Преображении Господнем, потому что мы, как части этого храма, можем чему-то научиться из рассказа о Преображении. Вы помните: Христос поднялся на гору и взял с Собой трех учеников. Эти три ученика уже в первые столетия были определены как образы веры, надежды и любви. Они пришли на гору помолиться со Христом. И что же они увидели, что перед ними открылось? Перед ними открылось, что Христос встретил Моисея и пророка Илию, которые стали говорить с Ним о грядущем Его распятии, о том, что Ему надлежит умереть по любви к миру, умереть для того, чтобы спасти мир: и нас, и Своих современников и всех, кто до Него жил, и всех тех, кто потом будет жить. И в этот момент, потому что Он весь горел жертвенной любовью, весь светился этой любовью, Его лик стал светел, как солнце, Его одежды стали такими белыми, какими их нельзя выбелить на земле (Мк 9:2-8; Лк 9:28-35). На одной из икон, не рублевской, а Феофана Грека, мы видим, как лучи света падают от Него на все, что Его окружает: на камни, на почву, на цветы, на траву, на все, и каждый раз, как луч Божественного света касается какого-либо предмета, в этом предмете ответно зажигается свет, он именно ответно светится. Это опять-таки показывает, что мир порабощен последствиям человеческого греха, но как таковой остался безгрешен и способен ответить божественным сиянием - сиянию Божию (Свет преображения, который видели апостолы на Фаворе (Мф 17:1-б; Мк 9:2-8; Лк 9:28-36), по учению отцов Церкви, - «свет, присущий Богу по Его природе: вечный, безначальный, вневременный и внепространственный, существующий вне тварного бытия». По словам Григория Паламы, этот свет, с одной стороны, «не восприемлем чувственно», а с другой — «зрим очами телесными» (Гомилия 34, на Преображение).
И Церковь, уже не храм только, а все мы, - в положении этих апостолов и в положении всех верующих с тех пор. Мы собрались вокруг Христа, Его свет в нас живет. Все светлое, что в нас есть, - это Его свет. Это диво, и дивно то, что это возможно для нас так же, как было для апостолов, несмотря на нашу грешность. Потому что в грешности есть два аспекта. С одной стороны - слабость, бессилие, неспособность вырасти в полную меру нашего призвания, может быть, постепенное восхождение к тому, чего мы ищем, но до чего еще не доросли. Или грешность может быть отречением от Бога, отвращением от Него. Этого в Церкви нет. В Церкви мы грешны своей слабостью, своей забывчивостью, своей нерешительностью. МЫ увлекаемся не тем, что в нас самое высокое и святое, но мы не отворачиваемся от Христа, Которому мы дали приют в этом храме, когда Он изгнан из стольких мест. В этом храме, где Он Господь и Хозяин, мы Его приютили, и Он этот приют превратил в Царство Божие, пришедшее в силе, в место, где Он царствует среди нас, которые Его признали, и не только приняли, а выбрали своим Царем, Господином, Господом. В этом смысле храм является местом Преображения, где полнота Божества присутствует, где изливается на нас весь свет Божественный, где мы воспринимаем Его с трепетом, благоговением, любовью, благодарностью. И одновременно, когда мы оглядываемся на себя самих, мы видим, как мы недостойны той любви, которой нас одаряет Господь. И поэтому мы можем ликовать о том, что мы - дети Божии, и вместе с тем исповедовать свои грехи. Мы одновременно и мытарь, который у притолоки стоит, и бьет себя в грудь, и говорит: я недостоин войти в это святое пространство; и вместе с этим можем ликовать о том что Господь нас, какие мы есть, не называет, как сказано в Евангелии, рабами, а называет друзьями (Ин 15:15) - потому что Он с нами поделился всем, что мы могли воспринять, и понести, и понять. Это так изумительно!
С одной стороны - наша греховность, с другой стороны - Божественная святость, а между ними, соединяя их, превосходя недостоинство наше, - покаяние, наше признание, что, да, мы грешны и недостойны Божественной любви, но что мы так за нее благодарны и готовы все, все сделать, что только можем, чтобы утешить Господа в том, что мы грешники. В каком-то смысле утешить Его в том, что из-за моей личной греховности Он стал человеком для того, чтобы умереть на кресте. Вот что представляет собой это пространство, где полнота Божества невидимо обитает, но уже не так, как я говорил об алтаре, а обитает крестно, потому что Преображение нам говорит о том, что полнота сияющего Божества здесь ради того, чтобы умереть, вернее, о том, что Он умер для нашего спасения. Если это воспринять, разве можно бестрепетно войти в храм, разве можно без трепета посмотреть на каждого человека, который находится здесь, с мыслью: он так Богом любим, что, если бы только он на свете существовал как грешник, Господь стал бы человеком и готов был умереть, чтобы этот человек мог жить?! Строго говоря, в Церкви не может быть ненависти друг ко другу, не может быть вражды, не может даже быть безразличия. Как мы можем быть безразличны? Как мы можем пройти мимо человека, за которого Бог по любви отдал Свою жизнь? Вот что мы собой представляем, мы, вот здесь, малая община, которая собралась сегодня вечером, и большая община, которая бывает здесь на богослужениях, и более широкая община, которая охватывает и ту, и другую.
А за пределами храма есть притвор и есть весь мир. Я хочу сказать вам нечто и об этом. В древности в притворе стояли те люди, которых называют оглашенными. О них мы молимся, но мы не знаем, в сущности, опытно, кто они. Это люди, до которых дошел какой-то оклик или человеческого голоса, как проповедь Иоанна Крестителя, как проповедь святых, которые шли, чтобы открыть Христа не ведающим Его, или отклик на прикосновение Самого Бога до глубин человеческой души. Но эти люди еще не знают, они что-то услышали и ощутили и пришли для того, чтобы познать Бога. Эти люди раньше стояли в притворе, теперь они стоят в храме, но, в сущности, это одно и то же. Они стоят на грани двух миров, они еще не облеклись во Христа, они еще не стали храмом Святого Духа, но до них уже дошла благая весть.
А за этим, дальше - весь мир. Но мир не чужд Богу Весь мир (не только люди, но и вещество этого мира) создан был Богом любовью для того, чтобы этот мир приобщился к той полноте жизни, которая есть Божественная жизнь. Весь мир создан для этого. Бог создал весь мир для того, чтобы отдать Себя этому миру, чтобы этот мир был пронизан Божественной жизнью, счастьем, которое мы называем блаженством. Вот мир, который вне, и как мы на него должны смотреть. С одной стороны, этот мир, может, Бога не знает и поэтому порой на Него восстает, он, может быть, научен Бога отрицать, ненавидеть или, возможно, запутан. Но этот мир дорог Богу до такой степени, что Бог его создал, стал человеком, жил как человек, умер за него и воскрес для того, чтобы все приобщить Себе. В этом мире дышит Святой Дух, в этом мире Дух Святой действует по-разному. Святой Феофан Затворник говорит, что в Церкви Дух Святой принят каждым человеком с открытым сердцем. Он через Крещение, через Миропомазание пронизывает человека, и человек соединен и со Христом, и с Ним. А вне? Вне Дух Святой разлит по всей вселенной. Когда был сотворен мир, нам сказано, что Святой Дух дышал над миром при его создании, и этим дыханием Он вызывал из хаоса мирского все формы, всю жизнь, все становление, которое развивалось через миллионы лет. И теперь, говорит Феофан, Святой Дух во всем мире, даже там, где Бога отрицают, где о Нем не знают, находится, как море, которое бьет о скалы. Он бьет о каждую скалу в надежде, что она раскроется и станет вместилищем для Него.
Поэтому и на внешний, пусть безбожный, мир мы должны смотреть как на место, где действует Святой Дух, о Котором сказано: Дух дышит, где хочет (Ин 3:8), не по нашему велению и не по нашим соображениям, а там, где нужна вечная жизнь и спасение. Как это дивно! Как мы можем, зная это, смотреть на храм, в котором мы находимся, на эти стены, на эти врата, которые ведут нас в алтарь, и на ту дверь, через которую извне, из запутанного мира, где мы проводим наши дни, мы входим сюда, и на этот мир, запутанный - да, оскверненный, растерянный, который так дорог Богу Это мир Преображения, потому что, если вы вспомните рассказ о Преображении, он не кончается тем, что ученики увидели Христа во славе, он кончается другим. Ученики сказали: как нам здесь хорошо быть!
Останемся здесь, построим три палатки, Тебе, Моисею и Илии, и пребудем здесь... Христа они видели во славе, Его слава, свет Его как бы переливался к ним, они были охвачены вечностью - куда же уходить? И Христос сказал: нет, Я нужен в долине, Я нужен в равнине. Я нужен там, где обо Мне и, может быть, об Отце Моем не знают пойдем... И когда они спустились с горы, с чем они встретились? С человеческим горем, с человеческим бессилием верить (о, люди малой веры!), с человеческим несчастьем (Мф 17:14-21). Так же и мы. Мы находимся здесь на горе Преображения со Всей слабостью нашей. И мы призваны стать такими учениками, которые могут выйти отсюда со Христом, нося в себе опыт знания, память о том, что здесь произошло с нами, и принести это Внешнему миру, не проповедуя как бы «с высоты» нашего знания, а делясь нашим изумлением о том, что здесь с нами произошло. Когда мы оглядываемся на храм, мы видим ограниченное пространство, как бы малый корабль, который несется по волнам житейского моря. И, глядя на стены, мы видим изображения святых, Божией Матери, чудес Господних, которые нам напоминают о том, что случилось. И с этим мы должны выйти из этого храма, с Вестью для других.
http://azbyka.ru/tserkov....l.shtml
ПРОПОВЕДЬ "О ЦЕРКВИ"

Как вы заметите в самом скором времени, я не ученый богослов; по образованию я врач; но в течение всей жизни сознательной я старался продумать свою веру и понять то, чем мы живем в том чуде, каким является Православная Церковь, Церковь Христа. И мне хочется сказать вам именно о Церкви. О Церкви мы говорим в Символе веры: верую во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь... Она для нас является предметом веры; но, с другой стороны, мы Церковь наблюдаем и в истории. Церковь веры нам представляется в каком-то изумительном сиянии святости, красоты, величия. Церковь на земле в ее истории, в ее становлении порой представляется нам тусклой, а порой трагичной, а порой вызывает недоумение: какое соотношение есть между Церковью, которую мы исповедуем как святую, и той Церковью, которую мы собой представляем. Я именно настаиваю на этом слове - мы, потому что речь не идет о какой-то Церкви вне нас, которую мы наблюдаем, а именно о той Церкви, которой мы являемся, которая страдает от наших грехов, которая немощна нашей немощью. И вот мне хочется сказать об этих 2-х аспектах Церкви и, может быть, прибавить и еще нечто.
Церковь не является только обществом верующих, собранных во имя Божие. Определение катехизиса, как бы оно ни было точно, не исчерпывает тайны Церкви, как никакое определение не может исчерпать тайны. Все определения, которые у нас есть в богословии, в опыте церковном, раскрывают перед нами тайну, но ее не только не исчерпывают, но даже не стремятся ее до конца выразить. Но вот что мы знаем определенно о Церкви: что это место, где Бог и человек встретились, где они заодно, где они составляют одну таинственную семью. И Церковь в этом смысле является одновременно и равно Божественным и человеческим обществом в двух планах: мы составляем Церковь - люди грешные, борющиеся, падающие, восстающие, немощные; но человечество в Церкви представлено также одним Человеком, Единственным, Кто в полном смысле человек - это Господь наш Иисус Христос. Он человек совершенный и Он человек до конца. Он человек во всем нам подобный, кроме греха, и Он человек, в котором мы можем видеть в осуществленном виде все то, к чему мы призваны, все совершенство, всю красоту, все величие человеческой природы и, вместе с этим, тайну соединения человека с Богом, Богочеловечество. Он для нас является в Церкви единственным до конца осуществленным видением того, что человек собой представляет, - Он и Пречистая Дева Богородица.
Таким образом, в Церкви нам явлен образ истинного, подлинного человека во всей его святости и во всем величии; и святой Иоанн Златоустый в одной из своих проповедей говорит: если ты хочешь познать, что представляет собой человек, не обращай своих взоров ни к царским палатам, ни к палатам вельмож земных, а подними свой взор к престолу Божию, и ты увидишь Человека, восседающего во славе одесную Бога и Отца. И таким образом, в Церкви человечество нам явлено и в немощи нашей, и в Его совершенстве и святости. Но не только человечество Христом присутствует, живет и действует в Церкви. Вся полнота Божества в Нем обитала телесно (Кол. 2, 9), и в Нем, через Него вся полнота Божества уже вошла в тайну Церкви как человеческого общества Но Бог присутствует не только Христом в Церкви, но и Духом Своим Святым. Мы читаем и в Евангелии от Иоанна, в конце 20 главы, и в начале книги Деяний о даровании Святого Духа Церкви и ее живым, возрожденным членам. Эти два рассказа не во всем идентичны. Можно сказать, что было два дара, два различных момента этого дарования Духа Святого Церкви. Вы помните рассказ о том, как впервые явился Спаситель Своим ученикам после Воскресения. В страхе, в горе, подавленные, недоумевающие, они скрылись после крестной смерти Христа в доме Иоанна Марка. Для них Великая пятница была как бы последним днем.
Когда мы присутствуем, участвуем в службах Великой пятницы, как бы глубоко мы ни переживали их, мы знаем, знаем не только знанием, но опытом нашей жизни, что не пройдет двух дней, как в этом же храме мы будем петь Христос воскресе, обнимать друг друга в радости победы Божией над смертью, над рознью, над всем. Но для учеников до первого явления Христа после Его Воскресения была только смерть Христова. Ничего не оставалось, кроме, в лучшем случае, недоумения, а в худшем - отчаяния о том, что Бог был побежден человеческой злобой и ненавистью, что можно было продолжать существовать, но что жить больше было нельзя, потому что самая жизнь со смертью Христа ушла для них с земли. И вот перед ними предстал Господь, и первое Его слово им, в их буре колебаний, отчаяния, сомнения, недоумения, было: Мир вам! Как это им было нужно!
Если то, что я сейчас сказал так коротко и так неумело, дошло до вас, вы же должны понять, что именно мира-то у них не было; а Христос им его дает: тот мир, который земля дать не может, тот мир, который земля отнять не может, мир Божий, который единственно Он, Христос, нам может дать... И затем дунул на учеников и сказал: примите Святого Духа. В этот момент это малое стадо, эти десять учеников, которые тогда были собраны (потому что Фомы с ними не было, а Иуда погиб), стали как бы сосудом, содержащим присутствие Святого Духа; так же как Дух Святой сошел на Иисуса Христа, когда Он восходил из вод Иорданских после Своего крещения, и пребыл на Нем, так теперь Дух Святой сошел на тело Христово - на Его апостолов и пребыл в них, но ни на ком и ни в ком из них в отдельности от других. Дух им был дан как телу Христову в его целокупности, в его цельности; Он никому из них не принадлежал лично, но Он жил в этом новом теле Христовом. Неделю спустя Фома оказался вновь среди своих собратьев, когда пришел Христос, и ему не нужно было отдельно получать дар Святого Духа, потому что этот дар был дан Церкви, а он был членом Церкви, будь он там или не будь он там в момент этого дарования. А затем, в день Пятидесятницы, потому что Церковь стала этим сосудом, этим местом селения Святого Духа, на каждого из учеников, которых Христос приготовил к этому принятию в течение сорока дней до Своего Вознесения, беседуя с ними о будущем Церкви и Царства Божия, на каждого ученика сошел Святой Дух и сделал его по-новому единственным, неповторимым, уже не чадом плоти, а чадом Царства Божия, как мы говорим в молитве при крещении.
Дух Святой пребывает в Церкви этим даром общим и этим дарованием личным; и каждый из нас при крещении и миропомазании вступает в Церковь и вместе с другими, потому что он член тела Христова приобщается этой тайне духоношения и получает дар Святого Духа лично. И вот Церковь является и местом селения Святого Духа; каждый из нас в отдельности и все мы в совокупности нашей являемся храмом Святого Духа. Но даже слово храм мало для того, чтобы выразить эту тайну нашей приобщенности. Храм - это сосуд, храм - это обрамление; наше соотношение с Духом Святым глубже: мы не только содержим Его, оставаясь Ему как бы чуждыми, - Он пронизывает нас, Он становится нашей жизнью. Он присутствует в Церкви Христовой и в каждом из нас. Конечно, Его присутствие различно; конечно, мы не приносим одинаковые плоды, потому что соотношение наше с Богом не механично. Бог не делает за нас то, что мы призваны сделать во имя Его и для Него; и поэтому у нас есть задача стяжания Святого Духа; аскетическим подвигом, чистотой сердца, очищением ума, обновлением плоти, направленностью всей нашей воли согласно воле Божией мы должны стать способными дать свободу Духу Святому действовать в нас, гореть в нас полным пламенем. Можно сказать, что каждый из нас подобен еще не просохшему дереву, которое загорелось, отчасти дымит, отчасти горит, а отчасти высыхает и бывает охвачено этим огнем, пока мы, наконец, не будем так охвачены, что каждый из нас в отдельности и все мы вместе станем подобными купине неопалимой, которая горела огнем Божества и не сгорала в нем. И вот Церковь, даже в нашем лице, через этот дар Святого Духа наполнена Божеством, и наше человечество в ней и в Нем постепенно изменяется, постепенно перерабатывается каким-то порой незримым, а порой и ощутимым образом.
Я хочу вам дать пример того, как это бывает ощутимо. Несколько лет тому назад в наш лондонский храм зашел - не по своей воле, а просто для того, чтобы встретить верующую православную знакомую женщину - неверующий человек. Он надеялся прийти к концу службы, но милостью и провидением Божиим он пришел раньше и стал сзади. Он стоял молча, ничего не ожидая, не молясь, потому что он в Бога не верил, и вдруг (как он мне потом говорил) ощутил, что в этой церкви какое-то непонятное, никогда не испытанное им присутствие, что в этой церкви что-то есть, чего он никогда вне ее не встречал. Он приписал это влиянию пения, красоты церковной, икон, молитвы всех собранных, одним словом, приписал это влиянию на его душу чисто земных и человеческих действий и состояний. Но это его настолько озадачило, что он решил прийти и проверить, так ли это, или есть в этом месте нечто, чего он никогда не встречал дотоле. Через некоторое время он пришел до службы, когда никого не было, ничего не происходило; долго стоял, наблюдал, следил за собой и пришел к заключению, что в храме нечто - или Некто - присутствует, что это, вероятно, то, что люди называют Богом. Но и этого оказалось для него недостаточно; как он мне сказал, "какое мне дело до того, есть Бог или нет, если Он на меня никакого не может иметь влияния, если я Его буду ощущать только как внешнее присутствие или внешнюю силу?".
И он решил ходить в церковь и наблюдать уже не за своим состоянием, а за людьми: что с ними случается. Наблюдать не в смысле: как они себя ведут, как держат, как молятся, что делают, а происходит ли что-нибудь с ними. И он наконец ко мне пришел и сказал: "Я три года к вам хожу, наблюдал людей и пришел к заключению, что Бог, Который живет в этом храме, не только в нем живет, но действует. Я не знаю, становятся ли люди, которые у вас здесь бывают, лучше, но я вижу, что с ними что-то происходит, какое-то преобразование, преображение; они силой Бога, Который здесь присутствует, меняются; и мне необходимо быть измененным, и поэтому я к вам пришел: я хочу крещения, я хочу, чтобы и меня менял Бог"... Вот что человек - чужой, ничем с нами не связанный, не русский, человек, который не мог быть увлеченным русскостью или чувством, что он вернулся на какую-то свою родину, по-человечески ощутил. Вот как Дух Святой присутствует и даже в нас, при нашей немощи, действует, и сияет, и доходит.
И надо еще прибавить, что во Христе и в Духе мы так соединены с Отцом, как никто, нигде, никак не может быть соединен. Вы помните слова Спасителя: никто не приходит ко Отцу как только Мною (Ин. 14, 6), никто не знает Сына, кроме Отца, никто не знает Отца, кроме Сына и того, кому изволит Сын Его открыть (Мф. 11, 27) - потому что соотношение между Божественным Сыном и Отцом так непостижимо для нас, Их единство, Их непостижимая разность таковы, что только приобщаясь тому, что есть Христос, мы можем начать приближаться к пониманию того, Кто и что Небесный наш Отец. И когда мы говорим об Отцовстве в этом отношении, мы не говорим о том, что Бог добр, милостив, что Он источник нашего бытия и что поэтому в каком-то нравственном отношении, бытийном отношении мы являемся как бы Его сынами, дочерьми, детьми; нет, наше соотношение с Отцом во Христе и силой Святого Духа - нечто совершенно непостижимое иначе как опытом, но невыразимое словом. Это для нас непостижимо, но это наше призвание, и это самое содержание Церкви, это самая ее жизнь. Разве после этого мы может не говорить о том, что Церковь есть тайна, что Церковь свята всей святостью Триединого Бога, Который в ней живет, всей зачаточной и постепенно нарастающей святостью святых и грешников, которые Богом постепенно преображаются в новую тварь...
Вот та Церковь, о которой мы говорим верую, потому что, по слову Послания к евреям, вера - это уверенность в вещах невидимых. Да, для внешнего глаза это невидимо; внешний человек видит только человеческое общество: в некотором отношении привлекательное, в некотором отталкивающее. В каждом из нас и греховность, и устремленность к добру борются; разве Павел, великий Павел не говорил о том, что в нем два закона борются, закон жизни и закон смерти, закон духа и закон плоти (Рим. 7, 15-25)? - так же и в нас. Но все это мы знаем, знаем опытом, нашей соединенностью со Христом, действием Святого Духа, Который неизреченно нас учит молиться и четко, страшно нас учит называть Бога - Отцом нашим (Гал. 4, 6), потому что мы так едины, хотя бы зачаточно, со Христом Духом Святым. Вот во что мы верим, вот что мы знаем, вот почему можно жить в Церкви и почему можно не бояться смерти. Апостолы скрылись в Великую пятницу по страху перед смертью и страданием, потому что тогда они знали единственно временную жизнь на земле; но когда Христос воскрес, когда они стали живым телом Христовым (по слову одного из наших православных богословов: расширением, распространением воплощенности Христовой через века), тогда им стало не страшно умирать, потому что все, что можно было у них отнять, это - временную, преходящую жизнь, а они знали в себе жизнь вечную, которую никто, ничто отнять не может. И этот опыт приобщенности Богу так ярко иногда выражается у отцов Церкви.
Мне вспоминается один из гимнов святого Симеона Нового Богослова. После причащения он вернулся в свою келью, малую, ничтожную келью, где стояла деревянная скамья, служившая ему и скамейкой, и кроватью. Был он уже стареющим человеком; и он говорит: я с ужасом смотрю на эти старческие руки, на это стареющее, ветшающее тело, потому что приобщением Святых Тайн это - тело Христа; смотрю с трепетом и ужасом на эту ничтожную, малую келью - она больше небес, потому что содержит присутствие Бога, Которого не могут охватить небеса... Вот та Церковь, в которую мы верим, вот та Церковь, которую мы проповедуем, вот победа наша, победившая мир (1 Ин. 5, 4). Мне хочется сказать нечто и о другой стороне Церкви, о нас. Апостол Павел в свое время говорил: из-за вас имя Божие хулится (Рим. 2, 24). Если бы мы были теми христианами, которыми мы должны становиться и которыми некоторые святые с такой славой были! Я сейчас думаю о Симеоне, о котором я говорил, думаю о Максиме Исповеднике, о Сергии Радонежском, о Серафиме Саровском, которые сияли, как свет во тьме.
Но что же мы за общество? Мы - больное общество, мы больны смертностью, мы больны грехом, мы больны колебанием между добром и злом; и вместе с этим мы являемся чудодейственным обществом, благодаря которому, в его немощи, в его, скажем даже, ничтожестве присутствует вся слава, о которой я говорил. Мы сами порой гибнем и тонем, как Петр, когда он пошел по волнам и вместо того, чтобы думать о Христе, подумал о возможной своей смерти в разбушевавшихся волнах. И вместе с тем через это общество, через наше немощное присутствие вся эта полнота делается доступной тому миру, в котором мы живем. И это дивно... Что же мы может сделать для того, чтобы это больное, немощное, греховное общество все-таки вырастало в лице каждого из нас и в нашей совокупности в Церковь, о которой мы говорим верую, - во Святую Церковь?..
Вы помните, как апостол Павел горевал о своей собственной немощи и как он взмолился Богу о том, чтобы отнята была она от него, и как Спаситель ему ответил: Довольно тебе благодати Моей: сила Моя в немощи совершается (2 Кор. 12, 9). В какой, однако, немощи? Было бы самообманом думать, что как бы я ни был ленив, труслив, малодушен, как бы ни мало было во мне порыва, все равно Бог надо мной будет действовать, и кончится все хорошо. Неправда, этого не бывает! Бог взыщет любого грешника, Бог каждого из нас как бы держит над бездной; но вырасти в полную меру нашего призвания мы можем только, став, по слову апостола, сотрудниками Божиими, впрягшись вместе с Ним под одно иго... О какой же немощи говорит Павел? Я попробую изъяснить вам то, что мне кажется верным об этой немощи. Есть та греховная немощь, о которой я сейчас бегло сказал; но есть другая немощь, немощь отдающаяся, немощь, которая дает силе действовать в себе. Вы, наверное, помните, как когда вы были маленькие, ваша мать, или отец или кто-нибудь другой вдруг решил вас учить писать. Вы сели, не зная, что будет, вам вложили в руку карандаш, которым вы не умели пользоваться, и не знали, чего ожидать; а потом вашу руку взяла мать и стала водить вашей рукой; и пока вы понятия не имели о том, что должно произойти, пока ваша рука свободно двигалась в движении материнской руки, линии были такие прекрасные: и прямые, и округлые, и все было гармонией. В какой-то момент ребенок вдруг думает: теперь я понял, я буду помогать и начинает дергать карандашом: вот, хочу помочь; я вижу, что движение идет кверху - я доведу его до верха, уклоняется куда-то в сторону - я поведу его в сторону... И получаются каракули. Вот так человек пишет историю на земле.
Если бы только мы отдались в Божию руку и дали Богу двигать нашей рукой, писать Свою скрижаль таинственную нашей рукой, но Его движением, не было бы того уродства, которое мы создаем на земле. И другой пример. Я вам сказал в начале, что был когда-то врачом, в течение войны был хирургом. Хирург надевает перчатки во время операции, такие тонкие, такие хрупкие, что ногтем прорвать можно; а вместе с этим потому именно, что они такие тонкие, такие хрупкие, умная рука в перчатке может чудо совершить. Если вместо этой перчатки надеть крепкую, толстую перчатку, ничего нельзя сделать, потому что от этой гибкости, от этой слабости зависит и свобода движения. И третий пример: что слабее паруса на корабле? - а вместе с этим, парус, умело направленный, может охватить дыхание ветра и понести тяжелый корабль к цели. Замените тонкий, хрупкий парус крепкой железной доской - ничего не случится, кроме того, вероятно, что потонет корабль. Хрупкость и немощь этого паруса обеспечивает возможность для него охватить это дыхание ветра и понести корабль. А теперь подумайте: ветер, дыхание бурное, дыхание тихого вечернего ветра в видении Илии пророка, дыхание Святого Духа - вот чем мы должны быть наполнены. Мы должны быть так же хрупки, так же отданы, так же свободны, как детская рука в материнской руке, как легкая перчатка на руке хирурга, как парус, способный охватить дыхание духа и понести судно, куда должно. Вот где немощь может стать помощью, а не поражением, вот какой немощи мы должны учиться: этой отданности или, если предпочитаете, этой прозрачности, согласно слову святого Григория Паламы, который говорит о нас, что мы все густые, непрозрачные и что призвание человека - постепенно так очиститься, чтобы стать, как хрусталь, чистым, чтобы через человека лился Божественный свет беспрепятственно и благодаря ограненности его светил бы во все стороны и изливался на все твари вокруг.
http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=37&article=14647
СЛОВО О БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа

Из столетия в столетие Церковь находит все новые и новые слова, чтобы петь славу Пречистой Девы Богородицы, и все равно слов не находит: какие бы они ни были ласковые, восторженные, теплые, наши слова никогда не сравняются с тем, что была Божия Матерь, что Она есть для нас. Мы молимся Ей с таким доверием! Так нам ясно, несомненно, что Она отзовется на нашу молитву; так ясно нам, что радуется Она о каждой радости человеческой, радуется о спасении нашем, радуется о всем самом простом, самом земном. Но мы мало думаем о том, какой ценой эта радость Ей досталась. Уметь радоваться с радующимися, уметь радоваться о том, что добро, что нечто хорошее пришло в жизнь человека, не всегда легко. А для Матери Божией - это подвиг, который мы недостаточно измеряем. Ведь подумайте: каждый раз, когда мы говорим Деве Богородице: "Пречистая Богородица, спаси! Пречистая Дева, защити! Матерь Божия, заступись за нас!" - что это значит? Кто мы по отношению к Ней? Разве мы не те, ради которых Ее Сын умер на кресте? Разве не потому умер Он страшной смертью, пережив до этого ужас Гефсиманского сада и страстных дней, что мы - грешные, что каждый из нас потерял Бога, потерял доступ к Нему, потерял доступ к своему брату, к своему ближнему, к самому родному? Для того сделался Сын Божий Сыном человеческим, чтобы закрыть эту пропасть, которую грех создает между человеком и Богом, чтобы закрыть бездну, которая отделяет человека от человека... В одном житии рассказывается, как праведной жизни священник, в ужасе от того, что он видел вокруг себя, как-то в молитве воззвал: "Господи, когда же Ты накажешь этих людей?". И Христос перед ним стал и сказал: "Молчи! Так - не молись! Если только один-единственный человек был бы грешен, лишен Бога, отчужден от людей, погибал, Я был бы готов вновь стать человеком и тысячи раз перестрадать то, что Я перестрадал однажды на земле".
Вот любовь Божия; и вот любовь Божией Матери. Каждый раз, как мы Ей говорим: "Матерь, защити нас от того осуждения, которого мы заслуживаем"- потому что мы ведь изменники Богу, мы изменники друг другу - это то же самое как сказать: "Мать, я виновен в ужасной смерти Твоего Сына... Если Ты простишь, если Ты заступишься — никто не может меня осудить и отвергнуть. Прости, заступись, защити; тогда, я знаю, суд меня не застигнет, а милость Божия меня покроет, спасет и унесет из мира зла в мир Божьего Царства". Но как велика, как изумительна любовь Божией Матери, как мы ее изведали из столетия в столетие, чтобы быть в состоянии говорить такие слова! Ведь подумайте - многие из вас матери, отцы, сестры: кто из нас нашел бы в себе силу заступиться за убийцу сына, брата, мужа, близкого человека, сказав: "Я прощаю - не судите его, дайте ему идти в мир"? А именно это делает Божия Матерь. Заглянем в наши сердца: кто из нас может хоть сколько-то приблизиться к такому великодушию, к такой любви? И вот мы поем в акафисте: "Радуйся!.. Радуйся, Благодатная!.. Радуйся, всем радостям Ты еси радость... Радуйся, Дево, радуйся..." Да, радуйся. Радуйся о том, что люди, которые вокруг Тебя это поют, спасены ужасом Гефсимании, страстной седмицы, спасены крестом Твоего Сына. Радуйся, что так нас возлюбил Бог, радуйся, что так нас возлюбил Твой Сын, Божия Матерь; радуйся и о том, что не напрасна была Божия любовь и не напрасна оказалась крестная смерть Твоего Сына. Мы поняли любовь, мы приняли любовь; мы плачем, мы молимся, мы надеемся,
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 12 Май 2014, 14:55 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЕГО

Какие бывают животворящие и какие бывают страшные воды... В начале Книги Бытия мы читаем о том, как над водами носилось дыхание Божие и как из этих вод возникали все живые существа. В течение жизни всего человечества, но так ярко в Ветхом Завете мы видим воды как образ жизни: они сохраняют жизнь жаждущего в пустыне, они оживотворяют поле и лес, они являются знаком жизни и милости Божией, и в священных книгах Ветхого и Нового Завета воды представляют собой образ очищения, омовения, обновления. Но какие бывают страшные воды: воды Потопа, в которых погибли все, кто уже не мог устоять перед судом Божиим; и воды, которые мы видим в течение всей нашей жизни, страшные, губительные, темные воды наводнений...
И вот Христос пришел на Иорданские воды; в эти воды уже не безгрешной земли, а нашей земли, до самых недр своих оскверненной человеческим грехом и предательством. В эти воды приходили омываться люди, кающиеся по проповеди Иоанна Предтечи; как тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими омывались! Если бы мы только могли видеть, как омывающие эти воды постепенно тяжелели и становились страшными этим грехом! И в эти воды пришел Христос окунуться в начале Своего подвига проповеди и постепенного восхождения на Крест, погрузиться в эти воды, носящие всю тяжесть человеческого греха - Он, безгрешный.
Этот момент Крещения Господня - один из самых страшных и трагических моментов Его жизни. Рождество - это мгновение, когда Бог, по Своей любви к человеку желающий спасти нас от вечной погибели, облекается в человеческую плоть, когда плоть человеческая пронизывается Божеством, когда обновляется она, делается вечной, чистой, светозарной, той плотью, которая путем Креста, Воскресения, Вознесения сядет одесную Бога и Отца. Но в день Крещения Господня завершается этот подготовительный путь: теперь, созревший уже в Своем человечестве Господь, достигший полной меры Своей зрелости Человек Иисус Христос, соединившийся совершенной любовью и совершенным послушанием с волей Отца, идет вольной волей, свободно исполнить то, что Предвечный Совет предначертал. Теперь Человек Иисус Христос эту плоть приносит в жертву и в дар не только Богу, но всему человечеству, берет на Свои плечи весь ужас человеческого греха, человеческого падения, и окунается в эти воды, которые являются теперь водами смерти, образом погибели, несут в себе все зло, весь яд и всю смерть греховную. Крещение Господне, в дальнейшем развитии событий, ближе всего походит на ужас Гефсиманского сада, на отлученность крестной смерти и на сошествие во ад. Тут тоже Христос так соединяется с судьбой человеческой, что весь ее ужас ложится на Него, и сошествие во ад является последней мерой Его единства с нами, потерей всего и победой над злом. Вот почему так трагичен этот величественный праздник, и вот почему воды иорданские, носящие всю тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу безгрешному, всечистому, бессмертному, пронизанному и сияющему Божеством, телу Богочеловека, очищаются до глубин и вновь делаются первичными, первобытными водами жизни, способными очищать и омывать грех, обновлять человека, возвращать ему нетление, приобщать его Кресту, делать его чадом уже не плоти, а вечной жизни, Царства Божия.
Как трепетен этот праздник! Вот почему, когда мы освящаем воды в этот день, мы с таким изумлением и благоговением на них глядим: эти воды сошествием Святого Духа делаются водами Иорданскими, не только первобытными водами жизни, но водами, способными дать жизнь не временную только, но и вечную; вот почему мы приобщаемся этим водам благоговейно, трепетно; вот почему Церковь называет их великой святыней и призывает нас иметь их в домах на случай болезни, на случай душевной скорби, на случай греха, для очищения и обновления, для приобщения к новизне очищенной жизни. Будем вкушать эти воды, будем прикасаться к ним благоговейно. Началось через эти воды обновление природы, освящение твари, преображение мира. Так же как в Святых Дарах, и тут мы видим начало будущего века, победу Божию и начало вечной жизни, вечной славы -не только человека, но всей природы, когда Бог станет всем во всем. Слава Богу за Его бесконечную милость, за Его Божественное снисхождение, за подвиг Сына Божия, ставшего Сыном человеческим! Слава Богу, что Он обновляет и человека и судьбы наши, и мир, в котором мы живем, и что жить-то мы все-таки можем надеждой уже одержанной победы и ликованием о том, что мы ждем дня Господня, великого, дивного, страшного, когда воссияет весь мир благодатью принятого, а не только данного Духа Святого! Аминь.
http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=26&article=14706
ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшнее евангельское чтение является частью ряда бесед Христовых о суде. Эти беседы начинаются еще в предыдущей, 24-й главе Евангелия от Матфея. Ученики Спасителя, видя стройность и как будто неразрушимую крепость города Иерусалима, расстилающегося под их ногами, когда они находятся на горе Елеонской, спрашивают Его о судьбе этого города. Христос предупреждает их о том, что от всей этой крепости и силы не останется ничего, и что им надо быть бдительными, что им надо быть готовыми. Дальше дает Он им три притчи.
1-я говорит о том, что может оказаться поздно, что суд Божий может застигнуть нас врасплох, когда уже поздно что-нибудь предпринимать. Это рассказ о десяти девах, из которых пять оказались готовыми ко встрече Господа, а пять - безумных - оказались не готовыми. В этом - первое нам предупреждение: суд грядет, суд будет, и каждое мгновение человек должен быть готов, потому что суд нас застанет, когда мы не ожидаем его. Придет он, как говорит Господь, как вор в ночи.
2-я притча, притча о талантах. Самое в ней важное вот что: каждому человеку Господь дает нечто, что является его талантом, даром ему от Бога. Эти дарования различны, но все они должны принести плод, и Господь нас не судит по тому, сколько мы принесли плода, а по тому, как мы отнеслись к данному нам таланту. «Против силы человека», т.е. соответственно его силам, Христос дает и дарования. Одному хозяин вручил 10 серебряных монет, талантов, другому 5, а третьему - 1. Но из них только первые 2 принесли какой-то плод, 3-й никакого плода не принес. Господь не делает никакого различия между 1-м и 2-м, хотя 1-й принес богатый плод, а 2-й - наполовину меньше; но Господь осуждает 3-го за его малодушие: он не посмел рискнуть всем, чтобы Господу принести плод. Он зарыл свой талант, он уберег его, он принес его обратно Господу, каким он был. Как будто Господу и жаловаться не на что, и раб Ему так и говорит: «Ты Свое получил полностью». Но не для того был дан талант Господом, чтобы он остался бесплодным, а для того, чтобы человек, получив талант, стал другим человеком, новым человеком. То, чего не хватило у этого недостойного раба, было мужество, была смелость, была способность всем пожертвовать и всем рисковать, чтобы не оказаться бесплодным. Вот за это малодушие и за эту слабость души он и был осужден.
3-я притча читается перед самым Великим Постом. Она говорит нам о том, что плод, который мы должны принести, это плод истинной человечности. Вы помните притчу о козлищах и овцах. Бог не судит людей за то, что они не богословствовали, за то, что они не были велики, а за то, что они не были достойны своего человеческого звания, за то, что были жестки сердцем, черствы и неотзывчивы. Вот притчи, которые стоят перед нами теперь: предупреждение о том, что суд грядет, предупреждение о том, что он придет внезапно, как вор в ночи, и что мы можем оказаться неготовыми, предупреждение о том, что каждому из нас дано достаточно, чтобы принести плод в радость Господу и в спасение своей души, и этот плод бесконечно прост: будь человеком, и будешь ты способен принять Господа.
Вдумайтесь в эти слова - это путь простой, а вместе с тем, в конце его стоит суд, от которого ничего нас спасти не может, потому что тому, кто окажется недостойным своего звания человека, нет пути в Царство, где мы призваны быть подобными Самому Богу.
http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=103&article=14717
МОЛИТВА
* Печатается в сокращении по книге «Митрополит Сурожский Антоний. Молитва и Жизнь» Living Prayer. London, 1966.
Пер. с англ. Публикации: Журнал Московской Патриархии. 1968. №№ 3—7 (с сокр.); Рига, 1992)

ПЯТЬ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Мы все - начинающие. Я хочу поделиться кое-чем из того, что я узнал, частью из собственного опыта, а еще больше из опыта других. Молитва по своей сути - встреча души и Бога; но для того, чтобы встреча стала реальной, обе личности должны быть действительно самими собой. Между тем, мы в огромной степени нереальны, и Бог так часто нереален для нас: мы думаем, что обращаемся к Богу, а на деле обращаемся к образу Бога, созданному нашим воображением; мы думаем, что стоим перед Ним со всей правдивостью, тогда как на деле выставляем вместо себя кого-то, кто не является нашим подлинным “я”. Каждый из нас представляет собой в одно и то же время несколько разных личностей; это может быть очень богатым и гармоничным сочетанием, но может быть и весьма неудачным соединением противоречащих друг другу личностей.
В деле молитвы первая наша трудность - найти, какая из наших личностей должна выступить для встречи с Богом. Это непросто, потому что мы настолько не привыкли быть самими собой, что искренне не знаем, которая из всех личностей и есть это подлинное “я”. И мы не знаем, как его найти. Но если бы мы посвящали несколько минут в день на то, чтобы вдуматься в свои поступки, то, возможно, приблизились бы к открытию этого. Мы могли бы спросить себя: когда же я был действительно самим собой? Может быть, никогда, может быть, лишь на долю секунды или до известной степени. И вот, в эти 5 или 10 мин., которые вы можете выделить, вы обнаружите, что нет для вас ничего более скучного, чем остаться наедине с самим собой. Обычно мы живем как бы отраженной жизнью. Самая жизнь, которая в нас есть, очень часто вовсе не наша, - это жизнь других людей. Если вы решитесь спросить себя, как часто вы поступаете, исходя из самых глубин своей личности, то увидите, что это бывает очень редко. Так вот, в течение этих минут сосредоточенности надо оставить все, что не является жизненно важным.
Вы рискуете, конечно, что вам будет скучно наедине с собой; ну что ж, пусть будет скучно. В глубине нашего существа мы созданы по образу Божию, и это совлечение всего ненужного очень похоже на расчистку прекрасной древней стенной живописи, которую в течение веков закрашивали лишенные вкуса люди. Сначала чем больше мы расчищаем, тем больше появляется пустоты, и нам кажется, что мы только напортили там, где было хоть несколько красоты. Мы видим убожество, затем промежуточную путаницу, но в то же время можем предугадать и подлинную красоту. И тогда мы обнаруживаем, что мы такое: убогое существо, которое нуждается в Боге, чтобы встретиться с Ним.
Упражнение первое
Итак, каждый вечер в течение недели будем молиться такими простыми словами: «Помоги мне, Боже, освободиться от всего поддельного и найти мое подлинное “я”». Горе и радость, эти два великих дара Божиих, часто бывают моментом встречи с самим собой, когда мы становимся неуязвимыми для всей лжи жизни. Следующая наша задача - исследовать проблему реального Бога, ибо совершенно очевидно, что, если мы решаем обращаться к Богу, этот Бог должен быть реален. Все мы знаем, что такое классный наставник для школьника; когда школьник должен к нему явиться, он идет к нему только как к классному руководителю, и ему никогда не приходит в голову, что классный руководитель - человек, и потому никакой человеческий контакт с ним невозможен.
Другой пример: когда юноша влюблен в девушку, он наделяет ее всевозможными совершенствами; но она может не иметь ни одного из них. Здесь опять-таки не может быть контакта, потому что юноша обращается к кому-то несуществующему. Это верно и в отношении Бога. У нас имеется определенный запас мысленных образов Бога. И очень часто эти образы не дают нам встретить реального Бога. Они не совсем ложны и вместе с тем они совершенно не соответствуют реальному Богу. Если мы хотим встретить Бога, мы должны пользоваться знанием, которое мы приобрели лично, но идти и дальше. Сегодняшнее наше знание о Боге есть результат вчерашнего опыта, и, если мы будем обращаться лицом к Богу такому, каким мы Его знаем, мы всегда будем поворачиваться спиной к настоящему и будущему, глядя только на свое прошлое. Поступая так, мы пытаемся встретить не Бога, а то, что уже знаем о Нем. Если вы хотите встретиться с Богом таким, каков Он есть в действительности, вы должны приходить к Нему с известным опытом, чтобы он подвел вас ближе к Богу, но затем оставить этот опыт и стоять перед Богом, вместе уже известным и еще неведомым. Что же будет дальше? Нечто совсем простое: Бог, Который свободен прийти к вам, может прийти и дать вам ощутить Свое присутствие; но Он может и не сделать этого; и этот опыт столь же важен, как и первый, потому что в обоих случаях вы прикасаетесь к реальности Божиего права отозваться или не отозваться.
Упражнение второе
Итак, постарайтесь найти свое подлинное «я» и поставить его лицом к лицу перед Богом, таким, каков Он есть. И чтобы дать вам опору в этом усилии, я предлагаю вам в течение одной недели молиться следующими словами: «Помоги мне, Боже, освободиться от всякого ложного Твоего образа, чего бы мне это ни стоило». В поисках своего подлинного «я» мы можем испытать не только скуку, о которой я говорил, но и ужас, и даже отчаяние. Эта нагота души приводит нас в чувство; тогда-то мы и можем начать молиться. Первое, чего следует избегать лжи Богу; это кажется совершенно очевидным, и все же мы не всегда делаем так. Будем говорить с Богом откровенно, скажем Ему, кто мы таковы; не потому, что Он не знает этого; но одно дело - принимать тот факт, что кто-то нас любящий знает все о нас, и совсем другое - иметь мужество и подлинную любовь к этому лицу, чтобы сказать ему все о себе. Скажем Богу откровенно, что у нас нет настоящего желания встретиться с Ним, что мы устали и предпочли бы лечь спать. Но при этом надо остерегаться вольности или просто дерзости: Он - Бог наш. После этого лучше всего было бы радостно оставаться в Его присутствии, как мы бываем с горячо любимыми людьми. Мы не испытываем такой радости и близости с Ним, чтобы просто сидеть и смотреть на Него и быть счастливыми. А если уж нам приходится говорить, то пусть это будет подлинный разговор. Переложим наши заботы на Бога, и, рассказав Ему все, так, чтобы Он это узнал от нас самих, оставим попечение о своих заботах, передав их Богу. Теперь нам не о чем больше беспокоиться: мы можем свободно думать о Нем.
Упражнение третье
Упражнение этой недели следует, очевидно, присоединить к упражнениям предыдущих недель; оно будет состоять в том, чтобы учиться, поставив себя перед Богом, передавать Ему все наши заботы до единой, а затем оставлять попечение о них; и чтобы получить в этом помощь, будем изо дня в день повторять простую и конкретную молитву: «Помоги мне, Боже, оставить все мои заботы и сосредоточить мои мысли на Тебе Одном». Если бы мы не переложили своих забот Богу, они стояли бы между Ним и нами во время нашей встречи; но мы видели также, что следующим движением мы должны оставить попечение о них. Мы должны сделать это, веря Богу настолько, чтобы передать Ему тревоги, которые мы хотим снять со своих плеч. Но что же затем? Мы как будто опустошили себя - что нам делать дальше? Мы не можем оставаться пустыми, потому что тогда мы наполнимся не тем, чем следует, - чувствами, мыслями, воспоминаниями. Нам нужно, я думаю, помнить, что, беседуя, мы не только высказываемся, но и выслушиваем то, что имеет сказать собеседник. А для этого надо научиться молчать. Помню, когда я принял священство, одной из первых пришла ко мне за советом одна старушка и сказала: «Батюшка, я молюсь почти непрерывно 14 лет, и у меня никогда не было чувства Божия присутствия». Тогда я спросил: «А давали ли вы Ему вставить слово?» «Ах, вот что, - сказала она. - Нет, я сама говорила Ему все время, - разве молитва не в этом?» «Нет, - ответил я, - думаю, что не в этом; и вот, я предлагаю, чтобы вы выделили 15 мин. в день и просто сидели и занимались вязаньем перед лицом Божиим». Так она и сделала. Что же вышло? Очень скоро она пришла снова и сказала: «Удивительно, когда я молюсь Богу, то есть когда говорю с ним, я ничего не чувствую, а когда сижу тихо, лицом к лицу с Ним, то чувствую себя как бы окутанной Его присутствием». Вы никогда не сможете молиться Богу по-настоящему и от всего сердца, если не научитесь хранить молчание и радоваться чуду Его присутствия.
Очень часто, сказав все, что мы имели сказать, и посидев, мы недоумеваем, что же делать дальше. Дальше, я думаю, надо читать какие-либо из существующих молитв. Некоторые находят это слишком легким и в то же время видят опасность принять за настоящую молитву простое повторение того, что когда-то сказал кто-то другой. Действительно, если это просто механическое упражнение, оно не стоит труда, но при этом забывается, что от нас самих зависит, чтобы оно не было механическим. Другие жалуются, что готовые молитвы чужды им, потому что это не совсем то, что выразили бы они сами. В каком-то смысле эти молитвы действительно чужды, но лишь в том только, в каком картина великого мастера чужда, непонятна для ученика или музыка великого композитора - для начинающего музыканта. Но в том-то и дело: мы ходим на концерты, в картинные галереи для того, чтобы формировать свой вкус. И вот почему, отчасти, мы должны пользоваться готовыми молитвами - для того, чтобы научиться, какие чувства, какие мысли, какие способы выражения нам следует развивать, если мы принадлежим к Церкви.
Упражнение четвертое
Каждый из нас — это не только то убогое существо, которое мы обнаруживаем, оставшись наедине с собой; мы еще и образ Божий; и дитя Божие, способное молиться самыми возвышенными молитвами Церкви. Я предлагаю, чтобы к прежнему упражнению мы добавили немного молчания, 3-4 мин., и закончили молитвой: «Помоги мне, Боже, видеть мои собственные грехи, никогда не осуждать своего ближнего, и вся слава да будет Тебе!» Прежде чем начать говорить о молитвах, оставшихся без ответа, я хочу попросить Бога, чтобы Он просветил и меня и вас, потому что это трудная и жизненно важная тема. Это одно из больших искушений, из-за которого начинающим и даже людям, имеющим молитвенный опыт, бывает очень трудно молиться Богу. Так часто им кажется, что они обращаются к пустому небу.
Нередко это происходит оттого, что молитва их - бессмысленное ребячество. Я помню, как один пожилой человек рассказывал мне, что в детстве он много месяцев просил Бога даровать ему изумительную способность, которой обладал его дядя,- вынимать каждый вечер свои зубы изо рта и класть их в стакан с водой, и как счастлив он был позже, что Бог не исполнил его желание. Часто наши молитвы - такие же ребяческие, как и эта, и, конечно, они остаются неисполненными. Когда мы молимся о попутном ветре себе, мы не задумываемся о том, что это может оказаться бурей на море для других, и Бог не исполнит прошение, которое принесет вред другим. Кроме этих двух очевидных моментов есть и другая сторона вопроса: бывает, что мы молимся Богу о чем-то, что достойно быть услышанным, и встречаем одно молчание, а молчание перенести гораздо труднее, чем отказ. Если Бог скажет «нет», это будет все же положительной реакцией, а молчание есть как бы отсутствие Бога, и оно ведет нас к двум искушениям: когда наша молитва не получает ответа, мы сомневаемся или в Боге, или в себе. В отношении Бога мы сомневаемся не в Его могуществе, но в Его любви. Это первое искушение.
И есть другое искушение. Мы знаем, что, имея веру с горчичное зерно, мы могли бы двигать горами (Мф 17:20, Мк 9:23), и когда видим, что ничего не сдвигается с места, то думаем: «Может быть, это значит, что вера моя в чем-то неистинна?» Это опять-таки неверно, и на это есть другой ответ: если вы внимательно прочитаете Евангелие, то увидите, что в нем есть только одна молитва, не получившая ответа. Это молитва Христа в Гефсиманском саду. Но в то же время мы знаем, что если когда-либо в истории Бог принимал участие в ком-то, кто молился, то, конечно, именно в Своем Сыне перед Его смертью; и мы знаем также, что если был когда-либо пример совершенной веры, то это было именно тогда. Но Бог нашел, что вера Божественного Страдальца достаточно велика, чтобы вынести молчание. Бог не дает ответа на наши молитвы не только, когда они недостойны, но и когда Он находит в нас такое величие, что Он может положиться на то, что мы пребудем верными даже перед лицом Его молчания. Я помню одну женщину, неизлечимо больную; много лет она жила в ощущении присутствия Божия, а затем внезапно ощутила Его отсутствие; она написала мне тогда: «Пожалуйста, молитесь Богу, чтобы я никогда не поддалась искушению создать себе иллюзию Его присутствия, вместо того чтобы принять Его отсутствие». Вера ее была велика. Она была способна выдержать это искушение, и Бог дал ей испытать Свое молчание.
Упражнение пятое
Я не могу дать вам никакого упражнения; хочу только, чтобы вы помнили, что мы всегда должны хранить неизменной свою веру и в любовь Божию, и в нашу собственную честную веру; и когда такое искушение придет, будем молиться молитвой, состоящей из двух фраз, произнесенных Самим Иисусом Христом: «В руки Твои предаю дух Мой; не Моя воля да будет, но Твоя». Я попытался дать вам представление о главных путях, какими мы можем подойти к молитве; но означает ли это, что вы научитесь молиться? Нет, конечно, потому что молитва - это не просто усилие; молитва должна корениться в нашей жизни, и если жизнь наша противоречит нашим молитвам, они никогда не будут реальными. Другая трудность, с которой мы постоянно сталкиваемся, это мечтательность: тогда молитва наша выражает сентиментальное настроение, а не то, чем наша жизнь является по своей сути. Для этих двух трудностей существует одно общее разрешение: связать жизнь с молитвой так, чтобы это было единое целое. Очень большую помощь окажут при этом готовые молитвы, потому что они представляют собой образец того, как надлежит молиться. Вы можете сказать. что они для нас неестественны, и это верно, в том смысле, что они выражают жизнь людей неизмеримо более великих; но потому-то вы и можете пользоваться ими, стараясь стать такого рода людьми.
Помните слова Христовы: "В руки Твои предаю дух Мой" (Лк 23:46). Они, разумеется, за пределами нашего собственного опыта; но если изо дня в день мы будем учиться быть такого рода людьми, которые способны произносить эти слова искренне, мы не только сделаем свою молитву реальной, мы сами станем реальными. Если вы возьмете, например, те пять молитв, которые я предложил вам, если вы постараетесь сделать каждую из них поочередно девизом, лозунгом всего дня, вы увидите, что молитва станет критерием вашей жизни, но и жизнь ваша также будет вашим судьей, обвиняя вас во лжи, когда вы произносите эти слова, или, наоборот, подтверждая, что вы верны им.
* * *
Теперь нам предстоит расстаться. Я был бесконечно рад беседовать мысленно с вами, ибо мы объединены молитвой и нашим общим интересом к духовной жизни. Да будет господь Бог с каждым из вас и среди нас вовек. И, прежде чем мы расстанемся, я предлагаю читателю произнести со мной одну краткую молитву, которая соединит нас перед престолом Божиим: Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты Один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня больше, нежели я умею любить себя. Дай мне зреть нужды мои, которые сокрыты от меня. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстою перед Тобой. Сердце мое Тебе отверсто. Возлагаю всю надежду на Тебя. Ты зри нужды, которых я не знаю, зри и сотвори со мной по милости Твоей. Сокруши и подыми меня. Порази и исцели меня. Благоговею и безмолвствую перед святою Твоею волею, непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться, Сам во мне молись. Аминь.
http://foma.ru/mitropolit-surozhskiy-antoniy-molitva.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 27 Апр 2019, 11:14 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | МЫ ПОЕМ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ!
Проповедь митрополита Антония Сурожского в праздник Пасхи

Мы поём Христово Воскресение, и вот только что словами святого Иоанна Златоустого мы провозглашали победу жизни над смертью: «Где, ад, твоё жало, где, смерть, твоя победа?» Воскрес Христос и ни один мертвец не остался в гробе. А вместе с этим мы видим собственными очами, мы слышим страшные вести о том, что смерть всё ещё косит вокруг нас, что умирают ближние, умирают молодые, умирают дорогие - где же это благовестие о победе жизни?
Смерть бывает разная. Бывает телесная смерть, но бывает смерть ещё более страшная: разлука, разлука окончательная, разлука вечная, непреодолимая разлука. И эта смерть, в течение тысячелетий до прихода Христова, была опытом всего человечества. Оторвавшись от Бога, потеряв Бога как источник своей жизни, человечество стало не только умирать телом, но стало уходить окончательно, навсегда от общения с Ним. Умерев без Него, люди оставались мёртвыми без Него. И вот Христос, Сын Божий, Бог Живой пришёл на землю, Он жил человеческой жизнью. Будучи Богом Живым, самой Жизнью, Он приобщился всему, что составляло судьбу человека: Он жаждал, был голоден, уставал; но страшнее всего в конечном итоге Он приобщился умиранию и смерти. Как Бог Он умереть не мог; но по любви к нам Он разделил с нами нашу судьбу. С Богом остался и был отвержен людьми; с людьми не разлучился и на Кресте - о, на Кресте Он сказал самые страшные слова истории: «Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?..» И умер, умер: сама Жизнь умерла, потух свет, который Свет по существу...
***
И вот сошёл Христос Своей душой в ту бездну богооставленности, где нет Бога. Когда Он вошёл в эту страшную область, Он Собой, Своим Божеством, Жизнью вечной, Светом неумирающим заполнил всё. И эта смерть навсегда упразднена; теперь смерть мы называем успением, временным сном. И когда умираем, мы уходим не в бездну отчаяния и Богооставленности, а к Богу, возлюбившему нас так, что Он Сына Своего единородного, единственного, возлюбленного дал, чтобы мы поверили в Его любовь! И можем ли мы в этой любви сомневаться, когда мы видим, знаем, чего эта любовь Богу стоила: жизнь Христа, смерть Христа, отверженность людьми, отверженность Богом, ужас Гефсиманского сада, когда Он ждал смерти, зная, что Его предал близкий ученик, зная, что через несколько часов Пётр, другой Его ученик, от Него отречётся и что все Его оставят умирать в одиночестве, умирать одному? И этим Он нам говорит: «Смотрите: и это Я на Себя принял. Я умер, чтобы вы верили, что вы любимы Богом, и потому что вы Богом любимы, вы спасены. Потому что спасение наше не от нас зависит, а от этого чуда, чуда любви».
***
А мы - чем можем отозваться на эту любовь? Мы можем эту любовь принять благоговейно, трепетно в сердца наши, мы можем с изумлением предстоять перед этим чудом непобедимой Божественной любви. И если мы это поняли, тогда мы можем всю жизнь благодарить, превратить всю жизнь в благодарение: не по долгу поклоняться Богу, не по необходимости исполнять Его заповеди, а сказать: «Господи! Если Ты нас так любишь, то можно Тебя почитать, любить, слушаться, потому что Твой путь - путь жизни. И всю жизнь, всю без остатка сделать не словом благодарности, не песнью благодарности, а живой благодарностью: так любить каждого человека, как его возлюбил Бог: любой ценой и до конца». И если мы так научимся любить, то мир наш станет новым, другим миром; тогда придёт к нам Царство Божие, Воскресение, новая жизнь. Но для этого каждый из нас должен умереть - не телесной смертью и не ужасной смертью разлуки, а отказом от всего себялюбия, от искания своего открыться Богу, открыться другим, жить для других. Потому что воскреснуть вечной жизнью может только то, что сбросило с плеч, как старую, ненужную одежду, всё временное и тленное...

ТАК будем жить и ТАКОЙ мир создавать, и тогда возрадуется о нас Господь, и мы с радостью взглянем Ему и каждому человеку в лицо...
http://vzov.ru/2019/03-05/05.html
БЕЗ ЗАПИСОК
Автобиографический рассказ Владыки Антония был записан в 1973 г. Первая публикация - журнал «Новый мир». 1991. № 1. (из книги "Человек перед Богом")

- Расскажите, пожалуйста, о Вашем детстве…
- У меня очень мало воспоминаний детства; у меня почему-то не задерживаются воспоминания. Отчасти потому, что очень многое наслоилось одно на другое, как на иконах: за 5-м слоем не всегда разберешь 1-й; а отчасти потому, что я очень рано научился или меня научили, что, в общем, твоя жизнь не представляет никакого интереса; интерес представляет то, для чего ты живешь. И поэтому я никогда не старался запоминать ни события, ни их последовательность - раз это никакого отношения ни к чему не имеет! Прав я или не прав - это дело другое, но так меня прошколили очень рано. И поэтому у меня очень много пробелов.
Родился я случайно в Лозанне, в Швейцарии (19 июня 1914 г.) ; мой дед по материнской линии, Скрябин, был русским консулом на Востоке, в тогдашней Оттоманской империи, сначала в Турции, в Анатолии, а затем в той части, которая теперь Греция. Мой отец встретился с этой семьей, потому что тоже шел по дипломатической линии, был в Эрзеруме секретарем у моего будущего деда, познакомился там с моей матерью, и в свое время они поженились. Дед мой тогда уже вышел в отставку и проводил время - 1912-1913 годы - в Лозанне; отец же в этот период был назначен искусственно консулом в Коломбо: это было назначение, но туда никто не ездил, потому что там ничего не происходило, и человека употребляли на что-нибудь полезное, но он числился. И вот, чтобы отдохнуть от своих коломбских трудов, они с моей матерью поехали в Швейцарию к ее отцу и моей бабушке. Бабушка моя, мать моей матери, родилась в Италии, в Триесте; но Триеста в то время входила в Австро-Венгерскую империю; про ее отца я знал только, что его звали Илья, потому что бабушка была Ильинична; они были итальянцы… Мать моей бабушки позже стала православной с именем Ксения; когда она вышла замуж, ее мать уже была вдова и уехала с ними в Россию.
Было их 3 сестры; старшая (впоследствии она была замужем за австрийцем) была умная, живая, энергичная и до поздней старости осталась такой же; и жертвенная была до конца. Она болела диабетом, напоследок у нее случилась гангрена; хотели оперировать (ей тогда было лет под 80), она сказала «нет»: ей всё равно умирать, операция будет стоить денег, а эти деньги она может оставить сестре, - так она и умерла. Так это мужественно и красиво. Младшая сестра была замужем за хорватом и крайне несчастна. Мой дед Скрябин был в Триесте русским консулом и познакомился с этой семьей, и решил жениться на бабушке, к большому негодованию ее семьи, потому что замуж следовало сначала выдавать, конечно, старшую сестру, а бабушка была средняя. И вот 17-ти лет она вышла замуж. Она была, наверное, удивительно чистосердечной и наивной, потому что и в 95 лет она была такая же. Например, не могла себе представить, чтобы ей соврали; вы могли ей рассказать самую невозможную вещь - она на вас смотрела такими детскими, теплыми, доверчивыми глазами и говорила: «Это правда?..»
- Вы пробовали? В каких случаях? При необходимости?
- Конечно, пробовал. Без необходимости, а просто ей расскажешь что-нибудь несосветимое, чтобы рассмешить ее, как анекдот рассказывают. Она и я никогда не умели вовремя рассмеяться; когда нам рассказывали что-нибудь смешное, мы всегда сидели и думали. Когда мама нам рассказывала что-нибудь смешное, она нас сажала рядом на диван и говорила: я вам сейчас расскажу что-то смешное, когда я вам подам знак, вы смейтесь, а потом будете думать. Дедушка решил учить ее русскому языку; дал ей грамматику и полное собрание сочинений Тургенева и сказал: теперь читай и учись. И бабушка действительно до конца своей жизни говорила тургеневским языком. Она никогда очень хорошо не говорила, но говорила языком Тургенева, и подбор слов был такой.
- Вы, значит, еще и итальянец?
- Очень мало, я думаю; у меня реакция такая антиитальянская, они мне по характеру совершенно не подходят. Вот страна, где я ни за что не хотел бы жить; когда я был экзархом, я ездил в Италию, и всегда с таким чувством: Боже мой! Надо в Италию!.. У меня всегда было чувство, что Италия - это опера в жизни: ничего реального. Мне не нравится итальянский язык, мне не нравится их вечная возбужденность, драматичность, так что Италия, из всех стран, которые я знаю, пожалуй, последняя, где я бы поселился. После свадьбы с дедушкой они приехали в Россию. Позже мой дед служил на Востоке, а мама была тогда в Смольном и приехала на каникулы к родителям (6 дней на поезде из Петербурга до персидской границы, а потом на лошадях до Эрзерума), где и познакомилась с моим отцом, который был драгоманом, то есть, говоря по-русски, переводчиком в посольстве. Потом дед кончил срок своей службы, и, как я сказал, они уехали в Швейцарию - моя мать уже была замужем за моим отцом. А потом была война, и на войне погиб первый бабушкин сын; потом, в 1915 г., умер Саша, композитор; к тому времени мы сами - мои родители и я, с бабушкой же - попали в Персию (отец был назначен туда). Бабушка всегда была на буксире, она пассивная была, очень пассивная.
- А мать была, видно, очень интенсивная?
- Она интенсивная не была, она была энергичная, мужественная. Например, она ездила с отцом по всем горам, ездила верхом хорошо, играла в теннис, охотилась на кабана и на тигра - всё это она могла делать. Другое дело, что она совсем не была подготовлена к эмигрантской жизни, но она знала французский, знала русский, знала немецкий, знала английский, и это, конечно, ее спасло, потому что когда мы приехали на Запад, время было плохое - 1921 г. и безработица, но тем не менее со знанием языка можно было что-то получить; потом она научилась стучать на машинке, научилась стенографии и работала уже всю жизнь. Как отцовские предки попали в Россию, мне неясно; я знаю, что они в петровское время из Северной Шотландии попали в Россию, там и осели. Мой дед со стороны отца еще переписывался с двоюродной сестрой, жившей на северо-западе Уэстерн-Хайлендс; она была уже старушка, жила одна, в совершенном одиночестве, далеко от всего и, по-видимому, была мужественная старушка. Единственный анекдот, который я о ней знаю, это из письма, где она рассказывала деду, что ночью услышала, как кто-то лезет вверх по стене; она посмотрела и увидела, что на 2-й этаж подымается по водосточной трубе вор, взяла топор, подождала, чтобы он взялся за подоконник, отрубила ему руки, закрыла окно и легла спать. И всё это она таким естественным тоном описывала - мол, вот какие бывают неприятности, когда живешь одна. Больше всего меня поразило, что она могла закрыть окно и лечь спать; остальное - его дело.
Жили они в Москве, дедушка был врачом, а отец учился дома с двумя братьями и сестрой; причем дед требовал, чтобы они полдня говорили по-русски, потому что естественно - местное наречие; а другие полдня - один день по-латыни, другой день по-гречески сверх русского и одного иностранного языка, который надо было учить для аттестата зрелости, - это дома. Потом он поступил на математический, кончил, и оттуда - в школу МИД, дипломатическую школу, где проходили восточные языки и то, что нужно было для дипломатической службы. Отец рано начал ездить на Восток; еще 17-ти-18-летним юношей он ездил на Восток летом, во время каникул, верхом один через всю Россию, Турцию - это считалось полезным. Про его братьев я ничего не знаю, они оба умерли; один был расстрелян, другой умер, кажется, от аппендицита. А сестра была замужем в Москве за одним из ранних большевиков; но я не знаю, что с ней сталось, и не могу вспомнить фамилию; долго помнил, а теперь не могу вспомнить. Вдруг бы оказалось, что кто-то еще существует: со стороны отца у меня ведь никого нет… Моя бабушка с папиной стороны была моей крестной; на крестинах не присутствовала, только «числилась». Вообще, думаю, это не особенно всерьёз принималось, судя по тому, что никто из моих никогда в церковь не ходил до того, как впоследствии я стал ходить и их «водить»; отец начал ходить до меня, но это было уже значительно позже, после революции, в конце 20-х - начале 30-х годов .В Лозанне в 1961 г. я встретил священника, который меня крестил. Была очень забавная встреча, потому что я приехал туда молодым епископом (молодым по хиротонии), встретил его, говорю: «Отец Константин, я так рад вас снова повидать!» Он на меня посмотрел, говорит: «Простите, вы, вероятно, путаете, мы, по-моему, с вами не встречались». Я говорю: «Отец Константин! Как вам не стыдно, мы же с вами знакомы годами и вы меня не узнаете?!» - «Нет, простите, не узнаю…» - «Как же, вы меня крестили!,,» Ну, он пришел в большое возбуждение, позвал своих прихожан, которые там были: смотрите, говорит, я крестил архиерея!.. А в следующее воскресенье я был у него в церкви, посередине церкви была книга, где записываются крестины, он мне показал, говорит: «Что же это значит, я вас крестил Андреем - почему же вы теперь Антоний?» В общем, претензия, почему я переменил имя.
А потом он служил и читал Евангелие по-русски, и я не узнал, что это русский язык был. Говорили мы с ним по-французски, служил он по-гречески, а Евангелие в мою честь читал на русском языке, - хорошо, что кто-то мне подсказал: вы заметили, как он старался вас ублажить, как он замечательно по-русски читает?.. Ну, я с осторожностью его поблагодарил. Месяца 2 после моего рожденья мы прожили с родителями в Лозанне, а потом вернулись в Россию. Сначала жили в Москве, в теперешнем Скрябинском музее, а в 1915-1916 г. мой отец был снова назначен на Восток, и мы уехали в Персию. И там я провел 2-ю часть относительно раннего детства, лет до 7. Воспоминаний о Персии у меня ясных нет, только отрывочные. Я, скажем, глазами сейчас вижу целый ряд мест, но я не мог бы сказать, где эти места. Например, вижу большие городские ворота; это может быть Тегеран, может быть, Тавриз, а может быть и нет; почему-то мне сдается, что это Тегеран или Тавриз. Затем мы очень много ездили, жили примерно в 10 разных местах. Потом у меня воспоминание (мне было, я думаю, лет 5-6), как мы поселились недалеко, кажется, от Тегерана, в особняке, окруженном большим садом. Мы ходили его смотреть. Это был довольно большой дом, весь сад зарос и высох, и я помню, как я ходил и ногами волочил по сухой траве, потому что мне нравился треск этой сухой травы. Помню, у меня был собственный баран и собственная собака; собаку разорвали другие, уличные собаки, а барана разорвал чей-то пес, так что все это было очень трагично. У барана были своеобразные привычки: он каждое утро приходил в гостиную, зубами вынимал из всех ваз цветы и их не ел, но клал на стол рядом с вазой и потом ложился в кресло, откуда его большей частью выгоняли; то есть в свое время всегда выгоняли, но с большим или меньшим возмущением.
Постепенно, знаете, всё делается привычкой; в первый раз было большое негодование, а потом просто очередное событие: надо согнать барана и выставить вон. Был осел, который, как все ослы, был упрям. И для того, чтобы на нем ездить, прежде всего приходилось охотиться, потому что у нас был большой парк, и осел, конечно, предпочитал пастись в парке, а не исполнять свои ослиные обязанности. И мы выходили целой группой, ползали между деревьями, окружали зверя, одни его пугали с одной стороны, он мчался в другую, на него накидывались, и в конечном итоге после какого-нибудь часа или полутора часов такой оживленной охоты осел бывал пойман и оседлан. Но этим не кончалось, потому что он научился, что если до того, как на него наложат седло, он падет наземь и начнет валяться на спине, то гораздо труднее будет его оседлать. Местные персы его отучили от этого тем, что вместо русского казачьего седла ему приделали персидское деревянное, и в первый же раз, как он низвергся и повалился на спину, он мгновенно взлетел с воем, потому что больно оказалось. Но и этим еще не кончалось, потому что у него был принцип: если от него хотят одного, то надо делать другое, и поэтому если вы хотели, чтобы он куда-то двигался, надо было его обмануть, будто вы хотите, чтобы он не шел. И самым лучшим способом было воссесть очень высоко на персидское седло, поймать осла за хвост и потянуть его назад, и тогда он быстро шел вперед. Вот воспоминание.
Еще у меня воспоминание о первой железной дороге. Была на всю Персию одна железная дорога, приблизительно в 15 км. длиной, между не то Тегераном, не то Тавризом и местом, которое называлось Керманшах и почиталось местом паломничества. И всё шло замечательно, когда ехали из Керманшаха в город, потому что дорога под гору шла. Но когда поезд должен был тянуть вверх, он доходил до мостика, вот такого с горбинкой, и тогда все мужчины вылезали, и белые, европейцы, люди знатные шли рядом с поездом, а люди менее знатные толкали. И когда его протолкнут через эту горбинку, можно было снова садиться в поезд и даже очень благополучно доехать, что было, в общем, очень занимательно и большим событием: ну подумайте - 15 км. железной дороги! Затем, когда мне было лет 7, я сделал первое великое открытие из европейской культуры: первый раз в жизни видел автомобиль. Помню, бабушка подвела меня к машине, поставила и сказала: «Когда ты был маленький, я тебя научила, что за лошадью не стоят, потому что она может лягнуться; теперь запомни: перед автомобилем не стоят, потому что он может пойти». Тогда автомобили держались только на тормозах, и поэтому никогда не знаешь, пойдет или не пойдет
- Были у вас какие-нибудь гувернеры?
- В Персии была русская няня на первых порах; потом был период, примерно с 1918 по 1920 г., когда никого не было - бабушка, мама; были разные персы, которые научили ездить верхом на осле и подобным вещам. Из культурной жизни ничего не могу сказать, потому что не помню, в общем, ничего. Было блаженное время - в школу не ходил, ничему меня не учили, «развивали», как бабушка говорила. Бабушка у меня была замечательная; она страшно много мне вслух читала, так что я не по возрасту много «читал» в первые годы: «Жизнь животных» Брема, 3-4 тома, все детские книги - можете сами себе представить. Бабушка могла читать часами и часами, а я мог слушать часами и часами. Я лежал на животе, рисовал или просто сидел и слушал. И она умела читать; во-первых, она читала красиво и хорошо, во-вторых, она умела сделать паузу в те моменты, когда надо было дать время как-то отреагировать; периодически она переставала читать , мы ходили гулять, и она затевала разговоры, о чем мы читали: нравственные оценки, чтобы это дошло до меня не как развлечение, а как вклад, и это было очень ценно, я думаю. В 1920 г. мы начали двигаться из Персии вон: перемена правительства, передача посольства и т.д. Отец остался, а мать, бабушка и я, мы пустились в дорогу куда-то на Запад. У нас был дипломатический паспорт на Англию, куда мы так никогда и не доехали; вернее, доехали, но уже значительно позже, в 1949 г. И вот отчасти верхом, отчасти в коляске проехали по северу Персии глубокой зимой, под конвоем разбойников, потому что это было самое верное дело.
В Персии в то время можно было ездить под двумя конвоями: или разбойников, или персидских солдат. И самое неверное дело был конвой персидских солдат, потому что они непременно вас ограбят, но вы на них жаловаться не можете: как же так? мы и не думали их грабить! мы же их защищали! кто-то на них напал, но мы не знаем, наверное, переодетые!.. Если показывались разбойники, конвой сразу исчезал: зачем же солдаты будут драться, рисковать жизнью, чтобы их еще самих ограбили?! А с разбойниками было гораздо вернее: они либо охраняли вас, либо просто грабили. Ну вот, под конвоем разбойников мы и проехали весь север Персии, перевалили через Курдистан, сели на баржу, проехали мимо земного рая: еще вплоть до Второй мировой войны там показывали земной рай и дерево Добра и Зла - там, где Тигр и Евфрат соединяются. Это замечательная картина: Евфрат широкий, синий, а Тигр быстрый, и воды его красные, и он врезается в Евфрат, и несколько сот метров еще видно в синих водах Евфрата струю красных вод Тигра. И вот там довольно большая поляна в лесу и посреди поляны огражденное решеточкой маленькое иссохшее деревце: вы же понимаете, что оно, конечно, высохло с тех пор. Оно всё увешено маленькими тряпочками: на Востоке в то время, когда вы проходили мимо какого-нибудь святого места, то отрывали лоскут одежды и привешивали к дереву или к кусту или, если нельзя было это сделать, клали камень, и получались такие груды. И там это деревце стояло; оно чуть не потерпело крушение, потому что во время Второй мировой войны американское солдаты его вырыли, погрузили на джип и собирались уже везти в Америку: дерево Добра и Зла - это же куда интереснее, чем перевезти какой-нибудь готический собор, всё-таки гораздо старее. И местное население их окружило и не дало джипу двигаться, пока командование не было предупреждено и их не заставили врыть обратно дерево Добра и Зла. Так что оно еще, вероятно, там и стоит.
В этот период я в первый и в последний раз курил. На пути было удивительно голодно и еще более, может быть, скучно, и я все ныл, чтобы мне что-нибудь дали съесть, чтобы скоротать время. А есть было нечего, и моя мать пробовала отвлечь мое внимание папиросой. В течение недели я пробовал курить, пососал одну папиросу, пососал другую, пососал третью, но понял, что папироса - это чистый обман, что это не пища и не развлечение, и на этом кончилась моя карьера курильщика. Потом тоже не курил, но совсем не из добродетельных соображений. Мне говорили: закуришь, как все, а я не хотел быть, как все. После говорили, что закуришь, когда попадешь в анатомический театр, потому что иначе никто не выдерживает, и я решил - умру, но не закурю; говорили, что когда попаду в армию, закурю; но так и не закурил. Так мы доехали до Басры, и так как в то время в океане были мины, то самый короткий путь на запад был от Басры в Индию, и мы поехали на восток, к Индии; там прожили с месяц, и единственное, что я помню, это красный цвет бомбейских зданий; высокие башни, куда парсы складывают своих усопших, чтобы их хищные птицы съели, и целые стаи орлов и других хищных птиц кружили вокруг этих башен; это единственное воспоминание, которое у меня осталось, кроме еле выносимой жары. А затем нас отправили в Англию, и тут я был полон надежд, которые, к сожалению, не оправдались.
Нас посадили на корабль, предупредив, что он настолько обветшал, что, если будет буря, он непременно потерпит крушение. А я начитался «Робинзона Крузо» и всяких интересных вещей и, конечно, мечтал о буре. Кроме того, капитан был полон воображения, если не разума, и решил, что всем членам семьи зараз погибать не надо, и поэтому маму приписал к одной спасательной лодке, бабушку - к другой, меня - к третьей, чтобы хоть один из нас выжил, если будем погибать. Мама очень несочувственно отнеслась к мысли о кораблекрушении, и я никак не мог понять, как она может быть такой неромантичной. 23 дня мы плыли из Бомбея до Гибралтара, а в Гибралтаре так и стали: корабль решил никогда больше не двигаться никуда. И нас высадили, причем большую часть багажа мы получили, но один большой деревянный ящик уплыл, то есть был перевезен в Англию, и мы получили его очень много лет спустя; англичане нас где-то отыскали и заставили уплатить фунт стерлингов за хранение. Это было громадное событие, потому что это был один из тех ящиков, куда в последнюю минуту вы сбрасываете все то, что в последнюю минуту вы не можете оставить. Сначала мы разумно упаковали то, что нужно было, потом - что можно было, и оставили то, что никак уже нельзя было взять, а в последнюю минуту - сердце не камень, и в этот ящик попали самые, конечно, драгоценные вещи, то есть такие, которые меня как мальчика потом интересовали в тысячу раз больше, чем теплое белье или полезные башмаки. Но это случилось уже позже. И вот мы пропутешествовали через Испанию, и единственное мое воспоминание об Испании - это Кордова и мечеть. Я ее не помню глазами, но помню впечатление какой-то дух захватывающей красоты и тишины. Затем север Испании: дикий, сухой, каменистый и который так хорошо объясняет испанский характер. Потом попали в Париж, и там я сделал еще два открытия. Одно: впервые в жизни я обнаружил электричество - что оно вообще существует. Мы куда-то въехали, было темно, и я остановился и сказал: надо лампу зажечь. Мама сказала: нет, можно зажечь электричество. Я вообще не понимал, что это, и вдруг услышал: чик и стало светло. Это было большим событием; знаете, в позднейших поколениях этого не понять, потому что с этим рождаются; но тогда это было такое непонятное явление, что может вдруг появиться свет, вдруг погаснуть, что не надо заправлять керосиновую лампу, что она не коптит, что не надо чистить стекла - целый мир вещей исчез.
А второе открытие - что есть люди, которых на улице давить нельзя. Потому что в Персии было так: по улице мчится всадник или коляска, и всякий пешеход спасает свою жизнь, кидаясь к стене; если ты недостаточно быстро кинулся, тебя кнутом огреют, а если не кинешься - тебя опрокинут: сам виноват, чего лезешь под ноги лошади! И вот мы ехали, по-моему, в первый день с вокзала на такси по Елисейским полям, то есть по громадной улице, - тогда почти не было автомобилей, всё было очень открыто, не было никаких магазинов вдоль улицы, это было очень красиво, - и вдруг я вижу: посреди улицы стоит человек и никуда не кидается, просто стоит, как вкопанный, и коляски, автомобили вот так проходят. Я схватил маму за руку, говорю: Мама! Его надо спасти!.. Мы ведь тоже были на машине, могли остановиться и сказать: скорей, скорей влезай, спасем!.. И мама мне сказала: Нет, это городовой. - Ну так что же, что он городовой?! Мама говорит: Городового нельзя давить… Я подумал: это же чудо! Если стать городовым, то можно на всю жизнь спастись от всех бед и несчастий!.. Со временем я несколько переменил свои взгляды, но в тот момент я действительно переживал это как дипломатический иммунитет: стоишь и тебя не могут раздавить! Вы понимаете, что это значит?!. Вот это было второе большое событие в моей европейской жизни. Это все, что я тогда в Париже обнаружил. Потом мы поехали в Австрию - все в поисках какой-нибудь работы для матери, а в Австрии еще была жива бабушкина старшая сестра, которая была замужем за австрийцем. Потом поехали в северную Югославию, в область Загреба и Марибора. Там мы жили какое-то время на ферме, мне было тогда лет 7, и я что-то подрабатывал, делая никому, вероятно, не нужные какие-то работы. Затем снова вернулись в Австрию, потому что в Югославии нечего было делать, и полтора года сидели в Вене. И там мне пришлось пережить первые встречи с культурой: меня начали учить писать и читать, и я этому поддавался очень неохотно. Я никак не мог понять, зачем это мне нужно, когда можно спокойно сидеть и слушать, как бабушка читает вслух - так гладко, хорошо, - зачем же еще что-то другое?
Один из родственников пытался меня вразумить, говоря: видишь, я хорошо учился, теперь имею хорошую работу, хороший заработок, могу поддерживать семью. Я его только спросил: ты не мог бы делать это за двоих? Так или иначе, в Вене я попал в школу и учился года полтора и отличился в школе очень позорным образом - вообще школа мне не давалась в смысле чести и славы. Меня водили как-то в зоологический сад, и, к несчастью, на следующий день нам задали классную работу на тему «чем вы хотите быть в жизни». И, конечно, маленькие австрияки написали всякие добродетельные вещи: один хотел быть инженером, другой - доктором, третий еще чем-то; а я был так вдохновлен тем, что видел накануне, что написал - даже с чудной, с моей точки зрения, иллюстрацией - классную работу на тему: «Я хотел бы быть обезьяной». На следующий день я пришел к школу с надеждой, что оценят мои творческие дарования. И учитель вошел в класс и говорит: вот, мол, я получил одну из ряда вон выдающуюся работу. «Встань!» Я встал и тут мне был разнос, что «действительно видно: русский варвар, дикарь, не мог ничего найти лучшего, чем возвращение в лоно природы» и т.д. и т.п. Вот это основные события из школьной жизни там. 2 года назад я впервые снова попал в Вену и наговаривал ленты для радио; и тот, кто делал запись, меня спросил, был ли я когда-нибудь в Вене. «Да». - «А что вы тогда делали?» - «Я был в школе». - «Где?» - «В такой-то»… Оказалось, что мы одноклассники, после 50-ти лет встретились; ну, конечно, друг друга не узнали, и дальше знакомство не пошло.
- А на каких языках вы с детства говорили?
- Меня с детства заставляли говорить по-русски и по-французски; по-русски я говорил с отцом, по-французски - с бабушкой, на том и на другом языке с матерью. И единственное, что было запрещено, это мешать языки, это преследовалось очень строго, и я к этому просто не привык. Ну, по-персидски говорил свободно. Это я, конечно, забыл в течение 3-х-4-х лет, когда мы уехали из Персии, но интересно, что когда я потом жил в школе-интернате и во сне разговаривал, видел сны и говорил, я говорил по-персидски, тогда как наяву уже ни звука не мог произнести и не мог понять ни одного слова. Любопытно, как это где-то в подсознании осталось, в то время как из сознания изгладилось совершенно. Потом немецкий: меня в раннем детстве научили произносить немецкий по-немецки, это очень помогло и теперь помогает. В хорошие дни у меня по-немецки, в общем, меньше акцента, чем по-французски. Когда ты год не говоришь на каком-то языке, потом ты уже ничего не можешь. Но самый замечательный комплимент я не так давно получил о моем немецком от кёльнского кардинала, который был слеп; когда я с ним познакомился, мы с ним поговорили и он мне сказал: «Можно вам задать нескромный вопрос?» Я говорю: Да. - «Каким образом вы, немец, стали православным?» Я задрал нос, потому что слепой человек большей частью чуток на звук. Но это был хороший день просто, потому что в более усталые дни я не всегда так хорошо говорю, но могу, когда случится. Испанский - читаю; итальянский - это вообще не проблема; голландский - легкий, потому что страшно похож на немецкий язык XII-XIII в. Когда голова совсем дуреет, читаю для отдыха немецкие стихи этой эпохи.
- А когда вы маленьким были, были какие-то обязанности, или просто как рос, так и рос?
- О нет! Прежде всего, с меня ничего не требовали неразумного, то есть у меня никогда не было чувства, что требуют, потому что родители большие и сильные и поэтому могут сломить ребенка. Но с другой стороны, если что-то говорилось - никогда не отступали. И я этого не помню, мама мне потом рассказывала - она мне как-то раз что-то велела, я воспротивился; мне было сказано, что так оно и будет, и я два часа катался по полу, грыз ковер и визжал от негодования, отчаяния и злости, а мама села тут же в комнате в кресло, взяла книжку и читала, ждала, чтобы я кончил. Няня несколько раз приходила: Барыня, ребенок надорвется! А мама говорила: Няня, уйдите!.. Когда я кончил, вывопился, она сказала: Ну, кончил? Теперь сделай то, что тебе сказано было… Это был абсолютный принцип. А потом принцип воспитания был такой, что убеждения у меня должны сложиться в свое время свои, но я должен вырасти совершенно правдивым и честным человеком, и поэтому мне никогда не давали повода лгать или скрываться, потому что меня не преследовали. Скажем, меня могли наказать, но в этом всегда был смысл, мне не приходилось иметь потаенную жизнь, как иногда случается, когда с детьми обращаются не в меру строго или несправедливо: они начинают просто лгать и устраивают свою жизнь иначе.У нас была общая жизнь; ответственности требовали от меня, - скажем, с раннего детства я убирал свою комнату: стелил постель, чистил за собой. Единственное, чему меня так и не научили, это чистить башмаки, и я уже потом, во время войны, нашел духовное основание этого не делать, когда прочел у Cure d’Ars* фразу, что вакса для башмаков - то же самое, что косметика для женщины, и я страшно обрадовался, что у меня есть теперь оправдание. Знаете, у всякого ребенка есть какие-то вещи, которые он находит ужасно скучными. Я всегда находил ужасно скучным пыль вытирать и башмаки чистить. Теперь-то я научился делать и то и другое. Ну, и потом все домашние работы мы делали вместе, причем именно вместе: не то что «пойди и сделай, а я почитаю», а «давай мыть посуду», «давай делать то или другое», и меня научили, как будто.
- Это еще в Персии?
- Нет, тогда была совсем, насколько я помню, свободная жизнь: большой сад при посольском имении, осел,- ничего, в общем, не требовалось. Кроме порядка: никогда бы мне не разрешили пойти гулять, если не прибрал книги или игрушки, или оставил комнату в беспорядке, - это было немыслимо. И теперь я так живу; скажем, облачения и алтарь я после каждой службы убираю, даже если между службами Выноса Плащаницы и Погребения остаются какие-нибудь полтора часа, всё складываю. Именно на том основании, что в момент, когда что-то кончено, оно должно быть так закончено, как будто, с одной стороны, ничего и не случалось, а с другой стороны - всё можно начать снова: это так помогает жить!, Например, меня научили с вечера всё приготовлять на завтра. Мой отец говорил: мне жить хорошо, потому что у меня есть слуга Борис, который вечером всё сложит, башмаки вычистит, всё приготовит, а утром Борис Эдуардович встанет - ему делать нечего.
- А маленьким вас баловали?
- Ласково относились, но не баловали в том смысле, что это не шло за счет порядка, дисциплины или воспитания. Кроме того, меня научили с самого детства ценить маленькие, мелкие вещи; а уж когда началась эмиграция, тогда сугубо ценить, скажем, один какой-то предмет; одна какая-нибудь вещица - это было чудо, это была радость, и это можно было ценить годами. Скажем, какой-нибудь оловянный солдатик или какая-нибудь книга - с ними жили месяцами, иногда годами, и за это я очень благодарен, потому что я умею радоваться на самую мелкую вещь в момент, когда она приходит, и не обесценивать ее никогда. Подарки делали, но не топили в подарках, даже тогда, когда была возможность, так что глаза не разбегались, чтобы можно было радоваться на одну вещь. На Рождество однажды я получил в подарок - до сих пор его помню - маленький русский трехцветный флаг из шелка; и я с этим флагом настолько носился, до сих пор как-то чувствую его под рукой, когда я его гладил, этот самый шелк, его трехцветный состав. Мне тогда объяснили, чтo это значит, что это наш русский флаг: русские снега, русские моря, русская кровь - и это так и осталось у меня: белоснежность снегов, голубизна вод и русская кровь. Во Франции, когда мы попали туда с родителями, довольно-таки туго было жить. Моя мать работала, она знала языки, а жили очень розно, в частности - все в разных концах города. Меня отдали живущим в очень, я бы сказал, трудную школу; это была школа за окраиной Парижа, в трущобах, куда ночью, начиная с сумерек, и полиция не ходила, потому что там резали. И, конечно, мальчишки, которые были в школе, были оттуда, и мне это далось вначале чрезвычайно трудно; я просто не умел тогда драться и не умел быть битым. Били меня беспощадно - вообще считалось нормальным, что новичка в течение первого года избивали, пока не научится защищаться. Поэтому вас могли избить до того, что в больницу увезут, перед глазами преподавателя. Помню, я раз из толпы рванулся, бросился к преподавателю, вопия о защите, - он просто ногой меня оттолкнул и сказал: Не жалуйся! А ночью, например, запрещалось ходить в уборную, потому что это мешало спать надзирателю. И надо было бесшумно сползти с кровати, проползти под остальными кроватями до двери, умудриться бесшумно отворить дверь - и т.д.; за это бил уже сам надзирател Ну, били, били и, в общем, не убили! Научили сначала терпеть побои; потом научили немного драться и защищаться - и когда я бился, то бился насмерть; но никогда в жизни я не испытывал так много страха и так много боли, и физической, и душевной, как тогда. Потому что я был хитрая скотинка, я дал себе зарок ни словом не обмолвиться об этом дома: всё равно некуда было деться, зачем прибавлять маме еще одну заботу? И поэтому я впервые рассказал ей об этом, когда мне было лет 45, когда это уже было дело отзвеневшее. Но этот год было действительно тяжело; мне было 8-9 лет, и я не умел жить.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 11 Май 2019, 13:57 | Сообщение # 7 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | Через 45 лет я однажды ехал в метро по этой линии; я читал, в какой-то момент поднял глаза и увидел название одной из последних станций перед школой - и упал в обморок. Так что, вероятно, это где-то очень глубоко засело: потому что я не истерического типа и у меня есть какая-то выдержка в жизни, - и это меня так ударило где-то в самую глубину. Это показывает, до чего какое-нибудь переживание может глубоко войти в плоть и кровь. Но чему я научился тогда, кроме того чтобы физически выносить довольно многое, это те вещи, от которых мне пришлось потом очень долго отучиваться: во-первых, что всякий человек, любого пола, любого возраста и размера, вам от рождения враг и опасность; во-вторых, что можно выжить, только если стать совершенно бесчувственным и каменным; в-третьих, что можно жить, только если уметь жить, как зверь в джунглях. Агрессивная сторона во мне не очень развилась, но вот эта убийственная другая сторона, чувство, что надо стать совершенно мертвым и окаменелым, чтобы выжить, - ее мне пришлось годами потом изживать, действительно годами. В полдень в субботу из школы отпускали, и в 4 часа в воскресенье надо было возвращаться, потому что позже идти через этот квартал было опасно. А в свободный день были другие трудности, потому что мама жила в маленькой комнатушке, где ей разрешалось меня видеть днем, но ночевать у нее я не имел права. Это была гостиница, и часов в 6 вечера мама меня торжественно выводила за руку так, чтобы хозяин видел; потом она возвращалась и разговаривала с хозяином, а я в это время на четвереньках проползал между хозяйской конторкой и мамиными ногами, заворачивал за угол коридора и пробирался обратно в комнату. Утром я таким же образом выползал, а потом мама меня торжественно приводила, и это было официальным возвращением после ночи, проведенной «где-то в другом месте». Нравственно это было очень неприятно, - чувствовать, что ты не только лишний, но просто положительно нежеланный, что у тебя места нет, нигде его нет. Не так удивительно поэтому, что мне случалось в свободные дни бродить по улицам в надежде, что меня переедет автомобиль и что всё это будет кончено. Были всё же очень светлые вещи; скажем, этот день, который проводился дома, был очень светлый, было много любви, много дружбы, бабушка много читала. Во время каникул - они были длинными - мы уезжали куда-нибудь в деревню, и я нанимался на фермы делать какие-то работы. Помню первое разочарование: работал целую неделю, должен был заработать 50 сантимов, держал их в кулаке и с восторгом из этой деревни возвращался в другую деревню; шел, как мальчишка, размахивая руками, и вдруг эти 50 сантимов вылетели у меня из кулака. Я их искал в поле, в траве - нигде не нашел, и мой первый заработок так и погиб.
Игрушки? Если вспоминать игрушки, я могу вспомнить - ну, помимо осла, который был на особом положении, потому что это был зверь независимый, этот русский флаг, помню 2-х солдатиков, помню маленький конструктор; помню, в Париже продавали тогда маленькие заводные sidecars, мотоцикл с коляской, - такой был. И потом помню первую книгу, которую я купил сам, - «Айвенго» Вальтера Скотта; «выбрал» я ее потому, что это была единственная книга в лавке; это была малюсенькая лавка и единственная детская книга. Бабушка решила, что мы можем себе позволить купить книжку, и я отправился; продавщица мне сказала: о, ничего нет, есть какая-то книжка, перевод с английского, называется «Иваноэ» (французское произношение «Айвенго»), - и посоветовала не покупать. И когда я вернулся домой бабушке рассказать, она говорит: немедленно беги покупай, это очень хорошая книга. До этого мы еще в Вене с бабушкой прочитали, вероятно, всего Диккенса; позже я разочаровался в Диккенсе; он такой сентиментальный, я тогда не замечал этого, но это такой шарж, такая сентиментальность, что очень многое просто пропадает. Вальтер Скотт - неровный писатель, то есть он замечательный писатель в том, что хорошо, и скучный, когда ему не удается, а эта книга мне тогда сразу понравилась. Ну, «Айвенго» такая книга, которая не может мальчику не понравиться.
- Были вещи, которых вы боялись, - темной комнаты, диких зверей?
- Нет, диких зверей я не специально боялся, просто не было случая особенно бояться. Ну, бывали кабаны у нас в Персии, они были в степи, заходили в сад; бывали другие дикие звери, но они по ночам рыскали, а меня всё равно ночью из дома не пускали, поэтому ничего особенно страшного не было. А темной комнаты я боялся, но я не скрывал таких вещей. С одной стороны, надо мной никогда не смеялись ни за какие страхи, ни за какие предрассудки, детские свойства; а отец в те периоды, когда мы были вместе, во мне развивал мужественные свойства просто рассказами о мужественных поступках, о том, какие были люди, и поэтому я сам тянулся к этому. Не к какому-то особенному героизму, а к тому, что есть такое понятие - мужество, которое очень высоко и прекрасно; поэтому мальчиком я себя воспитывал очень много в дисциплине. Когда я начал уже больше сознавать, когда мне было лет 11-12, я в себе воспитывал физическую выдержку. Отец, например, считал, позором, если ты возьмешь горячую кастрюлю и ее выпустишь из рук: держи! А если обожжешь пальцы - потом посмотрим. Это также относилось к утомлению, к боли, к холоду и так далее. Я себя очень воспитывал в этом отношении, потому что мне казалось, что это - да! Это мужественное свойство. Когда мне было лет 15-16, я годами спал при открытом окне без одеяла, и когда было холодно, я вставал, делал гимнастику, ложился обратно - ну, всё это впрок, как будто, пошло. Затем школьные годы пошли дальше, 3 года в той же школе. Почему? Она была самая дешевая, во-первых, затем, единственная по тому времени вокруг Парижа и в самом Париже, где мне можно было быть живущим. Потом меня перевели в другую - там был просто рай земной, божьи коровки, после того, что я видел в первой школе; самые ярые были просто, как картинки.
- Школьную дисциплину вы принимали?
- Я был слишком ленив для того, чтобы быть шаловливым мальчиком; у меня было чувство, что шалости просто того не стоят. Меня школа не интересовала, меня интересовали только русские организации; и кроме того, я обнаружил очень важную вещь: если ты учишься плохо, ты 2 года сидишь в одном классе, и так как я хотел избавиться от школы поскорее, то я всегда учился так, чтобы не засидеться; это было моим основным двигателем. А некоторые предметы я любил и ими занимался; то есть «некоторые», множественное число - почти преувеличение, потому что я увлекался латынью. Меня всегда интересовали и увлекали языки, латынь мне страшно нравилась, потому что одновременно с латынью я увлекся архитектурой, а латынь и архитектура одного свойства: это язык, который весь строится по определенным правилам, именно как строишь здание - и грамматика, и синтаксис, и положение слов, и соотношение слов, и этим меня латынь пленила. Немецкий я любил, немецкую поэзию, которую я и до сих пор люблю. Про архитектуру, когда мне было лет десять, я очень много читал, а потом успокоился, увлекся другим - воинским строем, тем, что называлось родиноведение, то есть всем, что относилось к России, - историей, географией, языком опять-таки; и жизнью ради нее. Я учился во французской школе, и там идеологической подкладки никакой не было: просто приходили, учились и уходили, или жили в интернате, но всё равно ничего не было за этим.
- Товарищи были по школе или по организации?
- Нет. Были товарищи в организации, то есть люди, мальчики, которых я любил больше или меньше, но я никогда ни к кому не ходил и никогда никого не приглашал.
- Принцип?
- Просто желания не было; я любил сидеть дома у себя в комнате один. Я повесил у себя на стене цитату из Вовенарга. «Тот, кто ко мне придет, окажет мне честь; кто не придет, доставит мне удовольствие»; и единственный раз, когда я пригласил мальчика в гости, он посмотрел на цитату и ушел. Общительным я никогда не был; я любил читать, любил жить со своими мыслями и любил русские организации. Я их рассматривал как место, где из нас куют что-то, и мне было всё равно, кто со мной, если он разделяет эти мысли; нравится он мне или не нравится - мне было совершенно всё равно, лишь бы он был готов головой стоять за эти вещи. Я уже не был живущим в школе, у меня было немножко больше времени, и я попал в первую свою русскую организацию, скаутскую, вроде пионеров, которая отличалась от других тем, что, кроме обычных летних лагерных занятий, таких, как палатки, костры, готовка на улице, лесные походы и так далее, нам прививалась русская культура и русское сознание; лет с 10-11 нас учили воинскому строю, и всё это с тем, чтобы когда-нибудь вернуться в Россию и отдать России обратно всё, что мы смогли собрать на Западе, чтобы мы могли быть действительно и физически и умственно готовы к этому. Так нас учили в течение целого ряда лет; летние лагеря длились месяц-полтора, строгие, суровые лагеря; обыкновенно часа 3 в день воинского строя, гимнастика, спорт, были занятия по русским предметам; спали на голой земле, ели очень мало, потому что тогда очень трудно было вообще найти каких-нибудь денег, но жили очень счастливо. Возвращались домой худющие; сколько бы ни купались - в речке, в море - возвращались грязные до неописуемости, потому что, конечно, больше плавали, чем отмывались. И вот так из года в год строилась большая община молодежи.
Последний раз, когда я уже был не мальчиком, а взрослым и заведовал таким летним лагерем, то в разных лагерях на юге Франции нас было более тысячи молодых людей и девушек, девочек и мальчиков.В 1927 г. (просто потому, что та группа, в которой я участвовал, разошлась, распалась) я попал в другую организацию, которая называлась «Витязи» и которая была организована Русским Студенческим Христианским Движением, где я пустил корни и где остался; я, в общем, никогда не уходил оттуда - до сих пор. Там всё было так же, но были две вещи: культурный уровень был гораздо выше, от нас ожидали гораздо большего в области чтения и в области знания России; а другая черта была - религиозность, при организации был священник и в лагерях была церковь. И в этой организации я сделал ряд открытий. Во-первых, из области культуры; похоже, все мои рассказы о культуре мне в стыд и осуждение, но ничего не поделаешь. Помню, однажды у нас в кружке мне дали первое задание - думаю, мне было лет 14 - прочесть реферат на тему «отцы и дети». Моя культурность тогда не доходила до того, чтобы знать, что Тургенев написал книгу под этим названием. И поэтому я сидел и корпел и думал, что можно сказать на эту тему. Неделю я просидел, продумал и, конечно, ничего не надумал. Помню, пришел на собрание кружка, забрался в угол в надежде, что забудут, может быть, пронесет. Меня, конечно, вызвали, посадили на табуретку и сказали: ну?.. Я посидел, помялся и сказал: я всю неделю думал над заданной мне темой...и замолчал. Потом в последующем глубоком молчании, прибавил: но я ничего не придумал… Этим кончилась первая лекция, которую я в жизни читал. А затем, что касается Церкви, то я был очень антицерковно настроен из-за того, чтo я видел в жизни моих товарищей католиков или протестантов, так что Бога для меня не существовало, а Церковь была чисто отрицательным явлением. Основной мой опыт в этом отношении был, может быть, такой. Когда мы оказались в эмиграции в 1923 г. Католическая Церковь предложила стипендии для русских мальчиков и девочек в школы. Помню, мама меня повела на «смотрины», со мной поговорил кто-то и с мамой тоже, и всё было устроено, и мы думали, что дело уже в шляпе. И мы уже собрались уходить, когда тот, кто вел с нами разговор, нас на минутку задержал и сказал: конечно, это предполагает, что мальчик станет католиком. И я помню, как я встал и сказал маме: уйдем, я не хочу, чтобы ты меня продавала. И после этого я кончил с Церковью, потому что у меня родилось чувство, что если это Церковь, тогда, право, совершенно нечего туда ходить и вообще этим интересоваться; просто ничего для меня в этом не было.
Должен сказать, что я был не единственным; летом, когда бывали лагеря, в субботу была всенощная, литургия в воскресенье, и мы систематически не вставали к литургии, но отворачивали борта палатки, чтобы начальство видело, что мы лежим в постели и никуда не идем. Так что, видите, фон для религиозности у меня был весьма сомнительный. Кроме того, были сделаны некоторые попытки моего развития в этом смысле: меня раз в год, в Великую пятницу, водили в церковь, и я сделал с первого раза замечательное открытие, которое мне пригодилось навсегда (то есть на тот период): я обнаружил, что если войду в церковь шага на 3, глубоко потяну носом и вдохну ладана, я мгновенно падаю в обморок. И поэтому дальше третьго шага я никогда в церковь не заходил. Падал в обморок и меня уводили домой, и на этом кончалась моя ежегодная религиозная пытка. И вот в этой организации я обнаружил одну сначала очень меня озадачившую вещь. В 1927 г. в детском лагере был священник, который нам казался древностью - ему было, наверное, лет 30, но у него была большая борода, длинные волосы, резкие черты лица и одно свойство, которое никто из нас себе не мог объяснить: это то, что у него хватало любви на всех. Он не любил нас в ответ на предложенную ему любовь, ласку, он не любил нас в награду за то, что мы были «хорошие» или послушные, или там что-нибудь в этом роде. У него просто была через край сердца изливающаяся любовь. Каждый мог получить ее всю, не то, чтобы какую-то долю или капельку, и никогда она не отнималась.
Единственное, что случалось: эта любовь к какому-нибудь мальчику или девочке была для него радостью или большим горем. Но это были как бы 2 стороны той же самой любви; никогда она не уменьшалась, никогда не колебалась. И действительно, если прочесть у апостола Павла о любви, о том, что любовь всему верит, на всё надеется, никогда не перестает и т.д., это всё можно было в нем обнаружить, и этого я тогда не мог понять. Я знал, что моя мать меня любит, что отец любит, что бабушка любит, это был весь круг моей жизни из области ласковых отношений. Но почему человек, который для меня чужой, может меня любить и мог любить других, которые ему тоже были чужими, было мне совершенно невдомек. Только потом, уже много лет спустя, я понял, откуда это шло. Но тогда это был вопросительный знак, который встал в моем сознании, неразрешимый вопрос .Я тогда остался в этой организации, жизнь шла нормально, я развивался в русском порядке очень сознательно и очень пламенно и убежденно; дома мы говорили всегда по-русски, стихия наша была русская, всё свободное время я проводил в нашей организации. Французов мы не специально любили (моя мать говорила: как хороша была бы Франция, если бы не было французов), называли их туземцами - без злобы, а просто так, просто мы шли мимо; они были обстановкой жизни, так же как деревья, или кошки, или что другое. С французами или с французскими семьями мы сталкивались на работе или в школе и не иначе, и это не заходило никуда дальше. Какая-то доля западной культуры прививалась, но чувством мы не примыкали.
Еще из воспоминаний об отношениях с французами, это когда мы уже жили на Сен-Луи-ан-л’Иль; мама получила работу лит. секретаря у издателя, и ее хозяин сказал ей однажды, когда она не смогла прийти на работу: знайте, мадам, что одна только смерть, ваша смерть, может быть оправданием, что вы не пришли на работу. Когда мне было лет 14, у нас впервые оказалось помещение (в Буа-Коломб), где мы могли жить все втроем: бабушка, мама и я; отец жил на отлете - я вам скажу об этом через минуту, - а до того мы жили, как я рассказывал, кто где и кто как. И в первый раз в жизни с тех пор, как кончилось ранее детство, когда мы ехали из Персии, я вдруг пережил какую-то возможность счастья; до сих пор, когда я вижу сны блаженного счастья, они происходят в этой квартире. В течение 2-х-3-х месяцев это было просто безоблачное блаженство. И вдруг случилась совершенно для меня неожиданная вещь: я испугался счастья. Вдруг мне представилось, что счастье страшнее того очень тяжелого, что было раньше, потому что когда жизнь была сплошной борьбой, самозащитой или попыткой уцелеть, в жизни была цель: надо было уцелеть вот сейчас, надо было обеспечить возможность уцелеть немножко позже, надо было знать, где переночуешь, надо было знать, как достать что-нибудь, что можно съесть, - вот в таком порядке. А когда вдруг оказалось, что всей этой ежеминутной борьбы нет, получилось, что жизнь совершенно опустела, потому что можно ли строить всю жизнь на том, что бабушка, мама и я друг друга любим, но бесцельно? Что нет никакой глубины в этом, что нет никакой вечности, никакого будущего, что вся жизнь в плену двух измерений: времени и пространства, а глубины в ней нет; может быть, какая-то толщина есть, она может какие-то сантиметры собой представлять, но ничего другого, дно сразу. И представилось, что если жизнь так бессмысленна, как мне вдруг показалось, - бессмысленное счастье, - то я не согласен жить. И я себе дал зарок, что, если в течение года не найду смысла жизни, я покончу жизнь самоубийством, потому что я не согласен жить для бессмысленного, бесцельного счастья. Мой отец жил в стороне от нас; он занял своеобразную позицию: когда мы оказались в эмиграции, он решил, что его сословие, его социальная группа несет тяжелую ответственность за всё, что случилось в России, и что он не имеет права пользоваться преимуществами, которые дало ему его воспитание, образование, его сословие. И поэтому он не стал искать никакой работы, где мог бы использовать знание восточных языков, свое университетское образование, западные языки, и стал чернорабочим. И в течение довольно короткого времени он подорвал свои силы, затем работал в конторе и умер 53 лет (2 мая 1937). Но он мне несколько вещей привил. Он человек был очень мужественный, твердый, бесстрашный перед жизнью; помню, как-то я вернулся с летнего отдыха, и он меня встретил и сказал: «Я о тебе беспокоился этим летом» . Я полушутливо ему ответил: «Ты что, боялся, как бы я не сломал ногу или не разбился?» Он ответил: «Нет. Это было бы всё равно. Я боялся, как бы ты не потерял честь». И потом прибавил: «Ты запомни: жив ты или мертв - это должно быть совершенно безразлично тебе, как это должно быть безразлично и другим; единственное, что имеет значение, это ради чего ты живешь и для чего ты готов умереть». И о смерти он мне раз сказал вещь, которая мне осталась и потом отразилась очень сильно, когда он сам умер; он как-то сказал: «Смерть надо ждать так, как юноша ждет прихода своей невесты». И он жил один, в крайнем убожестве; молился, молчал, читал аскетическую литературу и жил действительно совершенно один, беспощадно один, я должен сказать. У него была малюсенькая комнатушка наверху высокого дома, и на двери у него была записка: «Не трудитесь стучать: я дома, но не открою».
Помню, как-то я к нему пришел, стучал: папа! это я!.. Нет, не открыл. Потому что он встречался с людьми только в воскресные дни, а всю неделю шел с работы домой, запирался, постился, молился, читал. И вот, когда я решил кончать самоубийством, за мной было: эти какие-нибудь 2 фразы моего отца, что-то, что я улавливал в нем, странное переживание этого священника (непонятная по своему качеству и типу любовь) - и всё, и ничего другого. И случилось так, что Великим постом какого-то года, кажется, 30-го, нас, мальчиков, стали водить наши руководители на волейбольное поле. Раз мы собрались, и оказалось, что пригласили священника провести духовную беседу с нами, дикарями. Ну, конечно, все от этого отлынивали как могли, кто успел сбежать, сбежал; у кого хватило мужества воспротивиться вконец, воспротивился; но меня руководитель уломал. Он меня не уговаривал, что надо пойти, потому что это будет полезно для моей души или что-нибудь такое, потому что, сошлись он на душу или на Бога, я не поверил бы ему. Но он сказал: «Послушай, мы пригласили отца Сергия Булгакова; ты можешь себе представить, что он разнесет по городу о нас, если никто не придет на беседу?» Я подумал: да, лояльность к моей группе требует этого. А еще он прибавил замечательную фразу: «Я же тебя не прошу слушать! Ты сиди и думай свою думу, только будь там». Я подумал, что, пожалуй, и можно, и отправился. И всё было действительно хорошо; только, к сожалению, отец Сергий Булгаков говорил слишком громко и мне мешал думать свои думы; и я начал прислушиваться, и то, что он говорил, привело меня в такое состояние ярости, что я уже не мог оторваться от его слов; помню, он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве. Он был замечательный богослов и он был замечательный человек для взрослых, но у него не было никакого опыта с детьми, и он говорил, как говорят с маленькими зверятами, доводя до нашего сознания всё сладкое, что можно найти в Евангелии, от чего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся: кротость, смирение, тихость - все рабские свойства, в которых нас упрекают, начиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое состояние, что я решил не возвращаться на волейбольное поле, несмотря на то, что это была страсть моей жизни, а ехать домой, попробовать обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить и покончить с этим; мне даже на ум не приходило, что я не покончу с этим, потому что было совершенно очевидно, что он знает свое дело, и, значит, это так…
И вот я у мамы попросил Евангелие, которое у нее оказалось, заперся в своем углу, посмотрел на книжку и обнаружил, что Евангелий четыре, а раз 4, то одно из них, конечно, должно быть короче других. И так как я ничего хорошего не ожидал ни от одного из 4-х, я решил прочесть самое короткое. И тут я попался; я много раз после этого обнаруживал, до чего Бог хитер бывает, когда Он располагает Свои сети, чтобы поймать рыбу; потому что прочти я другое Евангелие, у меня были бы трудности; за каждым Евангелием есть какая-то культурная база; Марк же писал именно для таких молодых дикарей, как я, - для римского молодняка. Этого я не знал, но Бог знал. И Марк знал, может быть, когда написал короче других. И вот я сел читать; и тут вы, может быть, поверите мне на слово, потому что этого не докажешь. Со мной случилось то, что бывает иногда на улице, знаете, когда идешь и вдруг повернешься, потому что чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит сзади. Я сидел, читал, и между началом первой и началом 3-й глав Евангелия от Марка, которое я читал медленно, потому что язык был непривычный, вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос. И это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я долго смотрел; я ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос, несомненно. Помню, что я тогда откинулся и подумал: если Христос живой стоит тут - значит, это воскресший Христос. Значит, я знаю достоверно и лично, в пределах моего личного, собственного опыта, что Христос воскрес и, значит, всё, что о Нем говорят, - правда. Это того же рода логика, как у ранних христиан, которые обнаруживали Христа и приобретали веру не через рассказ о том, что было от начала, а через встречу с Христом живым, из чего следовало, что распятый Христос был тем, что говорится о Нем, и что весь предшествующий рассказ тоже имеет смысл. Ну, дальше я читал; но это уже было нечто совсем другое.
Первые мои открытия в этой области я сейчас очень ярко помню; я, вероятно, выразил бы это иначе, когда был мальчиком лет 15., но первое было: что если это правда, значит, всё Евангелие - правда, значит, в жизни есть смысл, значит, можно жить ни для чего иного как для того, чтобы поделиться с другими тем чудом, которое я обнаружил; что есть, наверное, тысячи людей, которые об этом не знают, и что надо им скорее сказать. Второе - что если это правда, то всё, что я думал о людях, была неправда; что Бог сотворил всех; что Он возлюбил всех до смерти включительно; и что поэтому даже если они думают, что они мне враги, то я знаю, что они мне не враги. Помню, на следующее утро я вышел и шел как в преображенном мире; на всякого человека, который мне попадался, я смотрел и думал: тебя Бог создал по любви! Он тебя любит! ты мне брат, ты мне сестра; ты меня можешь уничтожить, потому что ты этого не понимаешь, но я это знаю, и этого довольно. Это было самое разительное открытие. Дальше, когда продолжал читать, меня поразило уважение и бережное отношение Бога к человеку; если люди готовы друг друга затоптать в грязь, то Бог этого никогда не делает. В рассказе, например, о блудном сыне: блудный сын признаёт, что он согрешил перед небом, перед отцом, что он недостоин быть его сыном; он даже готов сказать: прими меня хоть наемником. Но если вы заметили, в Евангелии отец не дает ему сказать этой последней фразы, он ему дает договорить до «я недостоин называться твоим сыном» и тут его перебивает, возвращая обратно в семью: принесите обувь, принесите кольцо, принесите одежду. Потому что недостойным сыном ты можешь быть, достойным слугой или рабом - никак; сыновство не снимается. Это третье. А последнее, что меня тогда поразило, что я выразил бы тогда совершенно иначе, вероятно, это то, что Бог - и такова природа любви - так нас умеет любить, что готов с нами разделить всё бз остатка: не только тварность через Воплощение, не только ограничение всей жизни через последствия греха, не только физические страдания и смерть, но и самое ужасное, что есть, - условие смертности, условие ада: боголишенность, потерю Бога, от которой человек умирает. Этот крик Христов на кресте: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? - эта приобщенность не только богооставленности, а боголишенности, которая убивает человека, эта готовность Бога разделить нашу обезбоженность, как бы с нами пойти во ад, потому что сошествие Христово во ад - это именно сошествие в древний ветхозаветный шеол, то есть то место, где Бога нет.
Меня так поразило, что, значит, нет границы Божией готовности разделить человеческую судьбу, чтобы взыскать человека. И это совпало - когда очень быстро после этого я уже вошел в Церковь - с опытом целого поколения людей, которые до революции знали Бога великих соборов, торжественных богослужений; которые потеряли всё - и Родину, и родных, и, часто, уважение к себе, какое-то положение в жизни, дававшее им право жить; которые были ранены очень глубоко и поэтому так уязвимы, - они вдруг обнаружили, что по любви к человеку Бог захотел стать именно таковым: беззащитным, до конца уязвимым, бессильным, безвластным, презренным для тех людей, которые верят только в победу силы. И тогда мне приоткрылась одна сторона жизни, которая для меня очень много значит. Это то, что нашего Бога, христианского Бога, можно не только любить, но можно уважать; не только поклоняться Ему, потому что Он - Бог, а поклоняться Ему по чувству глубокого уважения, другого слова я не найду. Ну, на этом кончился, в общем, целый период. Я старался осуществить свою вновь обретенную веру различным образом; первым делом я был так охвачен восторгом и благодарностью за то, что со мной случилось, что проходу никому не давал; я был школьником, ехал на поезде в школу и просто в поезде к людям обращался, ко взрослым: вы читали Евангелие? вы знаете, что там есть?.. Я уж не говорю о товарищах в школе, которые претерпели от меня многое.
Второе - я начал молиться; меня никто не учил, и я занялся экспериментами, я просто становился на колени и молился, как умел. Потом мне попался учебный часослов, я начал учиться читать по-славянски и вычитывал службу - это занимало около 8 часов в день, я бы сказал; но я недолго это делал, потому что жизнь не дала. К тому времени я уже поступил в университет, и было невозможно учиться полным ходом в университете - и это. Но тогда я службы заучивал наизусть, а так как я ходил в университет и в больницу на практику пешком, то успевал вычитывать утреню по дороге туда, вычитывать часы на обратном пути; причем я не стремился вычитывать, просто это было для меня высшим наслаждением, и я это читал. Потом отец М.Бельский дал мне ключ от нашей церковки на улице Монтань-Сент-Женевьев, так что я мог заходить туда на пути или возвращаясь домой, но это было сложно. И по вечерам я молился долго - ну, просто потому, что я очень медлительный, у меня техника молитвы была очень медлительная. Я вычитывал вечернее правило, можно сказать, три раза: прочитывал каждую фразу, молчал, прочитывал второй раз с земным поклоном, молчал и вычитывал для окончательного восприятия - и так всё правило. Всё это, вместе взятое, занимало около 2-х часов с половиной, что было не всегда легко и удобно, но очень питательно и насладительно, потому что тогда доходит, когда ты всем телом должен отозваться: Господи, помилуй! - скажешь с ясным сознанием, потом скажешь с земным поклоном, потом встанешь и скажешь уже чтобы запечатлеть, и так одну вещь за другой. Из этого у меня выросло чувство, что это - жизнь; пока я молюсь - я живу; вне этого есть какой-то изъян, чего-то не хватает. И жития святых читал по Четьям-Минеям просто страницу за страницей, пока не прочитал всё, жития пустынников.
В первые годы я очень был увлечен житиями и высказываниями отцов пустыни, которые для меня и сейчас гораздо больше значат, чем многие богословские отцы.Когда я кончал среднюю школу, то думал - что делать? Собрался пустынником стать - оказалось, что пустынь-то очень мало осталось и что с таким паспортом, как у меня, ни в какую пустыню не пустят, и кроме того, у меня были мать и бабушка, которых надо было как-то содержать, и из пустыни это неудобно. Потом хотел священником стать; позже решил идти в монастырь на Валаам; а кончилось тем, что всё это более или менее сопряглось в одну мысль; не знаю, как она родилась, она, вероятно, складывалась из разных идей: что я могу принять тайный постриг, стать врачом, уехать в какой-нибудь край Франции, где есть русские, слишком бедные и малочисленные для того, чтобы иметь храм и священника, стать для них священником и сделать это возможным тем, что, с одной стороны, я буду врачом, то есть буду себя содержать, а может быть, и бедным помогать, и, с другой стороны, тем, что, будучи врачом, можно всю жизнь быть христианином, это легко в таком контексте: забота, милосердие. Это началось с того, что я пошел на естественный факультет (Сорбонны), потом на медицинский - был очень трудный период, когда надо было выбирать или книгу, или еду; и в этот год я дошел, в общем, до изрядного истощения; я мог пройти какие-нибудь 50 шагов по улице (мне было тогда лет 19), затем садился на край тротуара, отсиживался, потом шел до следующего угла. Но, в общем, выжил…Одновременно я нашел духовника; и действительно «нашел», я его искал не больше, чем я искал Христа. Я пошел в единственную нашу на всю Европу патриаршую церковь - тогда, в 1931 г., нас было 50 человек всего, - пришел к концу службы (долго искал церковь, она была в подвальном помещении), мне встретился монах, священник, и меня поразило в нем что-то. Знаете, есть присловье на Афоне, что нельзя бросить всё на свете, если не увидишь на лице хоть одного человека сияние вечной жизни. И вот он поднимался из церкви, и я видел сияние вечной жизни. И я к нему подошел и сказал: не знаю, кто вы, но вы согласны быть моим духовником?..
Я с ним связался до самой его смерти, и он действительно был очень большим человеком: это единственный человек, которого я встретил в жизни, в ком была такая мера свободы - не произвола, а именно той евангельской свободы, царственной свободы Евангелия. И он стал меня как-то обучать чему-то; решив идти в монашество, я стал готовиться к этому. Ну, молился, постился, делал все ошибки, какие только можно сделать в этом смысле.
- А именно?
- Постился до полусмерти, молился до того, что сводил всех с ума дома, и т.д. Обыкновенно так и бывает, что все в доме делаются святыми, как только кто-нибудь захочет карабкаться на небо, потому что все должны терпеть, смиряться, всё выносить от «подвижника». Помню, как-то я молился у себя в комнате в самом возвышенном духовном настроении, и бабушка отворила дверь и сказала: «Морковку чистить!» Я вскочил на ноги, сказал: «Бабушка, ты разве не видишь, что я молился?» Она ответила: «Я думала, что молиться - это значит быть в общении с Богом и учиться любить. Вот морковка и нож». Медицинский факультет я окончил к войне, в 1939 г. На усекновение Иоанна Крестителя я просил своего духовного отца принять мои монашеские обеты: постригать меня было некогда, потому что оставалось 5 дней до ухода в армию. Я произнес монашеские обеты и отправился в армию, и там 5 лет я учился чему-то; по-моему, отличная была школа.
- Чему учился?
- Послушанию, например. Я поставил вопрос отцу Афанасию: вот я сейчас иду в армию - как я буду осуществлять свое монашество и, в частности, послушание? Он мне ответил: очень просто; считай, что каждый, кто дает тебе приказ, говорит именем Божиим, и твори его не только внешне, но всем твоим нутром; считай, что каждый больной, который потребует помощи, позовет, - твой хозяин; служи ему, как купленный раб. А затем - прямо святоотеческая жизнь была. Капрал приходит, говорит: нужны добровольцы копать траншею, ты доброволец. Вот первое: твоя воля полностью отсекается и целиком поглощается мудрой и святой волей капрала. Затем он дает тебе лопату, ведет в госпитальный двор, говорит: с севера на юг копать ров. А ты знаешь, что офицер говорил копать с востока на запад. Но тебе какое дело? Твое дело копать, и чувствуешь такую свободу, копаешь с наслаждением: во-первых, чувствуешь себя добродетельным, а потом - день холодный и ясный, и гораздо приятнее рыть окоп под открытым небом, чем мыть посуду на кухне. Копал 3 часа, и ров получился отличный. Приходит капрал, говорит: дурень, осёл и т.д., копать надо было с востока на запад. Я мог бы ему сказать, что он сам сначала ошибся, но какое мне дело до того, что он ошибался? Он велел мне засыпать ров, а засыпав, я стал бы, вероятно, копать заново, но к тому времени он нашел другого «добровольца», который получил свою долю. Меня очень поразило тогда то чувство внутренней свободы, которое дает абсурдное послушание, потому что если бы моя деятельность определялась точкой приложения и если бы это было делом осмысленного послушания, я бы сначала бился, чтобы доказать капралу, что надо копать в другом направлении, и кончилось бы всё карцером. Тут же, просто потому, что я был совершенно освобожден от чувства ответственности, вся жизнь была именно в том, что можно было совершенно свободно отзываться на всё и иметь внутреннюю свободу для всего, а остальное была воля Божия, проявленная через чью-то ошибку.
Другие открытия, к тому же периоду относящиеся. Как-то вечером в казарме я сидел и читал; рядом со мной был карандаш вот такого размера, с одной стороны подточенный, с другого конца подъеденный, и действительно соблазняться было нечем; и вдруг краем глаза я увидел этот карандаш, и мне что-то сказало: ты никогда больше за всю жизнь не сможешь сказать - это мой карандаш, ты отрекся от всего, чем ты имеешь право обладать. И (вам это, может быть, покажется совершенным бредом, но всякий соблазн, всякое такое притяжение есть своего рода бред) я два или три часа боролся, чтобы сказать: да, этот карандаш не мой - и слава Богу!.. В течение нескольких часов я сидел перед этим огрызком карандаша с таким чувством, что я не знаю, что бы дал, чтобы иметь право сказать: это мой карандаш. Причем практически это был мой карандаш, я им пользовался, я его грыз. И он не был мой, так что тогда я почувствовал, что не иметь - это одно, а быть свободным от предмета - совершенно другое дело.
Еще одно наблюдение тех лет: что хвалят необязательно за дело и ругают тоже необязательно по существу. В начале войны я был в военном госпитале, и меня исключили из офицерского собрания. За что? За то, что мне досталась больничная палата, в которой печка не действовала, и санитары отказались ее чистить; я сбросил форму, вычистил печку и принес уголь. Мне за это товарищи устроили скандал, что я «унижаю офицерское достоинство». Это пример ничем не величественный, нелепый; и конечно, я был прав, потому что гораздо важнее, чтобы печка грела больничную палату, чем все эти погонные вопросы. А в других случаях хвалили, может быть, а я знал, что хвалят совершенно напрасно. Помню - коль уж до исповеди дошло, - когда я еще был маленьким мальчуганом, меня пригласили в один дом, и нас несколько человек играло в мячик в столовой, и этим мячиком мы разбили какую-то вазу.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 01 Фев 2022, 19:16 | Сообщение # 8 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | После чего мы притихли, и нас, я помню, мамаша моего товарища хвалила за то, что мы были такие тихие, и что мы так прекрасно себя вели, и что я был таким примерным гостем. Я потом драл домой с таким чувством, как бы успеть сойти с лестницы раньше, чем она вазу обнаружит. Так что вот вам второй пример: хвалили, и тихий я был, предельно тихий, только, к сожалению, до этого успел вазу разбить.На войне же была всё-таки какая-то доля опасности, и поэтому сознание, что ты действительно в руках Божиих, доходит иногда до очень большой меры. Попутно делаешь всякого рода открытия: о том, что ты не такой замечательный, что есть вещи гораздо важнее тебя; о том, что есть разные пласты в событиях. Есть, скажем, пласт, на котором ты живешь и тебе страшно, или какие-то еще чувства одолевают тебя, а есть помимо этого еще какие-то 2 пласта: выше, над тобой - воля Божия, Его видение истории, и ниже - как течет жизнь, не замечая событий, связанных с твоим существованием. Помню, как-то я лежал на животе под обстрелом, в траве, и сначала жался крепко к земле, потому что как-то неуютно было, а потом надоело жаться, и я стал смотреть: трава была зеленая, небо голубое, и 2 муравья ползли и тащили соломинку, и так было ясно, что вот я лежу и боюсь обстрела, а жизнь течет, трава зеленеет, муравьи ползают, судьба целого мира длится, продолжается, как будто человек тут ни при чем; и на самом деле он ни причем, кроме того, что портит всё. Ну, и потом очень простые вещи, которые вдруг делаются очень важными. Знаете, когда дело доходит до жизни и смерти, некоторые вопросы совершенно снимаются, и под знаком жизни и смерти проявляется новая иерархия ценностей: ничтожные вещи приобретают какую-то значительность, потому что они человечны, а некоторые большие вещи делаются безразличными, потому что они не человечны.
Скажем, я занимался хирургией, и, я помню, мне ясно было, что сделать сложную операцию - вопрос технический, а заняться больным - вопрос человеческий, и что этот момент самый важный и самый значительный, потому что сделать хорошую техническую работу может всякий хороший техник, но вот человеческий момент зависит от человека, а не от техники. Были, например, умирающие; госпиталь был на 850 кроватей, так что было довольно много тяжело раненых, мы очень близко к фронту стояли; и я тогда, как правило, проводил последние ночи с умирающими, в каком бы отделении они ни были. Другие хирурги узнали, что у меня такая странная мысль, и поэтому меня всегда предупреждали. В этот момент технически вы совершенно не нужны; ну, сидишь с человеком - молодой, двадцати с небольшим лет, он знает, что умирает, и не с кем поговорить. Причем не о жизни, не о смерти, ни о чем таком, а о его ферме, о его жатве, о корове - о всяких таких вещах. И этот момент делается таким значительным, потому что такая разруха, что это важно. И вот сидишь, потом человек заснет, а ты сидишь, и изредка он просто щупает: ты тут или не тут? Если ты тут, можно дальше спать, а можно и умереть спокойно. Или мелкие вещи; помню одного солдата, немца, - попал в плен, был ранен в руку, и старший хирург говорит: убери его палец (он гноился). И, помню, немец сказал тогда: «Я часовщик». Понимаете, часовщик, который потеряет указательный палец, это уже конченый часовщик. Я тогда взял его в оборот, 3 недели работал над его пальцем, а мой начальник смеялся надо мной, говорил: «Что за дурь, ты в 10 минут мог покончить со всем этим делом, а ты возишься три недели - для чего? Ведь война идет, а ты возишься с пальцем!» А я отвечал: да, война идет, и потому я вожусь с его пальцем, потому что это настолько значительно, война, самая война, что его палец играет колоссальную роль, потому что война кончится, и он вернется в свой город с пальцем или без пальца. И вот этот контекст больших событий и очень мелких вещей и их соотношение сыграли для меня большую роль - может быть, это покажется странно или смешно, но вот что я нашел тогда в жизни, и свой масштаб в ней нашел тоже, потому что выдающимся хирургом я никогда не был и больших операций не делал, а вот это была жизнь, и именно глубокая жизнь взаимных отношений. Потом кончилась война и началась оккупация, я был во французском Сопротивлении 3 года, потом снова в армии, а потом занимался медицинской практикой до 1948 г.
- А что в Сопротивлении делали?
- Ничего не делал интересного; это самая, можно сказать, позорная вещь в моей жизни, что я ни во время войны, ни во время Сопротивления ничего никогда не сделал специально интересного или специально героического. Когда меня демобилизовали, я решил вернуться в Париж и вернулся отчасти законно, а отчасти незаконно. Законно в том отношении, что я вернулся с бумагами, а незаконно потому, что я их сам написал. Мама и бабушка эвакуировались в область Лимож, и когда меня демобилизовали, я демобилизовался в лагерь РСХД в По - надо было куда-то ехать. Я попал туда и стал разыскивать маму и бабушку, я знал, что они где-то тут, до меня дошло письмо, которое они мне писали месяца за 3 до этого, оно путешествовало по всем армейским инстанциям. И я их обнаружил в маленькой деревне; мама была больна, бабушка была немолода, и я решил, что мы вернемся в Париж и посмотрим, что там можно делать. Первой моей мыслью было перебраться во France Libre , но это оказалось невозможным, потому что к тому времени Пиренеи были блокированы. Может быть, кто-нибудь более предприимчивый и пробрался бы, но я не пробрался. Мы доехали до какой-то деревни недалеко от демаркационной линии оккупированной зоны, и я пошел в мэрию. Тогда на мне была полная военная форма, кроме куртки, которую я купил, чтобы спрятать под ней как можно больше военного обмундирования, и я отправился к мэру объяснить, что мне нужен пропуск. Он мне говорит: «Вы знаете, это невозможно, боюсь, меня расстреляют за это». Никому не разрешалось переходить демаркационную линию без немецкого пропуска. Я уговаривал его, уговаривал, наконец он мне сказал: «Знаете, что мы сделаем: я здесь, на столе, положу бумаги, которые надо заполнить; вот здесь лежит печать мэрии, вы возьмите, поставьте печать и украдите бумаги. Если вас арестуют, я на вас же скажу, что вы их у меня украли». А это всё, что мне было нужно, мне бумаги были нужны, а если словили бы, его и спрашивать не стали бы, всё равно посадили бы.
Я заполнил эти бумаги, и мы проехали линию, это тоже было очень забавно. Мы ехали в разных вагонах - мама, бабушка и я - не из конспирации, а просто мест не было; и в моем купе было 4 французских старушки, которые дрожали со страху, потому что были уверены, что немцы их на кусочки разорвут, и совершенно пьяный французский солдат, который всё кричал, что вот появись немец, он его - бум-бум-бум! - сразу убьет. И старушки себе представляли: войдет немецкий контроль, солдат закричит, и нас всех за это расстреляют. Ну, я с некоторой опаской ехал, потому что, кроме этой куртки, на мне всё было военное, а военным не разрешалось въезжать - вернее, разрешалось, но их сразу отбирали в лагеря военнопленных. Я решил, что надо как-то так встать, чтобы контроль не видел меня ниже плеча; поэтому я своим спутникам предложил ввиду того, что я говорю по-немецки, чтобы они мне дали свои паспорта, и я буду разговаривать с контролем. И когда вошел немецкий офицер, я вскочил, встал к нему вплотную, почти прижался к нему так, чтобы он ничего не мог видеть, кроме моей куртки, дал ему бумаги, всё объяснил, он меня еще за это поблагодарил, спросил, почему я говорю по-немецки, - ну, культурный человек, учился в школе, из всех языков выбрал немецкий (что было правдой, а выбрал-то я его потому, что уже его знал и потому надеялся, что работать надо будет меньше, но это дело другое). И так мы проехали. А потом приехали в Париж и поселились, и у нас был знакомый старый французский врач, еще довоенного изделия, который уже был членом французского медицинского Сопротивления, и он меня завербовал. Заключалось это в том, что ты числился в Сопротивлении, и если кого-нибудь из Сопротивления ранили, или нужны были лекарства, или надо было кого-то посетить, то посылали к одному из этих врачей, а не просто к кому попало.
Были ячейки, приготовленные на момент освобождения Парижа, куда каждый врач был заранее приписан, чтобы, когда будет восстание, каждый знал, куда ему идти. Но я в свою ячейку так и не попал, потому что за 1,5-2 года до восстания меня завербовало французское «пассивное Сопротивление», и я занимался мелкой хирургией в подвальном помещении госпиталя Отель-Дьё, и поэтому, когда началось восстание, я пошел туда - там было гораздо больше работы, там я был нужнее. Кроме того, очень было важно, чтобы там были люди, которые могли законно требовать новых припасов лекарств и новых инструментов, чтобы их переправлять: к нам приходили из этих ячеек, а мы им передавали казенные инструменты, иначе им невозможно было бы получить их в таком количестве. Одно время французская полиция поручила мне заведовать машиной скорой помощи во время бомбежек, и это давало возможность перевозить куда надо нужных Сопротивлению людей. А еще я работал в больнице Брокa, и немцы решили, что отделение, где я работал, будет служить отделением экспертизы, и к нам посылали людей, которых они хотели отправлять на принудительные работы в Германию. А немцы страшно боялись заразных болезней, поэтому мы выработали целую систему, чтобы, когда делались рентгеновские снимки, на них отпечатывались бы какие-нибудь туберкулезные признаки. Это было очень просто: мы их просто рисовали. Все, кто там работал, работали вместе, иначе было невозможно, - сестра милосердия, другая сестра милосердия, один врач, я, мы ставили «больного», осматривали его на рентгене, рисовали на стекле то, что нужно было, потом ставили пленку и снимали, и получалось, что у него есть всё что нужно. Но это, конечно, длилось не так долго, нельзя было без конца это делать, нужно было уходить.
- Слишком много больных у вас оказывалось?
- То есть все, все, никого не пропускали; если не туберкулез, то что-нибудь другое, но мы никого не пропустили за год с лишним.
- За год с лишним одни калеки?!
- Да, одни калеки. Ну, объясняли, что, знаете, такое время: недоедание, молодежь некрепкая. Потом немцы всё же начали недоумевать, и тогда я принялся за другое: в русской гимназии преподавать - от одних калек к другим! Еще одно интересное открытие периода войны, оккупации. Одна из вещей, с которыми нам в жизни, и тем более в молитве, приходится бороться, это вопрос времени. Мы не умеем, а надо научиться жить в мгновении, в котором ты находишься; ведь прошлого больше нет, будущего еще нет, и единственный момент, в котором ты можешь жить, это теперь; а ты не живешь, потому что застрял позади себя или уже забегаешь вперед себя. И дознался я до чего-то в этом отношении милостью Божией и немецкой полиции. Во время оккупации я раз спустился в метро, и меня сцапали, говорят: покажи бумаги!.. Я показал. Фамилия моя пишется через два «о»: Bloom. Полицейский смотрит, говорит:
«Арестовываю! Вы - англичанин и шпион!»
Я говорю: «Помилуйте, на чем вы основываетесь?»
- «Через два ‘o’ фамилия пишется».
Я говорю: «В том-то и дело, если бы я был англичанин-шпион, я как угодно назывался бы, только не английской фамилией».
- «А в таком случае, что вы такое?»
- «Я русский». (Это было время, когда советская армия постепенно занимала Германию).
Он говорит: «Не может быть, неправда, у русских глаза такие и скулы такие».
- «Простите, вы русских путаете с китайцами».
- «А, может быть. А всё-таки, что вы о войне думаете?»
А поскольку я был офицером во французском Сопротивлении, ясно было, что всё равно не выпустят, и я решил хоть в свое удовольствие быть арестованным.
Говорю: «Чудная война идет - мы же вас бьем!»
- «Как, вы, значит, против немцев?..»
- «Да».
- «Знаете, я тоже (это был французский полицейский на службе у немцев), убегайте поскорее…»
Этим и закончилось, но за эти минуты случилось что-то очень интересное: вдруг всё время, и прошлое, и будущее, собралось в одно это мгновение, в котором я живу, потому что подлинное прошлое, которое на самом деле было, больше не имело права существовать, меня за это прошлое стали бы расстреливать, а того прошлого, о котором я собирался им рассказывать во всех деталях, никогда не существовало. Будущего, оказывается, тоже нет, потому что будущее мы себе представляем, только поскольку можем думать о том, что через минуту будет. И, осмыслив всё это после, я обнаружил, что можно всё время жить только в настоящем. И молиться так - страшно легко. Сказать «Господи, помилуй» нетрудно, а сказать «Господи, помилуй» с оглядкой на то, что это только начало длиннющей молитвы или целой всенощной, пожалуй, гораздо труднее. Ну, и тем временем было 10 лет тайного монашества, и это было блаженное время, потому что, как Феофан Затворник говорит: Бог да душа - вот и весь монах… И действительно был Бог и была душа, или душонка, - что бы там ни было, но, во всяком случае, я был совершенно защищен от мнения людей. Как только вы надеваете какую-нибудь форму, будь то военная форма или ряса, люди ожидают от вас определенного поведения, и вы уже как-то приспосабливаетесь. И тут я был в военной форме, значит, от меня ожидали того, что военная форма предполагает, или во врачебном халате, и ожидали от меня того, что ждут от врача, и весь строй внутренней жизни оставался свободным, подчинялся лишь руководству моего духовника. Вот тут я уловил разницу между свободой и безответственностью в свободе. Потому что его действительной заботой было: ты должен строить свою душу, остальное всё второстепенно.
Я, например, одно время страшно увлекся мыслью сделать медицинскую карьеру и решил сдавать специальный экзамен, чтобы получить специальную степень. Я ему про это сказал. Он на меня посмотрел и ответил: знаешь, это же чистое тщеславие. Я говорю: ну, если хотите, я тогда не буду… - Нет, говорит, ты пойди на экзамен и провались, чтобы все видели, что ты ни на что не годен. Вот такой совет: в чисто профессиональном смысле это нелепость, никуда не годится такое суждение. А я ему за это очень благодарен. Я действительно сидел на экзамене, получил ужасающую отметку, потому что написал Бог весть что даже и о том, что знал; провалился, был внизу списка, который был в метр длиной; все говорили: ну знаешь, никогда не думали, что ты такая остолопина… и чему-то научился, хотя это и провалило всё мое будущее в профессиональном плане. Но тому, чему он меня тогда научил, он бы меня не научил речами о смирении; потому что сдать блестяще экзамены, а потом смиренно говорить: да нет, Господь помог, - это слишком легко.А еще до этого, когда я работал с молодежью и как будто у меня это получалось, отец Афанасий позвал меня, сказал: «Ты слишком преуспеваешь, слишком доволен собой, ты становишься звездой - брось все». Я ему говорю: «Хорошо, что я должен сделать, надо ли объяснять причину? Глупо будет сказать: я хочу стать святым, поэтому больше не буду работать с молодежью». Он мне ответил: «Да нет, собери других руководителей, скажи им: я слишком занят медициной, это меня увлекает больше, чем работа с молодежью, и я ухожу. Если они будут возмущаться, пожми плечами и скажи: знаете, я пробиваюсь в жизни по-своему, вы стройте свою жизнь по-вашему. Только чтобы никто не догадался, что у тебя самые благие побуждения».
То же было и с постригом. Я говорил уже, что дал монашеский обет, но отец Афанасий все меня в мантию не постригал; я его все просил меня постричь, он говорит: «Нет! Ты не готов себя отдать до конца». Я говорю: Готов! - «Нет, вот когда ты придешь ко мне и скажешь: я пришел, делай со мной что хочешь, и я готов вот сейчас не вернуться домой, и никогда не дать своим родным знать, что со мной случилось, и не заботиться об их судьбе, что с ними стало, - вот тогда мы с тобой поговорим. До тех пор, пока ты тревожишься о своей матери или о бабушке, тебе не пришло время пострига - ты Богу не доверился, на послушание не положился». И с этим я бился очень долго, должен сказать. У меня не хватало ни веры, ни духа - ничего. Очень много времени потребовалось, чтобы научиться, что призыв Божий абсолютен, что Бог на сделки не идет, что каждый раз, как я обращаюсь к Богу с вопросом, Он отвечает: Я тебя зову - твое дело отозваться безоговорочно. И так я боролся то против воли Божией, то против своей злой воли, пока не понял очень ясно, что пора сделать выбор: или я должен сказать «да», или перестать считать себя членом Церкви, перестать ходить в церковь, перестать причащаться, потому что никакого смысла нет причаститься, а потом сказать Богу «нет»; и никакого смысла нет быть членом Тела Христова - и таким членом, который отказывается выполнить Его волю. И это, должно быть, покажется вам ужасным - бился я так около полугода и в один прекрасный день дошел до того, что биться уже больше не мог. Помню, я вышел утром из дому, не зная, что это будет за день; я тогда преподавал в гимназии и во время какого-то урока вдруг понял, что выбор надо сделать сегодня, сейчас. И после последнего урока я пришел к отцу Афанасию и сказал:
- «Вот я пришел».
- «Монахом становиться?»
- «Да».
И тут он стал задавать мне самые не возвышенные вопросы:
- «Ну хорошо, садись. Сандальи у тебя есть?
- «Нет».
- «Пояс есть?»
- «Нет.»
- «Это есть?»
- «Нет.»
- «Ну хорошо, это мы добудем, я тебя постригу через неделю».
Потом помолчали, я говорю: «А теперь мне что делать?»
Я ждал, что он мне скажет: вот будешь спать здесь на полу, а остальное тебя не касается…
- «Ну а теперь иди домой».
- «В каком смысле, как так?»
- «Да, ты отказался от дома, от родных, а теперь возвращайся туда по послушанию».
Это был очень трудный момент, я должен сказать, но отец Афанасий ни на какой компромисс бы не пошел. Умер отец Афанасий через 3 месяца после моего пострига; я долго недоумевал, что мне делать, потому что после такого опыта нахождения духовника просто обойти всех возможных священников или представить себе духовником Стефана, Ивана, Михаила или Петра было слишком нелепо. Помню, как я сидел у себя, мне было 27-28 лет, и я поставил себе вопрос: что делать? - и вдруг с совершенной ясностью у меня в душе прозвучало: «Зачем ты ищешь духовника? Я жив…» И на этом я кончил свои поиски. И когда он уже умер, я стал священником, в 1949 г., по слову человека, которому очень верил. Он был французом, православным священником, до этого я видел его один раз, когда мне было лет 17, в день, когда я окончил среднюю школу и сдал экзамен на аттестат зрелости. А тут я его встретил в Англии на православно-англиканском съезде, и он прямо ко мне пришел и сказал: «Вы нам здесь нужны, бросайте медицину, делайтесь священником и переходите в Англию». Я ему тогда сказал: «Вы подумайте и скажите, это всерьез или нет. Потому что если всерьез - я по вашему слову поступлю». И он мне сказал, что это всерьез, и я так и поступил и теперь ему всегда напоминаю, что он ответственен за всё то недоброе, что я делаю, и поэтому его дело - молиться. И он еще усугубил это дело тем, что после первой моей лекции на английском языке ко мне подошел и сказал: «Отец Антоний, я за всю жизнь ничего такого скучного не слыхал». Я ему говорю: «Что же делать, я английского не знаю, мне пришлось лекцию написать и читать как мог…» - «Так вот я вам запрещаю отныне писать или по запискам говорить». Я возразил: «Это же будет комично!» И он ответил: «Именно! Во всяком случае, это не будет скучно, мы сможем смеяться на ваш счет». И вот с тех пор я произношу лекции, говорю и проповедую БЕЗ ЗАПИСОК - опять-таки на его душу.
https://omiliya.org/article....ii.html
МИТРОПОЛИТ СУРОЖСКИЙ: ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С АДАМОМ?
Чем больше времени проходит с того дня, когда нас покинул митрополит Антоний Сурожский († 2003 год), тем всё более актуальным становится его наследие. Его проповеди, лекции, видеовыступления приобретают всё большее значение, выходят его книги, о нём снимают фильмы. Особенность творчества Владыки в том, что он ничего не писал: его слово рождалось как устное обращение к слушателю, – не безликой толпе, а каждому человеку, нуждающемуся в живом слове о Живом Боге. Современники и духовные чада звали его «Апостолом Любви».

Многие из вас слышали имя Адама. Адам – это человек, каким его сотворил Бог изначально. Рассказ первых глав Ветхого Завета в какой-то мере символичен – в том смысле, что он говорит о событиях, происходивших в мире, которого мы больше не знаем, в мире до грехопадения, в мире, который жил, существовал, действовал, рос до момента, когда Бог и человек разошлись, как бы потеряли друг друга. И поэтому, говоря об Адаме, говоря о некоторых других личностях после него, приходится принимать во внимание, что язык этих повествований – это язык нашего времени, а сами события для нас непостижимы. Мы не знаем, что значит вдруг из небытия быть вызванным Богом к бытию, причём не актом насилия, не просто волей Божией, а любовью Божией, говорящей нам: Приди, восстань из несуществования! Приди, – Я Себя отдаю тебе всей любовью Своей, всей лаской, всей заботой; но вместе с этим Я тебя оставляю свободным. Ты можешь Меня выбрать, ты можешь от Меня отвернуться. Я даю тебе возможность быть и возможность жить, но как ты будешь жить, кем ты будешь – зависит исключительно от твоего решения, от твоего безумия или от твоей мудрости…
Слово Адам значит «глина», «земля», «почва». Бог как бы создает Адама из самой сущности творения. В истории Ветхого Завета Адам не является неким завершением всех тварей, которые до него существовали или были созданы. Нет, Бог возвращается к самым основам вещества и из него творит человека, который благодаря этому принадлежит всецело ко всему тварному, к самой последней былинке, к самой малюсенькой песчинке – или к самой лучезарной звезде. Адам создан, призван жить любовью Божией, которая себя ему открывает. И тут, по слову митрополита Московского Филарета, он стоит как бы на хрустальном мосту между двумя безднами. Одна – бездна небытия, откуда его вызвало творческое слово Божие; с другой стороны – над ним ширится, раскрывается до ужаса бездна Божественной жизни. И Адам может пасть, но никогда не сможет вернуться к небытию, – он будет как бы бесконечно падать; либо наоборот, может открыться, рискнуть тем, что уже есть, для того, чтобы приобрести всё, что ему может дать Бог.
И таково положение каждого человека на земле. Каждый из нас стоит перед выбором: или перерасти себя, – но для этого надо отказаться от того, что у тебя сейчас, вот теперь уже есть; или сказать: нет, я всё это сохраню, я буду держаться всего этого… Но кончается это тем, что ты распадаешься, смерть тебя настигает, и ничего от тебя не остаётся, кроме праха, мёртвых костей. Каждый человек может узнать себя в Адаме, и каждый человек стоит перед именно этим выбором: героически перерасти себя самого ради такого приобщения Богу, чтобы Божественная жизнь в нём ликовала, действовала, его преображала, или отказаться от этого, но зато рано или поздно распасться в прах. Что же случилось с Адамом? Если вчитаться в Ветхий Завет, в первые главы книги Бытия, там образно изложена его судьба. Адам живет в саду, который являет собой всё мироздание, и в нём два дерева, представляющие собой две параллельные возможности: древо жизни и древо познания добра и зла. Адаму сказано: не прикасайся к плодам древа, которое даст тебе познание добра и зла, потому что зло – это уничтожение, зло – это то, чего нет, это зияющая бездна. Можно познать добро и вырасти свыше своей меры, но нельзя познать зло и не разрушиться. Ветхий Завет нам говорит, что Адама стал звать к этому дереву змей. С точки зрения примитивных народов змей, конечно, является опасностью; это существо ползает, никогда прямо не ходит; оно до конца приземлено и вдобавок его жало смертоносно для всякого, кого оно ужалит. Змей представляет собою смерть; но кроме того в целом ряде древних религий змей представляет собой изначальную бездну небытия. И поэтому вопрос перед Адамом стоит так: если ты прикоснёшься к этому познанию зла, которое есть посильное возвращение в небытие, ты будешь погружён – да, в какое-то изначальное существование земного бытия, но ты в нём погрязнешь и уже не будешь человеком, не будешь живой силой, ты должен будешь в этом погибнуть.
Приобщение к древу жизни – это приобщение к Богу. Есть место у апостола Павла, где он говорит: Приобретайте ум Христов (1 Кор 2:16). То есть мы должны так быть едиными с Богом, чтобы наши мысли, наше восприятие, наше понимание, наше знание вещей было Божие знание, Божие восприятие. Тогда можно, как бы привившись к Богу, соединившись с Ним, сроднившись с Ним, уже начинать понимать то, что вне Бога и вне тебя, но понимать уже изнутри как бы Божией мудрости, Божией реальности. Понимать, что значит небытие, можно только по контрасту, постигая, какая полнота бытия в Боге, как можно вырастать, вечно расти, питаться торжествующей жизнью и знать, что вчера или раньше этой полноты не было; значит, в какой-то другой момент этого не было вовсе, – была или смерть, или небытие. И только изнутри приобщённости к Богу можно понимать, что такое добро и что такое зло.
И Адам сделал ошибку: он решил тварным образом узнать, что такое добро и что такое зло. Он решил вне Бога погрузиться в материальный мир и посмотреть: можно жить в нём или нет? И это – опыт тысяч людей, которые отвернулись от Бога или потеряли Бога, или которым Господь никогда не был открыт – обстоятельствами или злой волей людей. Такие люди погружены в вещество и должны быть вырваны из него для того, чтобы они могли посмотреть на него и познать его как изумительную красоту, которая постепенно раскрывается, растёт, расцветает. Это можно увидеть только как бы извне. Но если ты сам уйдёшь ниже корней, то никогда не увидишь ни ростка, ни цветка, ни плода.
газета "Вечный зов"
http://vzov.ru/2019/10-11/04.html
ЧТОБЫ ЗАПЕЛА ДУША
О религиозном воспитании в школе и дома

Первое, что я хотел бы сказать о воспитании детей: дети – не наше будущее, дети – наше настоящее. С момента, когда они крещены, они уже являются полными членами Церкви Христовой. И поэтому очень большая ошибка думать, что сейчас они малые зверята, а вот когда вырастут, тогда из них люди получатся. Мне кажется (и я говорил это многим матерям и отцам), что духовное возрастание ребенка начинается во чреве матери, что постольку, поскольку мать живет во Христе, поскольку она живет чистой и молитвенной жизнью, поскольку она принимает таинства – и ребенок в этом участвует, потому что в течение всех месяцев до своего рождения ребенок – одно с матерью, их нельзя никаким образом разделить. И дальше (это не мой опыт, потому что по обстоятельствам жизни я не получал никакого религиозного воспитания) мне кажется, что и после рождения очень важно, что западет в душу этого ребенка – не только через умственное восприятие, а через какое-то чутье, пока он еще даже ничего не понимает.
Когда мать над ним читает молитву, когда она поет церковные песни, когда она просто поет русские песни, от которых душа начинает оживать и каким-то образом формироваться, она уже начала человеческое и духовное воспитание ребенка. То, что я сказал о светских песнях, меня поразило лет 40 тому назад. Мы начали здесь русскую школу, где училась девочка (теперь она помощник старосты в нашем приходе, у нее собственные дети и внуки), которая все не находила себя полностью. По-русски она говорила, знала, что она русская, но (как она мне потом сказала) когда она попала в нашу школу и ее начали учить русским песням, что-то с ней случилось: словно проснулись и задрожали в душе такие струны, которые до того молчали, были мертвы, и она вдруг ожила в такой мере и до такой глубины, которой она раньше не знала.
А о церковных песнях я тоже вам скажу нечто. Лет 30 с лишним тому назад скончался один из самых лучших наших певцов, некто Федоров. Он с раннего детства ходил в церковь, голосок у него был хороший, он пел в хоре лет с 7 и в течение всей своей жизни. Он заболел раком, лег в больницу, и было ясно, что он никогда из больницы не выйдет. Я к нему ходил 3–4 раза в неделю. Вначале мы с ним молились вслух, я совершал молебен и он его пел. Потом он перестал петь, потому что не хватало ни дыхания, ни сил, и я, как умел, что-то пел. А потом пришел момент, когда он уже никак отзываться не мог, только видно было, что он воспринимает то, что вокруг него делается. Как-то я пришел к нему в очередной раз, и мне старшая сестра говорит: «Знаете, какое горе! Приехали его жена и дочь, которые год отсутствовали за границей, и он при смерти, без сознания. И они в отчаянии: они не могут с ним даже проститься…» Я подошел к ним. Он действительно был настолько плох, что до него нельзя было докричаться. Я сказал его дочери и жене: «Сядьте рядом по одну сторону кровати». Затем я стал на колени рядом с ним и начал негромко петь песнопения Страстной седмицы и Пасхи, которые он исполнял всю свою жизнь, которыми он жил, которые дрожали в его душе. И видно было, как он постепенно начинает возвращаться на землю из каких-то глубин, где он был; сознание стало проявляться, и в какой-то момент он открыл глаза. Я ему сказал: «Ваша жена и дочь приехали с вами проститься; вы при смерти, – проститесь…» Потом я его перекрестил и сказал: «А теперь умирайте с миром…» И это меня сильно поразило.
Конечно, это не сила моей молитвы: я ему просто пел те песнопения, от которых его душа горела и жила, и это на краткий миг его вернуло на поверхность жизни. И поэтому опять-таки скажу: важно, чтобы дети пели церковные песни, чтобы еще в младенческом возрасте, они слышали святые молитвенные слова. Причем сказанные из души в душу, а не уставным образом протараторенные. Непросто над ребенком читать вечерние или утренние молитвы, а чтобы молитвы были сказаны так, что, хотя ребенок их умом не воспринимает, но они куда-то в глубины его пошли. Дальше мне кажется, что ребенка надо воспитывать и примером, и собственным вдохновением. Если родители только говорят, как он должен себя вести, потому что он русский, или православный христианин, для него и русскость и православие делаются просто своего рода тюрьмой: это то, что ему мешает жить. А ребенку надо говорить о том, как он может расцвести, если только он станет похожим на тех людей, которые могут нам служить примером.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 23 Фев 2022, 12:35 | Сообщение # 9 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7541
Статус: Offline | 
У нас в житиях святых не так мало детей, о которых можно упомянуть, рассказать, какие они были. Причем не такие вещи рассказывать, которые ребенку невдомек или которые никогда с ним не случатся. Такой-де ребенок совершил-де чудо – это другому ребенку неубедительно, потому что он знает, что никаких чудес сам не совершит. А рассказать, какая у него была личность, какое мужество, какая духовная красота, какая любовь, какая жертвенность, – все самые благородные и прекрасные свойства в человеке .А кроме того, ребенок должен быть в состоянии, посмотрев на своих родителей, видеть, что то, что ему рассказывают, на самом деле происходит это и в них. Они, может быть, несовершенны – это ребенок отлично понимает, но они стремятся к высшему, абсолютному, и это составляет смысл и их содержание жизни. И чтобы он видел в них добротность, честность, – те свойства, которые просто человечны, но которые уже на грани святости, если только их коснется искорка Божия.
Разумеется, в какой-то момент детей надо учить, то есть они должны узнать о Христе, об апостолах, о ранней Церкви, о Церкви вообще, о богослужении и т.д. Но это надо делать так, чтобы все было для ребенка откровением и радостью, а не еще одним «уроком», который надлежит выучить. Поэтому передавать надо рассказ не в виде чего-то, что он должен заучить, а так же, как мы рассказываем тысячи вещей нашим детям или друзьям: рассказать то, что нас задело, что нас волнует, что так интересно, или прекрасно, или страшно. И ребенок может это воспринять, потому что если он почувствует, что мать, отец, бабушка, окружение так реагируют на то, о чем они говорят, то он тоже будет реагировать, он тоже войдет в это настроение. А как бы «разрабатывать» урок, чтобы он был и умен, и блестящ – лучше не стараться.
У меня есть пример в памяти. В Париже был замечательный священник и замечательный проповедник. Он и как человек был замечательный, проповеди для взрослых были убедительны и полны силы, но детьми он никогда не занимался. Как-то его пригласили в воскресную школу Русского христианского движения, чтобы дать показательный урок. Посадили детей посередине комнаты, руководители и наставники сели вокруг, и этот священник начал урок. Когда все закончилось, взрослые были в совершенном восторге: это было так стройно, так логично, так крепко, так выпукло. А Л.А. Зандер подошел к одному из детей, семилетке, и говорит: «Ну, как тебе понравился урок?» И мальчик ему ответил: «Занимательно было; жалко только, что батюшка не верит в то, что он говорил…» Это неправда; он верил в каждое слово, которое произносил, но он произносил эти слова так, что они шли из его ума, и построение всей его беседы было такое, что оно до сердца детей не дошло. А иногда что-то очень примитивное – а до сердца доходит.
Опять-таки, я помню священника, который меня очень поразил, но понял я его только десятилетия спустя. Я был тогда мальчиком лет 10–11 в детском лагере, и был у нас священник. Ему было, вероятно, лет 30, у него были длинные волосы, длинная борода, а он нам казался дедом. Но вот что меня поразило в нем и озадачило (тогда я не понимал этого): он всех нас без исключения любил любовью, которая не менялась, с той только разницей, что когда мы были «хорошие», то его любовь делалась ликованием, когда мы были «плохие», эта любовь становилась горем; но она никогда не уменьшалась и никогда не менялась. Это меня поразило. Только потом я это осмыслил: так нас любит Бог. Его любовь не меняется, но когда мы недостойны себя самих, то для Него это горе, которое кончается, в предельном случае, распятием на Голгофе. Когда, наоборот, мы достойны себя и, значит, Его, то Его любовь делается ликованием. Это было мое первое впечатление.
Прошли годы, и я этого священника встретил на выносе Плащаницы. Я тогда был уже молодым человеком, мы собрались у Плащаницы помолиться. Он вышел, стал на колени перед Плащаницей и долго стоял так, и мы стояли. Потом он встал, повернулся к нам лицом, покрытым слезами, и сказал: «Сегодня Христос умер за нас. Давайте плакать…» И заплакал. И это было не сентиментально. Мы увидели, что смерть Христа для него настолько реальна, что он может плакать не над Христом, а над тем, что мы причина Его смерти. И это путь, которым мы можем научить ребенка воспринимать то, чего мы словами не объясним. Здесь есть одно соображение – это школа, например, приходская или воскресная. И тут несколько вещей нужно отметить. Во-первых, я повторю то, что раньше сказал: нельзя преподавать истины веры, как преподают историю или географию, их надо преподавать как жизнь. И поэтому, когда в Русской гимназии в Париже на экзамене спрашивали ребенка: «Расскажи про третье путешествие апостола Павла» – я пожимал плечами и думал: какое дело апостол Павел и его третье путешествие имеет к спасению души этого ребенка? Я понятия об этом не имею, забыл давно, и мне никогда не было интересно. Павел мне интересен, а куда он ездил – лишь постольку, поскольку там что-то происходило. Поэтому преподавание, заучивание Священной истории как рассказа только разрушает.
Кроме того, есть моменты Священной истории, где рассказ как бы не имеет никакого смысла. Возьмите рассказ о Самсоне. Он дал женщине остричь себя, и у него пропала вся сила. Как на это реагирует ребенок? Что это какое-то колдовство, что в его волосах была какая-то колдовская сила. А все дело в том, что длинные волосы носили те, кто был Богу посвящен. В тот момент, когда Самсон волосы снял с себя и выбросил, его посвящение Богу прошло, и Божественная сила от него отошла. Поэтому есть 2 способа рассказать о Самсоне: это или рассказ-сказка, или рассказ, полный духовного смысла.
Вот еще пример из моей практики. Я вел беседу так. Мы брали воскресное Евангелие, то есть тот текст, который будет читаться на следующий день (мы собирались по субботам), и я его рассказывал как можно более ярко и выпукло, своим языком, придерживаясь Евангелия, ничего не прибавляя, ничего не убавляя, но не употребляя тех выражений или оборотов, которые для детей чужды, непонятны, и стараясь из рассказа сделать что-то важное, интересное для них. А потом я им ставил вопрос: «А теперь – что вы об этом думаете?» И в течение часа мы обменивались мнениями. Причем группа моя состояла из детей от 6 до 14-ти лет, и оказывалось, что немного туповатый 14-летний подросток может чему-то научиться от шустрого 6-летнего, и был постоянный обмен. Причем они сначала старались понять, что тут сказано, как это может быть, почему; затем – как это применить или какие из этого заключения можно сделать для своей собственной жизни. А потом мы этот текст вычитывали на славянском или на русском языке, чтобы, когда они услышат его в церкви, они все в нем узнали, чтобы каждое слово было, словно рука, которая коснулась струнки в их душе, и чтобы от этого прикосновения у них запела душа.
Помимо этого, во время уроков я поднимал с детьми нравственные вопросы. То есть: что у вас случилось на этой неделе? Поссорились или там обманули кого-нибудь, украли что-нибудь – все равно что. И мы начинали нравственный разбор этого поступка. Ты, Андрюша, вот что сделал (говорили они): ты не только играл мячиком во дворе, но ты нарочно пустил мячиком в окно. Почему? Что тебя побудило? Он что-то сказал, другой мальчик что-то сказал, и завязывалась беседа. Но что было в этом поучительного? Конечно, не то, что он разбил окно, а то, что по ходу беседы постоянно кто-нибудь говорил что-то, что можно было отнести к Священному Писанию. И я их останавливал: «А! Ты это сказал, а до тебя это апостол Павел сказал. Вот посмотрим в книгу… Ты так сказал? – это в Евангелии сказано уже до тебя…» И вот постепенно, исходя из проступков или из каких-нибудь радостных событий жизни, мы вплетали в жизнь евангельские рассказы, апостольские слова, Христовы заповеди, Его пример. И вот мне кажется, что в этом заключается религиозное воспитание ребенка в школе.
Если школа построена так, что она существует как действительное товарищество между ее членами: детей между собой и детей со своим преподавателем, то это место, где они могут научиться другому отношению к жизни, которого на улице не найдешь, то есть товариществу, правдивости и т.д. И мы, создавая такую среду, постепенно можем сформировать общество детей, которые, вырастая в подростков и взрослых людей, будут способны осознать (не потому что их дрессировали, а потому что они с детства тому научились и восприняли), что мир, в котором мы живем, должен стать иным. И еще: вырастая, они неминуемо окажутся перед лицом нравственных проблем. Если они никогда не были в единодушной, единомысленной среде, причем единомысленной со Христом, с Богом, то они пойдут за советом на улицу и получат ответы, которые могут быть совершенно разрушительны для их душ. Если же в этой школе создалось настоящее товарищество, спаянное глубокой духовной и молитвенной жизнью, то они пойдут к своим, и свои им скажут: «Нет, так нельзя, ты будешь недостоин себя самого, ты будешь недостоин нашего товарищества, ты не будешь достоин имени русского человека, твоего звания православного…» И это может ребенку помочь стать на ноги, когда он уже начинает падать на колени. Вот почему мне кажется, что церковная школа в этом отношении может иметь громадное значение. Не потому что ты узнаешь конкретные факты о жизни Христа, а потому, что в ней ты приобретешь неоценимый духовный опыт. Та девушка, о которой я вам говорил раньше, которая ожила душой, когда начала петь русские песни, как-то при мне сказала кому-то из взрослых, матерей: «Знаете, отец Антоний нас никогда ничему не учит, но он нас так вдохновил Евангелием, что мы сами из него начали учиться…» И мне кажется, что это очень важно – вдохновить душу ребенка.
06.11. 1993. портал "Покров"
https://pokrov.pro/mitropo....a-dusha
О РАДОСТИ
Сколько у нас могло бы быть нечаянных, нежданных для нас радостей, если бы мы сердцем совсем открытым воспринимали все, что нам дается в жизни. Беда в том, что мы обедняем свою радость, считая ее естественной, а горе - помрачением того, что должно быть в жизни. Мы ожидаем радости, мы требуем радости, и когда она нам не дается, мы делаемся душевно тусклыми, печальными, темнеем.
А вместе с тем, сколько радостей в это же самое время проходит совершенно незамеченными. Мы все считаем свое тело своей собственностью, своим достоянием; оно должно нам служить верой и правдой, должно быть безболезненно. А люди, много и долго болевшие, вдруг выздоровев после многолетних страданий, чувствуют, что тело - такое дивное. Как бывает удивительно для человека, который годами еле мог двигаться - что он ходит, еле стоял - что он может стоять, еле мог дышать - что он свободно дышит, и так далее. Чтобы жизнь наша была богата радостью именно нечаемой нами, такой радостью, о которой мы и не думаем, мы в первую очередь должны научиться никакую радость не считать естественной, полагающейся, долгом Божиим по отношению к нам, должны уметь дивиться каждой радости, которая приходит. Ведь каждая радость — это знак ласки Божией или человеческой ласки и любви.
Если бы только мы задумались над тем, сколько труда, заботы Божией и человеческой за тем куском хлеба, который мы едим - как мы этот хлеб держали бы в руке, дивясь, что этот хлеб, по слову одного нашего русского молодого богослова, - это Божия любовь, ставшая для нас пищей. И так - воздух, так - тело, так - ум, сердце, все.
И вот мне хочется сказать вам об одной особенной, действительно нечаянной радости, которая случилась в нашем лондонском патриаршем приходе после праздника «Нечаянной Радости». В какой-то день после богослужения ко мне подошел в волнении церковный сторож и сказал: «Владыко, Иверскую украли!..» Небольшую Иверскую икону Божией Матери XVII в. украли во время службы. Что делать? Я ему сказал молчать и молиться о том, чтобы она вернулась. Я ее заменил другой иконой, - через 2 недели пропала и та во время службы. Сторож доложил мне. Я молился во время литургии: что нам делать? И в конце службы я вышел к народу и сказал: «Вот что случилось,- 2 раза подряд какой-то человек во время богослужения украл иконы. Мы можем отнестись к этому двояко: или видеть в этом кощунство и молить Бога, чтобы Он наказал преступника; или задуматься над тем, что может человека побудить совершить такое дело. Что у такого человека делается в душе, если он приходит в церковь, где люди молятся, где все открыты, уязвимы, беззащитны, и вот - уносит образ. Как страшно за него, и как больно за него, и как жалко его!».
И мы поставили: молиться о нем. Молиться просто о человеке, о котором мы ничего не знали, кроме того, что он украл дорогие нам иконы. Не драгоценные, а дорогие, потому что все иконы в нашем храме кем-нибудь даны от убожества своего. И еще о том молиться мы постановили, чтобы эти иконы принесли благословение и тому, кто их взял, и тому, кому они достанутся. Так мы молились в течение около полугода.
В какой-то вечер ко мне постучался человек и говорит: «Владыко, исповедоваться хочу». Не знаю почему, но я ему сказал: «Нет, я не буду слушать твоей исповеди; ты мне скажи: что ты сделал и почему ты пришел?» Он ответил: «Хорошо; я украл ваши иконы и надеялся получить от вас разрешение…» Я сказал: «Так ты его не получишь. Скажи: ты еще у кого-нибудь крал, много крал?» — «Да». - «Так ты вернись домой, собери все, что ты украл, и иди из дома в дом, звони и говори людям, твоим друзьям (потому что крал-то он у друзей своих; он не такой вор, чтобы красть с опасностью), пойди к каждому из твоих друзей, кто тебе доверился и был обманут тобой, и скажи: «Я тебя обманул; теперь я тебе принес краденое, - прости!..» И я прибавил: «Будь готов, что тебя могут не простить, что тебя могут выгнать вон, вызвать на суд,- будь к этому готов и скажи с радостью “да”». Он пошел, сказав: «Часов до 11-и придется ходить». Но в 11 он не пришел. Я его ждал и до полуночи, и дальше, и болела душа: значит, испугался, значит, этот порыв у него умер перед страхом, перед стыдом,- ложным стыдом, потому что перед Богом стыда-то не было, а перед людьми испугался. Я молился, как умел. А на следующее утро, уже в 12-ом часу, он снова постучался в дверь.
«Что же ты вчера не пришел?» - «Слишком много кражи было, весь вечер ходил, все утро ходил; теперь возьмите и ваши 2 иконы». Тогда я его взял исповедоваться. Молились; я ему дал разрешительную молитву. Это было именно сразу после праздника «Нечаянной радости»; а в следующее воскресенье я говорил в приходе проповедь о том, что Божия Матерь сделала, как Она сумела превратить преступление в новую радость, в нечаянную радость, в нежданную, негаданную радость. Ведь подумайте: Она действительно с ним пошла, Она действительно возбудила в его сердце покаяние, Она действительно его привела обратно, к Сыну Своему и Богу, как раз перед Рождеством Христовым, тем днем, когда Христос стал человеком, чтобы спасти погибших.Вот вам пример. Пример богатый, потому что он говорит не только о том, как человек может каяться, но и о том, как мы можем надеяться против всякой надежды, любить там, где так и напрашивается гнев, раздражение, обида, — любить “безумно”. Потому что все Евангелие, в сущности, «безумие» по суду человеческому. Так по-человечески не живут, так живут только по-Божьи.Какую радость Господь нам дал! Этой радостью хочу с вами поделиться. Этот Миша, который крал иконы, теперь прислужник в приходе, наш, вернее, не наш - Божий. И это сделала Матерь Божия. Вот какие бывают действительно нечаянные радости. И таких радостей могло бы быть много, если вместо того, чтобы быть подозрительными, мстительными, злыми, мы готовы были бы потерпеть убыток, а любовь не потерять.
04.08.2020. Интернет-издание "Эксклюзив"
|
| |
| |