|
РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ...
|
|
|
|
|
|
|
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 30 Мар 2021, 11:17 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТОК
Забытые карточки и методы их изготовления
Так уж повелось, что Россия во многом отставала от развитых стран запада, поэтому поздравительные карточки, известные в Европе еще до учреждения открыток как почтовых отправлений, вошли в моду в России уже в открыточную эру. Часто предназначение таких карточек отличалось от привычного западного. Поздравительные карточки чаще всего закупались за границей, а в России на них делали надписи на русском языке и иногда дорисовывали российскую символику.
Вопрос о том, в какой стране обычно изготовлялись, например, карточки с шелком, или, хотя бы, где они впервые были выпущены и откуда пошла мода на них - остается открытым. В России принято считать, что они изготовлялись в Европе, возможно, в Германии. В Европе же считают, что мода на них пришла, чуть ли не из Японии или Китая, при этом упоминая, что все то, что доподлинно неизвестно, обычно относят к этим странам Азии. Подобные карточки, особенно непочтовые, обычно не имеют знаков издателей. Возможно, что очень высокое качество их изготовления служило визитной карточкой издателя и не требовало дополнительных знаков. Недаром же, что некоторые забытые технологии, такие как высечка, и по сей день относят к секретам гильдии, подразумевая, что не всем дано постичь тайну их высокого качества.
В зарубежных странах подобные карточки использовались повсеместно потому, что столь своеобразный способ поздравления был знаком и популярен в обществе задолго до почтовой эры. Россия же во многом обязана появлению подобной культуры поздравления частным фабрикантам и купцам. Сувенирно-рекламные карточки, прославляющие изготовителя, вкладывались в упаковочные коробки, стеклянные банки с продукцией. Покупатель, использовав продукт по назначению, потом долго хранил такие карточки - можно ли было выбросить такую красоту? А хранить оригинальную рекламу фабрики - значило всегда помнить об изделии и покупать новые - может быть там будет новый подобный сувенир? Особенно преуспело в таком методе рекламы московское "Товарищество А.А.Абрикосова сыновей". Так, свой успех на Всероссийских художественно-промышленных выставках в Москве - Товарищество получило высшие награды - Абрикосовы решили отметить исключительно нарядной карточкой, прославляющей эти даты.

Нарядный мальчик символизирует 1882 - год 1-ой награды, полученной фабрикой на выставке. Словно "эстафету" от него продолжает не менее нарядная девочка, которая символизирует 1896 - год получения 2-ой награды. Вряд ли подобная карточка была специально заказана Абрикосовыми - скорее они просто удачно использовали типичный сюжет поздравления. В самом деле, детские образы и сегодня являются часто востребованными в рекламе. Ведь кто как не дети - традиционные потребители всяких сладостей? А радость, с которой эти дети, одетые во взрослые наряды, прославляют 2 даты в истории фабрики, должна была настраивать покупателей помнить о них, об их счастливом детстве и вместе с ними о фабрике Абрикосовых. Трудно себе представить более оригинальную и действенную рекламу! На карточке нет изображений конфет, то есть, продукция фабрики не навязывается покупателю, но в то же время реклама обращена к его душе - она подчеркивает его лучшие родительские чувства.
По этой карточке можно судить о российских традициях, связанных с такими непочтовыми карточками. Они изготовлялись не в России, поскольку исконно русские сюжеты в них обычно не встречаются. В России на них наносились надписи и некоторые другие изображения, не нарушающие исходной картинки. Так, после 1896 г. на упаковке продукции Абрикосовых стали появляться 2 изображения герба Российской империи в знак высоких наград, что и показано на карточке. Сюжет, чаще всего типично западноевропейский, поздравительный использовался как праздничная картинка, обычно никак не связанная со случаем ее использования в России. Эти и подобные им рекламные карточки выполнялись чаще всего с применением тиснения, сложных виньеточных узоров, высечки и использованием небумажных материалов, особенно шелка. Зарубежные исследователи открыток объясняют особый интерес к шелку у дореволюционных издателей некоторым кризисом в текстильной промышленности, сложившемся к концу XIX в. Применение шелка в открытках не имело ничего общего с шелкографией, хотя она также использовалась дореволюционными издателями. Шелкография позволяла выпускать открытки, отличающиеся повышенной яркостью и красочностью. Однако ни в Золотой век открытки, ни сегодня шелкография не считается диковинной технологией. Гораздо интереснее изучать открытки, выполненные с применением забытых способов. Шелк помещался в открытки либо вручную, либо машинным способом. Очень часто шелком подчеркивали тканевую основу национальных флагов, либо платьев на старинных черно-белых фотографиях или же литографических открытках. Особенно интересными представляются двухслойные открытки или же непочтовые карточки. Шелк впрессовывался на открыточную бумагу машинным способом, потом выполнялось тиснение поверхности, покрытой тканью. И, наконец, поверх столь интересной "подкладки" вклеивался еще один слой, украшенный высечками.

Иногда шелк заменялся раскрашенной бумагой, но оригинальная высечка компенсировала "грубый" бумажный фон. Тиснение применяется сегодня особенно часто и является, чуть ли не единственным "художественным" методом известным дореволюционным издателям открыток и сохранившимся до наших дней.
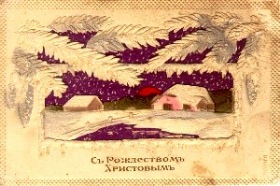
Высечка - особая технология, используемая обычно при изготовлении открыток, визиток и тому подобной продукции. Современные дизайнеры подчас даже не знают, что это такое. Этого слова, например, нет в БСЭ. Технология настолько оригинальна, что секреты высечки передаются из поколения в поколение, а найти какое-нибудь руководство по этой технологии весьма затруднительно. Высечка выполняется при помощи оригинальных высекальных штампов, которые используются для пробивания различных отверстий в бумаге, что придает изделию необычность и привлекательность. Причем ручной метод изготовления штампов, известный в XIX в., даже совершенней и, естественно, дешевле современного лазерного. Но, не следует думать, что изготовление высекального штампа - относительно простое дело. Существовали даже мастера, которые специализировались только на изготовлении таких штампов. Причем как тогда, так и сегодня мастерам приходится сгибать стальную линейку на глаз, хотя они и следует готовому дизайнерскому рисунку. Порой для изготовления такого штампа требовалось несколько дней непрерывной работы. Но трудоемкость операции окупалась исключительной красотой готовой карточки.
Часто поздравительные карточки, обрамленные виньетками с высечкой, были настоящими произведениями искусства. Длинный поздравительный текст обычно не предполагался. Красота карточки передавала все ненаписанные, подобающие случаю слова. Мы ничего не знаем ни о дарителях подобных карточек, ни об адресатах, но те чувства, которые первые испытывали к последним донесли до нас прекрасные поздравительные карточки. Впрессованный шелк, простенький "сюжет" с голубем и изящная высечка передают необычайное очарование старых поздравительных карточек.
 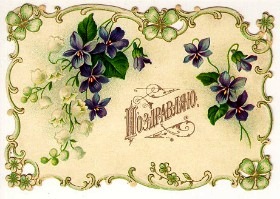
Изготовители и дарители карточек наверняка не думали, что они сохранятся до XXI в. Но бережное отношение к ним нескольких владельцев, аккуратное хранение позволяют нам и сегодня любоваться подобными атрибутами дореволюционной жизни. Мы ничего не знаем и о Д.Я. Коткове, но его визитная карточка также сохранилась до наших дней благодаря исключительному изяществу ее исполнения.

Изображенный на ней натюрморт с грибами и горшком искусно подчеркивает интерес владельца визитки к изящным вещицам, а может быть, в какой-то мере, и род его деятельности. Много ли современных визиток, выполненных обычно слишком однообразно, сохранится такое долгое время? Надо сказать, что если старые поздравительные карточки родственны почтовым, то визитки родственны, главным образом, поздравительным карточкам. И то и другое передавалось из рук в руки, и то и другое изготавливалось на высоком худ. уровне. Другое дело, что изучение дореволюционных визитных карточек не относится не только к филокартии, но и к делтиологии - зарубежной науке об открытках. Но, поскольку предназначение и визитных карточек и непочтовых коллекционных открыток было иногда примерно одинаковым, и те и другие заслуживают нашего внимания. Привлекательна карточка Товарищества паровой фабрики Эйнем. В коробки с продукцией фабрики часто вкладывались открытки, рекламные карточки или даже ноты специально сочиненной мелодии, вроде "Вальс-монпансье".
 
Если фабрика Эйнем - довольно известное в прошлом предприятие, то сколько было до революции других предприятий, весточки о которых донесли до нас изящные карточки!
 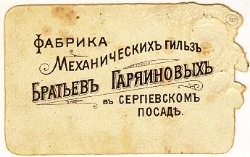
Вот, например, карточка фабрики механических гильз неких Братьев Гаряиновых в Сергиевом Посаде.
Эта визитная карточка, по всей видимости, была изготовлена за границей, а в России ее оборотную сторону "украсила" реклама фабрики.
Символика непочтовых карточек обычно была достаточно однообразна и узнаваема. Художники использовали несложные символы, понятные для обывателей. В противном случае, такие карточки рисковали бы остаться невостребованными покупателями, что не устраивало издателей. Так, на многих карточках присутствуют виньетки - орнаменты из цветов, стилизованные изображения сердца, голубь, несущий в клюве запечатанный конверт. Причем, письмо от любимого изображалось именно в виде конверта, но не как открытка. Возможно, что это подчеркивало способ пересылки таких удивительных открыток по почте - именно в конверте. Подобные карточки обычно очень интересны, порой загадочны, если рассматривать их в натуре. Плоская страница не способна передать выпуклостей таких "эксклюзивных" открыток. Между тем, разобраться во всех тонкостях технологии, применяемой дореволюционными издателями, способен только хорошо подкованный специалист. Оригинальная, хорошо продуманная комбинация различных методов позволяла создавать настоящие шедевры издательского искусства. Эра почтовых открыток и одновременный технический прогресс привели к тому, что открытки все меньше и меньше изготовлялись вручную с применением оригинальных технологий. Даже "валентинки" стали печататься на фабриках. Это делало издателей ленивыми, а открытки однообразными. Поэтому и сегодня такие поздравительные карточки воспринимаются как нечто необыкновенное.
http://www.philocartist.su/articles/articles46.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 30 Мар 2021, 12:26 | Сообщение # 7 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | "УХОДИТ ЖАНР ЭПИСТОЛЯРНЫЙ..."
Но почтовые открытки по-прежнему помогают осмысливать происходящее и напоминают об утраченном... Старинные почтовые открытки... Для одного человека это просто кусочки разноцветного картона. Для другого - фамильные реликвии, порою единственные напоминания о потерянных или разбросанных по свету друзьях и родственниках. Для третьего - любопытный коллекционный материал, удобная форма вложения денег. Однако, независимо от того, как относятся к ним люди, всякая открытка - всегда уникальный исторический документ, своеобразная визитная карточка эпохи.
Несмотря на массу существующей спец. литературы и опубликованных документов, старинные почтовые открытки остаются хранителями уникальной информации о не доживших до наших дней исторических и архитектурных памятниках. Вот дореволюционная открытка, запечатлевшая памятник "Белому генералу" М.Скобелеву. Тому самому, что участвовал в Хивинском походе, Ахалтекинской экспедиции, подавлении Кокандского восстания, а особенно прославился, командуя российскими войсками сначала под Плевной, а потом при Шипке в Русско-турецкую войну в 1877-1878 гг.
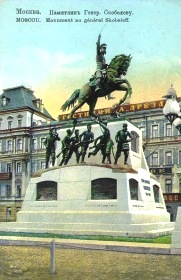 
Памятник был открыт 24 июня 1912 г. в Москве, на Тверской ул. перед домом градоначальника, на месте нынешнего памятника Ю.Долгорукому. Деньги на монумент собирали по всей России. Для создания памятника в печати был объявлен конкурс ("тендер", говоря нынешним языком), который выиграл до этого неизвестный публике подполковник А.Самсонов.
Открылся памятник через 30 лет после смерти Скобелева. Россия по отношению к "Белому генералу" оказалась памятливой и благодарной. На торжественное открытие монумента прибыли посланцы из Ферганской обл. с венком, на ленте которого была надпись: "Белому генералу, умиротворившему Фергану, обогатившему туземное население, вплетшему жемчужину Востока в корону русского царя". Надпись на ленте венка из Болгарии гласила: "Ловеч, Плевен, Шейново - незабвенному витязю освободительной войны, славному генералу Скобелеву. Благодарный болгарский народ". В тот день прозвучали на площади и такие слова: "... Москва счастлива, что на ее долю выпало быть хранительницей... этого народного достояния..."
Увы, памятник прославленному полководцу не простоял и 10 лет. 1 мая 1918 г. в соответствии с декретом "О снятии памятников царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции" он был снесен. Как и полагалось, с соответствующим пропагандистским обеспечением - с музыкой духового оркестра, пением "Интернационала", революционными речами и мельтешением красных косынок.
О БАШНЕ СТОЛИЧНОЙ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Судьбу памятника Скобелеву разделило великое множество скульптур, сооружений и просто зданий, некогда украшавших российские города. Немалая часть их осталась запечатленной на старинных открытках. Особое место среди них занимает Сухарева башня, некогда находившаяся в районе нынешней столичной ст. м. "Сухаревская". По определению специалистов, она представляла собой "крупнейшее произведение гражданского зодчества России конца XVII в. в стиле "нарышкинского барокко". В 1933 г. принимается решение о сносе памятника. Основание (типичное для той эпохи): она якобы мешает... уличному движению. Авторитетные советские архитекторы разрабатывают проекты планировки площади, которые позволяют сохранить башню. В защиту памятника пытается выступить "буревестник революции" М.Горький. 27 августа 1933 г. И.Грабарь и др. авторитетные деятели советской культуры обращаются с коллективным письмом к Сталину и Кагановичу, в котором робко пытаются объяснить нецелесообразность слома Сухаревой башни. Подобному поступку моментально была дана партийная оценка. Выступая на совещании московских архитекторов-коммунистов, Каганович назвал проект старых архитекторов против сноса Сухаревой башни проявлением "ожесточенной классовой борьбы".

Окончательные акценты в партийной оценке дискуссии о судьбе памятника расставила телеграмма, посланная Сталиным и Ворошиловым Кагановичу. "Мы изучили вопрос о Сухаревой башне и пришли к тому, что ее надо обязательно снести. Предлагаем снести Сухареву башню и расширить движение. Архитекторы, возражающие против сноса, - слепы и бесперспективны". По сути, это был приговор Сухаревой башне. В апреле 1934-го памятник начали ломать. К.Юон, Щусев, И.Жолтовский и др. деятели советской культуры в очередной раз обратились к Сталину с просьбой приостановить снос исторического сооружения. Ответ был быстр и более чем конкретен: "Решение о разрушении башни было принято в свое время правительством. Лично считаю это решение правильным, полагая, что советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня. Жалею, что, несмотря на все мое уважение к вам, не имею возможности в данном случае оказать вам услугу. Уважающий вас - И.Сталин".
В те апрельские дни В.Гиляровский писал в письме к дочери: "... Великолепная Сухарева башня, которую звали невестой Ивана Великого, ломается... Ты не думай, что она ломается, как невеста перед женихом, кокетничает, как 200 лет перед Иваном Великим - нет. Ее - ломают..."
Снос Сухаревой башни был официально признан ошибкой очень скоро, еще до того как были убраны руины с площади, переименованной из Сухаревской в Колхозную. С 70-80-х гг. в прессе началось обсуждение идеи восстановления памятника. В мае 1980 г. авторитетная "Литературная газета" опубликовала письмо группы деятелей советской культуры - архитектора-реставратора П. Барановского, писателя О.Волкова, художника И.Глазунова, писателя Л.Леонова, академика Д. Лихачева и др. Название письма говорило само за себя: "Восстановить Сухареву башню". С того времени прошло почти 20 лет. Идея восстановления уникального памятника ждет своей реализации. Разумеется, на фоне нынешних столичных "сложностей" проблему Сухаревой башни первостепенной назвать трудно. А о былом величии снесенного памятника по-прежнему напоминают старинные открытки, незаурядное качество которых остается предметом зависти современных полиграфистов.
"ОТКРЫТКЕ, В НАТУРЕ, НЕ ВЫЖИТЬ?"
Положа руку на сердце, признаем, что шансов выжить у почтовой открытки в конкуренции с телефоном и электронной связью практически никаких. Особого повода для сожаления здесь на первый взгляд нет. Современные средства связи куда оперативней и надежней, чем по старинке отправляемая по почте открытка. Это значит, что кусочки цветного картона, спещренные чьим-то почерком и увенчанные почтовой маркой, уйдут в прошлое. Станет достоянием истории и все имеющее какое-либо отношение к почтовым открыткам. И о многом свидетельствующие особенности человеческого почерка, и оттенки чьих-то чувств, которые можно было доверить только бумаге, и еще многое другое. На смену всему этому придет уже всем известный телеграфно-телефонный стиль общения с уже до боли знакомыми блоками-штампами. Теми самыми, в которых густо перемешались и циничная деловитость, и "недобранная" культура, и всепроникающий уголовный налет: "Ну ты, в натуре, как?", "Набери меня по мобиле...", "Факсану утром" и т.д. Тем не менее отечественные издательства по-прежнему выпускают почтовые открытки. Не предвидится пока и полной отмены почтовых услуг. А это значит, что по-прежнему будут существовать увлеченные люди, посвящающие свою жизнь коллекционированию почтовых открыток. И по-прежнему эти открытки будут помогать нам осмысливать происходящее и напоминать об утраченном.
Борис Земцов
http://www.philocartist.su/articles/articles5.html
СЛУШАЯ СТАРЫЕ ПЛАСТИНКИ
Матушка Марина Захарчук живет в селе Новенькое Ивнянского района Белгородской обл., где служит в Михаило-Архангельском храме ее супруг, священник Лука, они воспитывают 5-х детей. А еще матушка сотрудничает с «Белгородскими епархиальными ведомостями» и пишет глубокие и поэтичные рассказы, воспоминания…
- Все мы родом из детства. Но понимаем это только тогда, когда жизнь потихоньку начинает склоняться к закату. Конечно, мы не можем знать, сколько еще осталось до вечной пристани, но почему-то все чаще вспоминается тот далекий уже берег, где было начало, исток нашей жизни. Закроешь глаза в минуту редкого отдыха - и словно листаешь старый альбом с ожившими картинками...
… Идут из лесу двое: бабушка и внучка. Бабушка напевает: «Грусть и тоска безысходная…» - «…сердце уныло поет», - подхватывает внучка.
- Да ты откуда знаешь?
- Я-то, бабушка, с пластинки, а вот ты откуда?
- Как - откуда? Моя мама всегда это пела.
Мама бабушки - молодая красавица на старом фото, не поверишь, что простой человек, так хороша. А голос певца, оставшийся во мне с детства, - это М.Вавич.
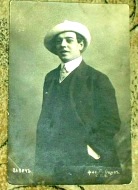
На старой, тяжелой граммофонной пластинке - надпись по-английски: «Русский бас». По-русски: «М.И. Вавич, артист Санкт-Петербургских театров». Бас не бас, но так поет только этот голос, я и сейчас бы отличила его от сотен других. Сегодня это имя известно, пожалуй, только специалистам в области русской муз. культуры. А в начале ХХ в. певец этот наверняка увлекал не только молодых красавиц, но и серьезные аудитории. В доме моего детства и сейчас хранятся 2 его пластинки. Вместе с легендой или былью - теперь уж не узнать точно - о том, что лучший свой романс, слова и музыку которого он написал сам, «Грусть и тоска безысходная», певец посвятил и спел одной из обитательниц этого дома…
Психологи утверждают: характер человека, его манера поведения, личностные качества почти на 100% процентов зависят от того, как он жил и воспитывался в раннем детстве, до 5, максимум - 7-него возраста. Я почти не помню, как воспитывали меня, но всю жизнь во мне звучат мелодии старых пластинок. Главным предметом моего детства был патефон. Потом - проигрыватели разных видов. Старшая сестра, укладывая меня в тихий час, не пела колыбельных, а ставила пластинки с классической музыкой. А еще до моего рождения в доме был граммофон. От него в моей памяти осталась огромная воронкообразная труба - усилитель звука, которую, наверное, было жалко выбросить бабушке. И стопка пластинок, таких тяжелых и хрупких, что мне не разрешали к ним прикасаться. Матово-черные, толщиной с мой детский палец, с царапинами и зазубринами, они напоминали мне бабушкино лицо - так же испещренное морщинами и такое же доброе и ласковое. В центре пластинок на плотно приклеенном кружке улыбались дети с крылышками - то ли Ангелы, то ли амуры, и тянулись надписи на старорусской орфографии. А песни были, за исключением военных маршей и куплетов из оперы-буфф (провозвестницы эстрадной музыки), совсем не похожими на толстощеких детишек с этикеток. То ли время было иным, то ли первые хозяева этих пластинок специально собрали именно такую фонотеку, но почти в каждой песне - трагедия: человека, семьи, страны.
«Спишь ты, спишь, моя родная, спишь в земле сырой», - звонко выводит детский голосок, оплакивая рано умершую мать и себя, оставшегося с жестокой мачехой и отцом, который «своему бедняге-сыну стал совсем чужой». Перевернешь пластинку - и тот же мальчишеский голосок сурово и нежно запевает: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, горишь ты вся в огне». Трагедия маленькой земли, уничтоженной Первой мировой войной, трагедия семьи, из которой один за другим уходят на войну сыновья. Пришел черед и старика-отца. «А младший сын, двенадцать лет, просился на войну. А я сказал ему: нет-нет, малютку не возьму. - Отец, отец, возьми меня с собою на войну. Я жизнь отдам за родину, младую жизнь мою».
Когда звучала эта пластинка, я всегда плакала. А через день просила снова: «Папа, включи «Трансвааль». Потом, научившись читать и включать проигрыватель, я захотела узнать имя певца.
Надпись на пластинке гласила: «Хор Двора Его Императорского Величества. Солист - мальчик хора». Наверное, юному солисту еще не положено было имя на пластинке, его нужно было заслужить. Что сталось с мальчиком, оплакавшим в песне беду чужой страны, в революционном вихре страны родной? Этого уже никогда не узнать. В 5 или 6 лет мне на день рожденья подарили блестящую и легкую «долгоиграющую» пластинку тогдашнего кумира детей и взрослых - Р.Лоретти. Я тоже полюбила его песни и даже повесила на стенку фотографию своего итальянского ровесника. Но безымянный «мальчик хора» навсегда остался первым и лучшим воспоминанием детства. А любовь к хорошей (в моем детском восприятии - не эстрадной) музыке помогала и помогает мне всю жизнь. Она росла во мне вместе с моей коллекцией пластинок, которую я пополняла на деньги, сэкономленные на школьных обедах. Но любимейшими оставались пластинки старые, бабушкины-прабабушкины.
Их нельзя было слушать часто: современные иглы портили и без того шипящую, заигранную запись. Но иногда мне разрешали привести подруг, и мы, затаив дыхание, слушали и нежное сопрано блистательной А.Вяльцевой, и почти мужское контральто цыганской звезды В.Паниной, и бархатный баритон М.Вавича. Больше всего было записей Н.Плевицкой. Наверное, потому, что дом со старыми пластинками находился в Курске - родине этой великой крестьянки, поднявшейся на дворцовые сцены с песнями своего сословия. Завсегдатаям аристократических салонов певица рассказывала о крестьянине, везущем на кладбище жену, которая умерла от родов «и покинула на мужа пятерых сирот», о гибели «Варяга», о пожаре Москвы 1812 г., о событиях «на старой Калужской дороге» и в «диких степях Забайкалья»… Одна песня особенно печалила и пленяла: «Умер бедняга в больнице военной, умер в разлуке с женой, без материнского благословенья этот солдат молодой…».
Короткий и сдержанный рассказ о судьбе разлученного войной с матерью, с молодой женой, с малюткой-сыном безымянного солдата. «Всю глубину материнской печали трудно мне вам передать», - поет Плевицкая, но «передает» так, что невозможно удержаться от слез. «Спи же, товарищ наш одинокий, спи и покойся себе в чужой стороне на Дальнем Востоке, - вечная память тебе», - голос певицы замирает на самых низких нотах.

«Музыка народная, слова К.Р.», - надпись на пластинке. В детстве я думала, что этот К.Р. - такой же безымянный, как и тот «мальчик хора». И лишь много лет спустя узнала, что под этими инициалами скрывалось имя Великого князя К.К. Романова. Как же неоднозначна наша история, в том числе литературно-музыкальная! Почти неграмотная крестьянка поднимается на столичную сцену, а Великий князь «смиряется» до народной песни, да так, словно сам был этим беднягой-солдатом.
Все мы родом из детства. И у нас растут у кого - дети, у кого - внуки и уже правнуки. И их нужно учить знать и любить свою историю и культуру. В том числе и музыкальную. Всегда ли мы помним об этом? Как-то в одной из газет промелькнула информация: собака, которую для эксперимента заставили слушать современные музыкальные ритмы, через несколько часов сошла с ума. Люди, наверное, более стойкие существа. Но вот дети… Когда я вижу, как возле коляски со спящим младенцем вопит магнитофон с любимыми записями его юных родителей, мне становится жутко. Что, кроме повышенной нервной возбудимости, может дать малышу такая музыка? Наверное, только привыкание к ней, похожее на наркотическую зависимость. Наши дети едут в транспорте, сидят за обедом, делают уроки с наушниками от плеера. А в свободное время включают звук на всю квартиру и «отрываются» под «заклинания» своих кумиров: «Я сошла с ума!»; «Мама, мы все сошли с ума!»; «Хочешь, я убью соседей?»; «Давай вечером умрем весело!» - и подобную совсем не безобидную болтовню. А что же мы? В лучшем случае - попросим слушать это в наше отсутствие или повозмущаемся. Но ужасаться и возмущаться теми песнями, которые поют и слушают наши дети, столь же легко, сколь и… бесполезно. Научить их понимать, ценить и любить настоящее, вневременное, вечное - куда сложнее. Не опоздать бы.
11.02. 2011. газета "Благовест"
http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=38&article=14262
АЛЬБОМ АСИ ШЕНК

Институтка начала XX в.
Хозяйка альбома - Ася, Аська, Ариадна Константиновна Шенк. Альбом был заведен, как следует из текста, в 1915 г. Мы застаем его хозяйку девочкой, ученицей VII кл. некоего петербургского института. К какому именно институту принадлежала Ася, неизвестно: в начале ХХ в. в Петербурге было 9 институтов благородных девиц. Лучшими считались Смольный, Екатерининский, Патриотический (сюда отбирались главным образом дочери знатных и высокопоставленных родителей). Принятый в начале 12-летний курс обучения (с 6 лет) в XIX в. был заменен 6-8-летним (в разных учреждениях по-разному), это значит, что девочки обучались с 10-12 до 16-18 лет. При этом нумерация классов шла в обратном порядке: VII кл. был младшим, а I - выпускным. То есть, когда в альбоме семиклассницы А.Шенк появилась 1-я запись, его владелице было лет 10-12.
Из надписи на 1-ом листе (Дорогому Жучку-Ариадночке от любящего папы. 20 ноября 1915 г.) мы узнаем, что девочка не была круглой сиротой, а их в институтах училось предостаточно. В женских институтах Российской империи на казенный счет воспитывались девушки из привилегированных сословий (дочери потомственных дворян, генералов, штаб- и обер-офицеров и гражданских чинов). При приеме воспитанниц на казенный счет учитывались особые семейные обстоятельства: сиротство девочки, обстоятельства смерти отца (например, убит в сражении); при живых родителях в расчет принимались материальное положение семьи, звание и чин отца и пр. (происходила баллотировка; при равных обстоятельствах бросали жребий).

Интересно, что можно попытаться даже представить себе облик Аси-Ариадны - живой забавной девочки с кудрявой головкой (об этой детали облика свидетельствуют посвящения хозяйке альбома - славному кудрявому чертенку, лохматому медвежонку). В женских институтах бытовали устоявшиеся определения, присваивавшиеся воспитанницам в зависимости от их поведения и отношений с начальством: парфетки (от фр. parfaite - совершенная), аккуратистки, из тех, кто полностью и беспрекословно подчиняется правилам института, и мовешки (от фр. mauvaise - дурная) - для считавшихся строптивыми шалуньями. Ася скорее похожа на мовешку.
Итак, по именам-фамилиям мы знаем почти целый класс, 15 девочек-институток: это помимо самой Аси Шенк - Ж.Рубцова, К.Пиковская, Е.Крузе, Т.Олсуфьева, М.Дуброво, А.Сакович, Н.Микешина, И. Саблина, В.Дрогалева, М.Дорошевская, Л.Грекова, М.Сиверс, Н.Черневская.
В альбомчике есть акростихи, в которых читаются имена девочек (Ася, Маня):
А я букву обожаю
С я часто вспоминаю
Я забыть я не могу.
От соученицы Дуброво
Милая подруга!
Ангел золотой!
Не ищи ты друга
Я друг вечный твой.
Дорогой Асе от Мухи Дорошевской
Среди стихотворных записей девочек-институток присутствуют и характерные для институтских альбомов любовные послания:
На память Асечке
Месяц для ночи
Солнца для дня
Асены очи всегда для меня.
Милой и дорогой Асечке Шенк Ася Сакович
Ты да я нас будет двое
Ты вздохнешь я повторю
Сердце скажет по не воле
Что я Асичку люблю.
От подруги. М.( Нади Микешиной)

Естественно, что и адресатами, и авторами этих поэтических посланий являются девочки (больше им писать некому, а подражать взрослым чувствам хочется). Такие стихи - проявление субкультуры закрытых и однополовых учебных заведений, какими являлись институты. Следствием замкнутости жизни была и известная институтская традиция обожания(т.е. стремление находить себе кумира, объект поклонения в лице подруги, старшеклассницы; впрочем, обожать было принято не только учениц, но любого, кто мог воплощать идеал: классную даму, институтского священника и даже Государя).
Кому-то казалось, что дневники и стихотворения институток обнаруживали в авторах отсутствие серьезного содержания, мысли, творчества, фантазии. Но составление альбомов было неплохой отдушиной, воспоминанием о шалостях, проделках, смешных случаях. Напрасно смеются над пустотой и сентиментальностью институтского альбомного творчества. Назначение этого законного лит. жанра - не только добрые пожелания или наставления, но и сохранение в памяти. И стихи в альбом, как бы наивны они ни были, действительно помогают вспомнить. Вот стихи, которые находим в альбоме - излюбленное альбомное:
Я царства не имею
Корону не ношу
Одну любовь имею
И ту тебе дарю.От В.Д(рогалевой)
Еще один мотив - наказ владелице альбома никогда не забывать друзей, клятвы в вечной дружбе (причем здесь же присутствует навязчивый мотив кладбища-сюжет, весьма распространенный в девических альбомах):
Когда умру, когда скончаюсь
Ко мне на кладбище приди
И у креста самой могилы
На память розу посади.
(Дорогой Асе Шенк от Иры Саблиной VII кл.)
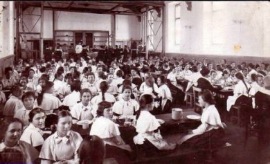
Столовая Екатерининского института
Все это завершается традиционной концовкой альбома:
На последней страничке альбома
Оставляю подпись свою,
Что бы милая девочка Ася
Не забыла подругу свою.
Время, когда ведутся записи институток - время Первой мировой войны. И в высшей степени не случайно, что начинается альбом авторским стихотворением соученицы А.Шенк, посвященным войне:
На память Ариадне.
На поле кровавом солдатик лежал
И тяжко от боли стонал.
Страданье виднелось на бледном лице
И Бога молил он о скором конце:
О Боже, услыши молитву мою!
Уж жить не могу я страдаю терплю,
О если б увидеть кого я люблю
О, мать дорогая, а где ты теперь?
Прощай, умираю- не жить мне поверь!!
Сочинила Ж. Рубцова VII класс
Еще одно авторское стихотворение из альбомчика, относящееся к институтскому периоду жизни А.Шенк. Оно озаглавлено "На 28 февраля в институте" (год не проставлен, только класс, но ясно, что шестиклассницами девочки были в феврале 1917 г.). Это -свидетельские показания о том дне, когда, собственно, началась февральская революция. Вот что записала в альбом подруге девочка-институтка, Тата Олсуфьева:
На 28 февраля в институте
Вкруг нас трещали пулеметы
Бежал народ по мостовой
А мы сидели точно мумии
Зубря где надо Х писать.
Вдруг прибегает Мопс трясущий
И крикнул нашей Марье кое-что!..
Та побледнела и как пуля
Из класса вылетела в корридор
Идут по институту слухи
Что где то треснуло окно
Что это пулемет противный
Попал в него.
Как сложилась судьба А.Шенк после закрытия института, неизвестно. Однако в альбомчике присутствует пласт записей послереволюционного периода. Образец самой высокой поэзии здесь - стихотворение А.Фета (А.Фет - вообще излюбленный автор составителей альбомов). Запись без даты, но, судя по отсутствию ятей, она сделана подписавшейся Люсей Гафферберг после 1917 г.
Гиацинт своих кудрей
За колечком вил колечко,
Но шепнул ему зефир
О твоих кудрях словечко!
Вероятно, альбом попал в руки других людей - последующие записи сделаны некоей Ниной Берк и помимо того в альбоме находятся рисунки неизвестного мальчика (сын Аси? или это совершенно посторонние люди?)
Отечественные записки, 2003 г.
http://ru-oldrussia.livejournal.com/107354.html#cutid1
Девичий альбом. 1911.

Другие альбомы: http://andcvet.narod.ru/DA/DA.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 02 Апр 2021, 12:17 | Сообщение # 8 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | ГОЛУБЯТНЯ

Выпускники московских школ на Красной площади. 1961
Мальчишкам третьего тысячелетия невозможно представить, чем были голуби для их отцов, дедов и прадедов. "Это была настоящая эпидемия, затяжная, неизлечимая эпидемия, побороть которую не смогли ни голод, ни война. Ею были заражены все: и мальчишки-дошкольники, и подростки, и взрослые парни, и женатые мужики", - вспоминал о голубиной страсти, охватившей страну, писатель М.М. Колосов. Сегодня о былой любви к пернатым напоминают редкие голубятни, сохранившиеся в старых городских дворах.
"Невозможно представить себе ни одного мало-мальски порядочного города, в особенности старинного, где бы не было настоящих голубятников-любителей", - писал известный этнограф С.В. Максимов в 1880-х. Особенно широкое распространение "голубиная охота", как называлось это романтическое увлечение, получила в торговых городах. Голуби завораживали обывателей красотой полета, услаждали слух воркованием, поражали почти человеческой верностью и лаской - недаром не одно столетие в ходу было обращение "голубчик" и "голубушка".
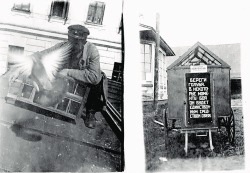
Будучи поначалу забавой купеческой, нешуточная голубиная страсть охватила мещанство. В деревне голубей разводили разве что на продажу, содержать птицу для услады глаз могли себе позволить только скучающие помещики. Впрочем, и те находили пернатым практическое применение. Так, военный историк князь Н.С. Голицын наладил между имением Сима Владимирской губернии и Москвой "авиапочту" - его голуби-почтари преодолевали сотни километров и всегда находили дорогу домой. Голубятники плотно населяли столичные окраины, славу "голубиных городов" снискали Ржев и Николаев, где вывели прославившихся на весь мир ржевских турманов и николаевских высоколетных. Но все же признанной "столицей всяких забав с певучими и не певучими птицами" до революции была Тула. Голубятниками там были все - от мала до велика. Очевидец свидетельствовал: "Часто в ясный летний день весь горизонт бывает покрыт стадами сих птиц, и на всех кровлях увидите охотников, машущих длинными шестами".
Каждый раз, когда счастливцы гоняли голубей, сотни глаз устремлялись в небо и следили за их полетом и пируэтами: считали, сколько стайка сделает кругов, заключали пари - чья птица выше, быстрее и чья голубка переманит самца в свою голубятню. И вот уже все дворовые мальчишки грезили "чистыми" и турманами, выпрашивали гроши у родителей, ловили и приручали городских "сизяков", переманивали, а то и воровали из чужих голубятен, за что бывали биты.
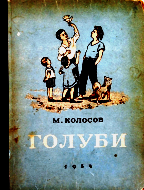
В Таганроге мальчишкой "каждое утро выгонял из голубятника" своих птиц А.П. Чехов. Грезил о них И.Бабель: "В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее". Родители это пустое занятие в большинстве своем не поощряли, а взрослых голубятников почитали за чудаков. Бытовала пословица: в голубятниках да в кобылятниках спокон веку пути не бывало. В Каменском мальчишкой вместе с отцом гонял голубей Леня Брежнев. Будущий генсек вспоминал: "Весь этот металлургический поселок держал высоколетных "сизарей". Уже в зрелости Леонид Ильич с размахом предался на даче юношескому увлечению. Заядлым голубятником был и его предшественник на посту Н.С. Хрущев: он тоже разводил на подмосковной даче элитных голубей и однажды "задал охране жару" за то, что не уберегли крылатых любимцев от кошки. К началу XX в. голубеводство состоялось не только как повальное увлечение, азартная игра и состязание - в 1890 году было создано Русское общество голубиного спорта, но и как дело государственное. По инициативе Генштаба в стране была организована сеть почтово-голубиных станций: в 1891 г. крылатые гонцы связали Санкт-Петербург и Москву, затем голубиное сообщение было налажено между военными округами.
К 1914 г. в русской армии насчитывалось более 4 тыс. голубей. В годы революции и Гражданской войны городские голуби - сизари - практически исчезли, их переловили и съели, поэтому вплоть до середины века городские улицы и площади населяли воробьи, вороны да галки. Не минула эта участь и домашних голубей, в годы лихолетья многие русские породы были безвозвратно утеряны. Но как только наладилась мирная жизнь, голубиная страсть в сердцах наших соотечественников вспыхнула с новой силой. В 1930-е годы взмывающие в небо голубиные стаи и голубятники, свистящие в 4 пальца и размахивающие шестом с мочалом, стали непременной чертой советского города. Птиц, как правило, держали в небольших голубятнях на односкатных крышах дровяных сарайчиков или на чердаках дореволюционных многоэтажек. "Они непременно запирались, и в каждой квартире на видном месте висел ключ от чердака, Там сушилось белье и жили голуби. Не только мальчишки, но и многие отцы семейств держали голубей. Кормили и холили, менялись и продавали, разводили породистых турманов и почтарей... В памяти еще живет синий квадрат неба над нашим двором, а в нем - десятки белых, сизых, коричневых птиц. "Пошел!!!" - раздается азартный крик хозяина, и очередной "письмоносец" взмывает в бескрайнюю высь над весенним Ленинградом" - вспоминала жительница Ленинграда 1920-1930-х годов.
.В молодом советском государстве голубиная охота перестала быть забавой - в 1925 г. ее взяло под свое крыло Общество содействия обороне. По всему Союзу открывались секции почтового голубеводства. Непрактичные декоративные породы ушли на 2-ой план. В 1930 г. Страна Советов за 8 тыс. золотых руб. закупила 16 высококлассных птиц-"производителей". Начал работу Центр голубиного спорта, проводивший состязания по скорости и дальности полета почтарей. Юные друзья обороны, грезившие небомВойна опустошила городские дворы: вчерашние подростки, гонявшие по крышам голубей, ушли на фронт, птицы разлетелись, погибли или были съедены. Московским голубеводам пришлось расстаться с "крылатыми гонцами" еще в 1941-м: комендант Москвы генерал-майор К.Р. Синилов 19 декабря обязал частных лиц "в трехдневный срок сдать голубей в управление милиции в целях недопущения использования враждебными элементами". Той же логикой руководствовался враг - на оккупированных территориях почтовых голубей полагалось сдавать под страхом расстрела.

Ростовский парнишка Витя Черевичкин спрятал от оккупантов своих почтарей, Снимок убитого подростка с птицей в руках стал одним из обвинительных документов на Нюрнбергском процессе, а после войны о мальчишке сложили песню, которую знал каждый советский школьник:
Жил в Ростове Витя Черевичкин,
В школе он отлично успевал,
И в свободный час он, как обычно,
Голубей любимых запускал...
С 1949 г. с легкой руки испанского художника Пабло Пикассо (кстати, заядлого голубятника) голубь стал самым узнаваемым символом мира. Его выпускали в небо на международных конгрессах мира и фестивалях молодежи в знак дружбы и солидарности. "Летите голуби, летите!" - культовая песня, созданная И.Дунаевским и М.Матусовским в 1951 г. к фильму о Берлинском международном фестивале молодежи, стала гимном целого поколения:
Во имя счастья и свободы
Летите, голуби, вперед!
Глядят с надеждою народы
На ваш стремительный полет!
Конечно, принимая Всемирный фестиваль молодежи и студентов у себя, москвичи не могли ударить в грязь лицом. За выведение необходимого для форума числа голубей отвечал лично инструктор орготдела Московского горкома комсомола В.Кривошеев, а растили и тренировали птиц всем миром - от октябренка до профессора биофака МГУ. По заданию комсомола на каждом предприятии возвели голубятню, к которой прикрепили опытного голубятника-любителя из числа работников; его освобождали от всех других обязанностей и снабжали фуражом для птиц. Городские активисты объединялись в районные клубы и совместно выращивали почтарей тысячами, сотни птиц ждали своего часа в школьных живых уголках. Итог - впечатляющий! 28 июля 1957 г. 34 тыс. голубей (по числу гостей фестиваля) взмыли над трибунами Лужников, разогнав новую волну повального увлечения голубиной охотой. Неудивительно, что вышедшая в 1960 г. молодежная киноповесть Якова Сегеля "Прощайте, голуби!" не оставила равнодушных:
Мы гоняли вчера голубей,
Завтра спутники пустим в полет!
Со временем голубеводы переезжали из коммуналок и частных домов в новые микрорайоны, а голуби - в добротные типовые голубятни. В столице к середине 1980-х годов насчитывалось 2,5 тыс. только "клубных" голубеводов, а кто знает, сколько птиц держали "неучтенными" на чердаках и балконах столичные мальчишки?
В 1984 г. около 100 региональных клубов вошли во Всесоюзное объединение голубиного спорта. И тучи голубей взвивались в небо Олимпиады-80, Фестиваля молодежи 1985 г., Игр доброй воли 1986-го... Сегодняшним подросткам не понять голубиной охоты - слишком много иных увлечений. Любимое занятие их дедов осталось в книгах, семейных альбомах и старых кинокартинах., все выше и выше стремили полет своих птиц. Голубиные стаи, кружившие в небе страны, стали олицетворением этой мечты.
Ольга Чагадаева
01.07. 2020. журнал "Родина"
https://rg.ru/2020....ov.html
СТАРИННЫЕ РУССКИЕ ДЕСЕРТЫ

Шоколада на Руси не знали. Зефир в лавках не продавался. Сахар стоил дорого, почём зря его не тратили. И всё же и баре, и крестьяне, и ремесленники, и купцы России сладости знали и любили ещё до возведения кондитерских фабрик. Но рецепты десертов (или, точнее, закусок к чаепитию) тогда были совсем другие.
Огурцы в меду
Есть такое полунасмешливое название одного лакомства – «монастырский бутерброд». Это когда на огурец мажут немного мёда и так едят. На самом деле, ели такой «бутерброд» не только в монастырях, он был популярен до революции практически повсеместно. Но ещё лучше считалось огурцы в меду выварить! Огурцы (или морковь) резали маленькими кубиками, заполняли ими латку (горшок) и заливали оставшееся пространство жидким светлым мёдом. После этого медленно, на очень слабом огне, варили в печи. Ценилось то, что огурцы становились прозрачно-солнечными, впитавшими вкус мёда и оставшиеся с нежной фактурой огурца. Отдельного названия у этого лакомства не было. Просто «огурцы в меду». И их, кстати, очень любил Иван Грозный. Морковь в меду тоже нравилась за свою фактуру, но немного волокнистую, а не гладкую.
Пастила или леваши
Любили на Руси и пастилу. Только была она похожа не на белые брусочки, а на слоёный тортик из маленьких лепёшечек. Называли такие лепёшечки ещё левашами. Чтобы приготовить пастилу, уваривали в собственном соку, меду или патоке такие ягоды, как калина, малина, смородина, облепиха или рябина (последнюю для пастилы собирали только по морозам – тогда она была сладковатой). В барских домах использовали также сушёную вишню, которую поставляли в великоросские города из Киева, и готовили более сложную яблочную пастилу. Уваренную ягодную массу медленно подсушивали в печи, распластав по противню. Потом нарезали на лепёшечки, склеивали их друг с другом и сушили ещё разок. Иногда пастилки не слепляли друг с другом, а подавали прямо тоненькими, порой – свёрнутыми в трубочку. Такая пастила называлась у русских «татарской». В ней было меньше мёда, и она была кислее. «Татарские» пастилки в барских домах также часто использовали для лечения, смотря на то, из каких ягод её приготовили. Рецепт яблочной пастилы можно найти и сейчас. Готовилась она как с яичными белками, для осветления и придания нежности, так и без них, и в любом случае мякоть яблока сначала превращали во взбитое пюре. Порой из яблочной пастилы делали слоёный торт, перемежая слои с пастилой из ягод. В конце XIX в. мёд в готовке стали заменять сахаром.
Кулага
Русская кулага (есть ещё белорусская, более популяризированная) готовилась буквально из 3-х компонентов: ржаного солода, ржаной муки и ягод калины. Солод разводили кипятком, давали настояться, а потом добавляли муку и калину и замешивали тесто. Добавляли кусочек ржаной хлебной корочки и давали тесту закваситься. После этого закладывали в латку, герметично закрывали, замазывали тем же тестом стыки и ставили на всю ночь в прогретую печь. Там тесто бродило без доступа воздуха, особым образом ферментируясь. В результате получалось блюдо с характерным кисловато-сладковатым вкусом, очень сытное, а также богатое витаминами группы B, C и P блюдо. Оно было не только вкусным, но и полезным при некоторых проблемах со здоровьем. Кулагой кормили людей с проблемами печени, почек, жёлчного пузыря и серда, а также проявляющих симптомы неврологических проблем (которые часто бывают вызваны нехваткой витаминов группы В.
Мазуня
Мазуня, или мазюня – сладкая паста, которая заменяла русским крестьянам «Нутеллу». Нет, не то, чтобы она была похожа – просто была очень популярной у зажиточных крестьян, попов и купцов сладкой намазкой на бутерброд. Мазуню готовили, в зависимости от региона, из редьки, арбуза или сухих вишен (последняя была популярна в барских домах). Притом самым русским рецептом считается тот, что с редькой. Этот острый на вкус овощ резали на кусочки и сушили на солнце или в печи. Высушенную редьку толкли в муку. В неё выливали свежеприготовленную белую патоку (от более популярной чёрной отличается тем, что готовится из крахмала, а не сахара). В получившуюся смесь добавляли пряности, вроде чёрного перца и гвоздики, реже – муската. Всё вместе томили в печи двое суток, как следует запечатав горшочек. То, что получилось, мазали обычно на хлеб. Консистенцию мазуня имела очень густую, приятно-бархатистую, цвет – молочного шоколада, вкус – пряный, с горчинкой, и сладковатый одновременно.
Просто поставь в печь
Поскольку жар помогает карамелизовать сахар, и без того содержащийся в некоторых плодах, и к тому же делает за счёт сушки вкус любого природного дара ярче, концентрированнее, многие лакомства готовились очень просто: засунуть в печь, достать из печи. К таким лакомствам относились калёные орехи. Хотя калили их, прежде всего, для того, чтобы скорлупу легко было щёлкать зубами, подсушенный в печи орех был вкуснее сырого. Позже, в конце XIX в., на базарах стали продавать орешки в сахарной скорлупе – очищенные, смоченные водой, вывалянные в сахаре, и потом засушенные в печи так, что сахар образовывал карамельную корку. Готовили в печи «парёнки». Вопреки названию, так называли не распаренные, влажные, овощи, а, напротив, засушенные мелкими брусочками. Для парёнок брали овощи с высоким содержанием сахара – морковь, свёклу, репу. Это лакомство было очень популярно у крестьянских детей. Запекали в печи и яблоки, только, в отличие от моркови и свёклы, не нарезали. У них вырезали сердцевинку, не прорезая яблоко насквозь, лишь бы проступил сок и не было твёрдых частей. Тогда в печи яблоко становилось естественным образом сладковатым. В домах побогаче в сердцевинку клали перетёртые ягоды (популярна была калина), сахар, варенье, смесь орехов и мёда.
Даже те русские блюда, что сейчас популярны, сильно изменились в рецепте. XX в. очень изменил русскую кухню. Поменялась посуда, печь сменила плита, постоянно доступный набор ингредиентов стал другим. А ещё во имя дружбы народов людей приучали пробовать блюда других народов – и многие из них в адаптированном виде оказались заимствованы. Пожалуй, современный русский сильно бы удивился, увидев, что ели его предки.
Щи
Королём советской столовой был борщ, и многие так к этому привыкли, что к XXI в. красный суп потеснил самое популярное до того в народе блюдо – щи. Да и то сказать, столовские щи в своём уме и щами нельзя было назвать – хотя многие теперь их готовят по столовскому рецепту.

У этого блюда в давние века было несколько причин для популярности. Во-первых, для него почти не требовалось свежих продуктов, что в условиях короткого тёплого периода и отсутствия холодильников было очень важно. Во-вторых, за счёт ферментированных продуктов в составе оно помогало желудку справиться с другим основным продуктом – тяжёлым и плотным крестьянским хлебом. Были и в-третьих, и в-четвёртых, перечислять можно долго.
Щей было множество рецептов. В зависимости от времени года, от дня постного или скоромного, от достатка семьи хозяйка ставила на стол одни щи или другие. Общими были несколько принципов. В щах должны были быть кислая основа, крахмалистая основа, съедобные листья, специи. Самыми популярными кислыми основами были квашеная капуста или щавель, иногда – другие заквашенные овощи и съедобные растения. Если суп варили на свежей капусте, то так или иначе подкисляли. Лимонов на русских подворьях не росло, так что обычно кидали кусочки кислых яблок. Могли забелить щи кислым молоком или сметаной. Капустные щи, кстати, как и борщ с капустой, никак не могли появиться прежде девятого-десятого века – до того капуста со средиземноморских берегов к славянам не проникла.
В качестве крахмальной основы до XIX в. использовались мука либо крупы, например, ячмень (мы его знаем как перловку). Только во 2-ой половине XIX в. в щи прочно вошла картошка, хотя завезли её ещё при Петре I. Среди тех, кому правительство поручало культивировать картофель и распространять его среди крестьянства, был Авраам Ганнибал, суданский принц, воспитанник Петра и предок Пушкина.

худ. С.Виноградов
Лучшие щи считались на говядине, но только не на парной. Парное мясо было праздничным блюдом, шло на стол сразу – жареным ли, варёным ли. В щи мясо шло, когда уже начало «трогаться». Порой до щей доходили только мозговые кости. Конечно же, варили щи и на свинине, и на рыбе, и на курице, и совершенно постные. В зелёные щи, из крапивы или щавеля, вместо мяса обычно клали яйцо. Ну и, конечно, в щи шли любые доступные специи – ведь варили их на несколько дней, и специи помогали им сохраниться. Правда, в эти несколько дней щи всё равно продолжали ферментироваться. Это считалось нормальным и многим даже нравилось.
Курник
Если не брать в расчёт казаков, у которых был свой взгляд на этот пирог, то курник на Руси подавался только на свадьбу и некоторые религиозные праздники. В северных землях, например, под Архангельском, курник часто делали с рыбой, а не курицей. Да и название его связано не с начинкой, а с тем фактом, что на вершинке пирога есть отверстие, над которым курится пар. В современный курник кладут, как правило, картошку или рис. В традиционный же курник начинкой клали гречневую кашу. К курице и гречке добавляли столько разных начинок, сколько могли придумать, ведь они должны были символизировать богатство будущей семьи. Более того, курники ломали над головами жениха и невесты, и чем больше разной начинки на них при этом высыпалось, тем больше им предрекали достатка. На молодых могли при этом упасть кусочки квашеной капусты, яйца, жареного лука, грибов… Все эти начинки внутри пирога прослаивали тонкими листами теста.
Блины и ватрушки

худ. В.Жданов
Блины были довольно популярным блюдом, потому что не требовали дорогих ингредиентов. Но всё же пекли их не всякий день (например, чтобы угостить внезапных гостей), ведь во время приготовления блинов, в отличие от щей или каш, хозяйке было не отойти от печи. Но те блины, что ели до двадцатого века, понравились бы современному русскому человеку необязательно.
Во-первых, кислые ржаные блины были популярнее пшеничных. «Белые» блины готовили, в основном, на поминки и на Масленицу. То ли из-за связи с поминками, то ли из-за того, что пшеница дороже ржи, но просто так пшеничных блинов не ели в большинстве русских деревень. Кроме того, жарили блины часто не на масле – масло вообще как продукт использовали далеко не каждый день – а на топлёном жире. Блины могли быть пустыми, а могли и с начинкой, которая в них заворачивалась после приготовления. Самой распространённой начинкой были остатки каши, которые могли смешивать для объёма с луком, капустой, остатками другой еды. Сметану к блинам в будние дни не подавали, если только не надо было её срочно спасать. Как буднее блюдо, блины, да ещё и пшеничные, распространились в XIX в. в городских трактирах. Чаще крестьян ели их и помещики. Хотя блины были удобны для утилизации остатков праздничной еды, крестьянки предпочитали с той же целью печь пироги, например, векошник или ватрушку.

худ. И.Куликов
Да, ватрушки прежде на Руси пекли не только с творогом или вареньем – туда могло попасть буквально что угодно: капуста, яблоки, репа, картошка, даже крапива. Творожные ватрушки готовили на некоторые праздники, например, на Ивана Купала или на Егория Вешнего. Скорее всего, изначально творожные ватрушки были обрядовым языческим блюдом. Ватрушки же с вареньем распространились именно в XX в.
Кисель
Сейчас так называют в основном густой крахмальный напиток со вкусом ягод и фруктов. Ещё в советское время для него продавали готовые брикеты из крахмала и вкусовой основы, которые оставалось только развести водой и сварить. Но для русских крестьян кисель был не напитком, а блюдом, которое едят ложкой. Слово «кисель» в прямом родстве со словом «кислый» – это изначально блюдо на основе заквашенной муки. Популярнее всего в XIX в. был овсяный кисель – овёс даёт не только много крахмала, но и сладковат сам по себе. Кроме овса, для киселя использовали такие культуры, как рожь, пшеница и конопля. Незаквашенный кисель, помимо овса, делали из гороха. Кисель на заквашенной основе подслащивали медовой водой или свежим, в том числе неснятым (со сливками), молоком. Гороховый кисель обычно сочетали с мясным бульоном или жареным луком. Кисель ели и горячим, и холодным – холодный он был похож на желе, и его разрезали ножом.

худ. Б.Кустодиев
Кисель был настолько популярным блюдом, что, когда на базарах стал популярен фастфуд, его предлагали наряду с калачами и другой «быстрой» едой. Черпали его из больших бочек. Хотя кисель был популярным будничным блюдом, его обязательно варили на поминки и на «родительские» субботы. В каждой местности были свои дополнительные секреты приготовления и подачи киселя.
Лилит Мазикина
https://kulturologia.ru/blogs/150121/48746/
https://kulturologia.ru/blogs/251220/48552/
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 09 Апр 2021, 15:05 | Сообщение # 9 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | ДА БУДЕТ СВЕТ!
Городское освещение преобразило жизнь Москвы и Петербурга конца XIX - начала ХХ в.

В.Подковинский. Фонарщик. 1885.
Вплоть до конца XIX в. в европейских городах сохранялся так называемый старый ночной режим. Появление искусственного освещения радикально изменило жизнь горожан - состоятельные люди теперь могли бодрствовать в ночное время, а утром спать. Иллюминацию и роль света в городском пространстве называют "вторжением в ночные часы". Появление освещения на центральных улицах города увеличило посещаемость публичных досуговых заведений. Неслучайно в рекламных объявлениях владельцы увеселительных заведений подчеркивали факт наличия освещения.
Еще при Екатерине II была создана управа благочиния (работала с 1782 по 1881 г.) - новая городская полиция, которая должна была заботиться об освещении улиц. По положению 1823 г., фонари следовало зажигать между 19 и 23 часами с сентября по апрель. В Москве и Петербурге постепенно увеличивалось количество фонарей, работавших на конопляном масле. Масло и прочие осветительные материалы полиция получала под расписку. В 1849 г. появились спиртовые фонари. С 1865 г. для освещения начали использовать керосин. С 1839 г. по 1880-е гг. в основном в центральных частях столиц старые городские фонари частично заменили на газовые, более яркие, горевшие холодным, зеленовато-белым светом. А на окраинах по-прежнему оставались масляные и керосиновые фонари, свет от которых был более теплым, красновато-желтым.

Литейный мост в Санкт-Петербурге, освещенный электрическими фонарями. 1879.
С 1879 г. после первых опытов электротехника П.Н. Яблочкова с освещением Дворцового моста в Петербурге и Благородного собрания и Театральной пл. в Москве в города постепенно пришло электричество. Правда, разные части города освещались неравномерно, многие районы оставались погруженными во тьму. Писатель С.Ф. Светлов в 1892 г. писал об освещении Петербурга: "На бульварах по вечерам темно, слабо доходит свет фонарей, расположенных около тротуаров". В парках тоже было темно, а темнота ассоциировалась с опасностью. Светлов говорил о том, что в темное время случаются грабежи, а "гуляя по бульвару и парку, можно натолкнуться на сцены не совсем приличные". В Москве улицы электрифицировались еще медленнее. В 1904 г. даже Тверская местами была погружена во мрак.

Фонари на Красной площади. Гравюра конца XVIII в.
Со временем ситуация стала меняться. Особенно в парках и садах, где устраивались гуляния и представления для увеселения публики. Они создавали разительный контраст темным улицам города, полным реальных и мнимых опасностей. Еще до распространения электричества, антрепренеры, начиная с "пионеров" садовой антрепризы, много заботились об освещении садов. В середине XIX в. Московский сад "Эрмитаж" Мореля на Божедомке и "Эльдорадо" Педотти в Сущевской части "конкурировали в устройстве грандиозных гуляний с фейерверками и иллюминацией". С распространением газового, а затем и электрического освещения время работы садов заметно увеличилось - некоторые сады закрывались на рассвете, когда уезжал последний посетитель. В 1880 г. электрическое освещение появилось в московском Зоологическом саду. В 1889 г. "в изобилии осветился электрическим светом" Сокольнический круг. В Петербурге в 1886 г. А.Лейферт в Крестовском саду "ввел то, чего не хватает во многих загородных увеселительных садах - освещение. Ночью светло, словно днем". Судя по выдаваемым разрешениям на электрическое освещение, большинство садов в обеих столицах электрифицировали в конце 1890-х гг.

Крестовский сад. "Петербургский дневник театрала". 1904.
Про петербургский "Аквариум" писали, что "иллюминация сада и фейерверки удались как нельзя лучше" и что сад, "фантастически освещенный массою разноцветных электрических лампочек, доставляет немалое удовольствие погулять и подышать свежим воздухом под звуки оригинального румынского оркестра г-на Саввы Падуриано". Московский "Эрмитаж" "блестяще иллюминирован", в саду "почти феерическое освещение от своей электростанции". Авторы, воспевавшие свет и преувеличивавшие количество огней, порой вызывали иронию коллег. "Театр и искусство" писал о бенефисе директоров петербургской "Зоологии" Баумвальда и Гольца: "поставлена феерия, сожжен бриллиантовый фейерверк, гармонизирующий с полной иллюминацией сада в 5000 огней. Непонятно, почему распорядители ограничились цифрой в 5000; с одинаковым правом можно было назвать и 500 000, афиша все бы вынесла".

Сад Буфф. 1904 .
Иллюминация увеселительных садов была сама по себе источником развлечений и ярких впечатлений. Один из главных устроителей "разумных развлечений" Петербурга А.Я. Алексеев-Яковлев увлекался фигурной иллюминацией. Он активно украшал световыми гирляндами "подопечные" ему сады, например, сад Народного дома Николая II, привлекая этим публику. Освещение "Эрмитажа" Лентовского произвело яркое впечатление на К.С. Станиславского, написавшего об этом в воспоминаниях: "Весь сад залит десятками, а может быть, и сотнями тысяч огней, рефлекторов, щитов и иллюминационных шкаликов". Известный шансонье А.З. Серполетти вспоминал про сад "Альгамбра", работавший в 1883-1886 гг. в Петровском парке: "Площадь освещалась фонарем системы Яблочкова, дававшим максимум 1000 свечей, что для Белокаменной было зрелищем удивительным".

Б.Фарамонд. Фейерверк.
Наряду с иллюминацией популярным "световым" развлечением были "фейерверки". Обычно их запускали по воскресеньям и праздникам, и во время бенефисов в качестве "апофеоза" - заключительного аккорда садовых гуляний. Художник А.Бенуа описывал, как в детстве, в конце 1870-х гг., ждал фейерверка в саду "Тиволи" при пивоваренном заводе "Новая Бавария": "Мы с противоположного берега пруда целых два часа ждали, как взорвется то сколоченное и выпиленное из досок чудище, что стояло на воде и должно было изображать турецкое военное судно, но, в конце концов, было объявлено, что фейерверк отсырел и отложен". Фейерверки были частой причиной возгораний, поэтому перед предполагаемым фейерверком антрепренеры должны были известить брандмайора, пожарная команда в случае чего была наготове. Чины полиции наблюдали за тем, чтобы во время фейерверков "в саду не сжигали фугасов, бураков, ракет, брандскугелей, марсова огня и всего того, что может причинить шум и беспокойство обывателям". Если в садах было слишком много деревянных строений или деревянные строения были на соседних участках, местная администрация могла запретить фейерверки.

Н.Маковский. Иллюминация в Кремле. 1883.
Люди быстро привыкали к хорошему. Нехватка света в увеселительном саду нередко порождала чувство дискомфорта и нарекания у посетителей и служащих сада. А.З. Серполетти вспоминал про сад "Эсперанс" на Сокольническом кругу: "Тускло освещенный высокими столбами, на которых возгорали керосиновые лампы, издававшие вонь и наделявшие посетителей копотью - сад производил, скорее, впечатление мрачное, чем веселое". В 1882 г. корреспондент "Петербургского листка" сетовал, что на платные гуляньях в Летнем саду со входом 20 коп. нет освещения. Это омрачало поход в сад: "Удовольствие гулять по совершенно неосвещенным аллеям. Освещен только ресторан Балашова. Спрашивается, что означают широковещательные разноцветные афиши по всему городу?. "Эрмитаж" Лентовского "довольно просторен, но хорошо освещена одна средняя площадка, поэтому все бегут на огонек, теснятся и пылят на одном месте, забывая о прохладных и уютных боковых аллеях и площадках. Необходимо их побольше осветить, и тогда в саду окажется попросторнее: темные аллеи не для всех удобны, поэтому мало кто туда заглядывает. Света больше, света!" - писал журнал "Будильник" в 1889 г.

"Московский листок". 1910. N 102. стр.. 4.
Корреспондент "Петербургского листка" в 1893 г. с неудовольствием отмечал, что в "Аквариуме" темновато". В 1895 г. в саду "Монплезир" на Каменноостровском проспекте темно, и официанты опасались, что публика может воспользоваться темнотой и улизнуть не заплатив. Недостающие суммы вычли бы из жалования официантов .В ходе осмотров представители городского управления из соображений безопасности проверяли надежность электричества и возможность зажигать все лампы одновременно. На случай перебоев с электричеством в садах должны были иметься запасные источники света - фонари "со свечами и лампами с тяжелым минеральным маслом или красным пиронафтом". После установки оборудования специалисты из управы проводили в саду "осмотр под напряжением рабочего тока". С появлением освещения на улицах и в досуговых заведениях люди из низших социальных групп периодически - в праздники и выходные дни - могли приобщиться к образу жизни состоятельного "праздного" класса, "веселящихся" Петербурга и Москвы.
Чем дальше технический прогресс шел вперед, тем больше темного времени суток "колонизировали" увеселительные сады, до полуночи, продлевая время досуга посетителей. Внезапные контрасты света и темноты, знакомого и незнакомого, радости и опасности, свет фонарей вместо дневного были источником удовольствия. Сверкающие лампочки и огни, фейерверки и контрастные им темные аллеи - все это представляло собой разнообразные "световые" развлечения неискушенных горожан. До повсеместного появления "лампочки Ильича" оставалось еще 2-3 десятилетия.
Светлана Рябова, кандидат исторических наук
01.12. 2020. журнал "Родина"
https://rg.ru/2021....ri.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 15 Мар 2022, 13:50 | Сообщение # 10 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | ТРЕЗВЫЙ ПОВАР ИЛИ ОДИНОКАЯ КУХАРКА
Как можно было получить место повара в России 150 лет тому назад?
"Нужен повар, трезового поведения, без личной рекомендации прошу не являться". "Нужна кухарка, умеющая готовить, требуется одинокая, знающая свое дело".
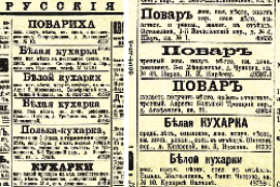
Объявления из газеты "Русские ведомости". 5 апреля 1909 г.
Такие объявления можно было встретить в соответствующих рубриках популярных газет, например, в "Петербургском листке". Так как можно было получить место повара в России 150 лет тому назад?
После отмены в 1861 г. крепостного права в России повар - профессия чрезвычайно востребованная, сулящая 25–28 руб. месячного жалованья в месяц. А хорошая кухарка, обученная основным принципам приготовления блюд европейской кухни (так называемая "кухарка за повара"), может претендовать на 15 руб., что превышает зарплату горничных.

Даже небогатый горожанин, обзаведясь семьей, перестает питаться в кухмистерских и старается нанять какую-никакую кухарку и горничную в одном лице. В газетных объявлениях такое требование обозначалось так: "одною прислугою". Обычно на эту должность брались девушки, только что прибывшие из деревни и в лучшем случае владевшие ухватами да русской печью. С такими "деревенскими дурами" молодая хозяйка была вынуждена сама несколько месяцев стоять у плиты, вооружившись каким-нибудь кулинарным сборником, например "Подарком молодым хозяйкам" Е.Молоховец. Все сопутствующие такой ситуации страдания молодой семьи искупала лишь небольшая плата служанке - около 7 руб. в месяц.
Большое количество подобных объявлений в газетах того времени свидетельствует о том, что спрос на умеющих готовить (даже "как-то умеющих готовить") сильно превышал предложение. И отсутствие конкуренции, конечно же, вело к злоупотреблениям. Неслучайно работодатели требовали "трезового поведения". В рассказе-фельетоне "Прислуга из конторы" Н.Лейкина приведен такой диалог супругов во время собеседования с прислугой:"
- Да ведь повара-то все больше нетрезвого поведения. Помнишь, как мы в прошлом году бились с поваром? У нас гости, а повар пьян.- Ну не все же они таковы. Есть же между ними и не пьяницы.
- Зови, Даша, сюда повара трезвого поведения, - отдал Глянцев приказ горничной.
- И, барин, от этого-то как сейчас водкой, так из кабака несет".
За 100 лет до того, как Лейкин написал свой рассказ, член Вольного экономического общества и автор первых кулинарных книг С. Друковцев сетует на тот же порок, связывая его с небрежным выбором поваров из дворовых: "Ни наблюдение хозяйское за поварнею и никакоя оной чистота не довольны к приуготовлению вкусного и порядочного стола, если повар не имеет той способности и тех качеств, кои искусного повара составляют. Обыкновенно выбирают к сей первейшей и нужнейшей в доме должности таких людей, которые почти ни в какую другую не годяться и нередко самых худых и пьяных, кои ни склонности к поваренным наукам не имеют, ни кислого с соленым не разделяют".
Так какими навыками и способностями должны были обладать повар или кухарка? Прежде всего умением закупать продукты. Общие "мелочные лавки" и специализированные мясные, молочные и прочие лавки распределены по городу, а на улицах можно встретить множество разносчиков на тот случай, если купить что-то надо сразу. Наконец, каждый из городских районов имеет свой рынок. Если говорить о Петербурге, то громадное торговое пространство тянулось тогда вдоль Садовой ул.: оно начиналось у Никольских рядов, продолжалось Сенным рынком, Апраксиным и Щукиным дворами и заканчивалось парадным Гостиным двором, выходящим на Невский проспект. Оглядевшись, как и чем идет торговля, следовало вооружиться каким-нибудь популярным кулинарным наставлением для выбора необходимых припасов. Большинство кулинарных книг, включая знаменитую Молоховец, это путеводитель в мире дореволюционной торговли. Современный человек, привыкший к супермаркетам, доставкам и этикеткам со сроком годности, вряд ли способен представить, какой внимательностью, хитростью и какими коммуникативными навыками должны были обладать хозяйка или повар, отправляющиеся на рынок.
Обман мог подстерегать на каждом шагу. "До чего изощрились подгородные чухны в подделке сливок, видно из следующего примера: один чухонец поставлял какому-то генералу сливки в продолжение 3-х лет, и генерал не мог достаточно нахвалиться его добросовестностью после ряда домашних испытаний. Когда в Петербурге открылись аналитические станции, генерал отвез на одну из них бутылку хваленых сливок, и оказалось, что на 100 частей в них было настоящих сливок всего 5" - такой анекдот приводит Е.Авдеева - популярный кулинарный автор XIX в. Вообще, по ее словам, молоко и "молочные скопы" подделывать легче всего: молоко разбавляют водой, добавляют муку или гипс для густоты, в масло примешивают сало и морковный сок. Опытная хозяйка должна знать способы распознать обман: "таких смышленых хозяек продавцы не надувают, оставляя арсенал своих фортелей и фокусов для хозяек менее сведущих".
Главными способами распознать обман были развитое обоняние, зрение и осязание. Свежесть продуктов определяли по запаху, не стесняясь брать и нюхать прямо с прилавков. Особенно это было важно при выборе мяса и рыбы, которой тогда было не в пример больше, чем сейчас, так что найти свежую было несложно. С говядиной следовало быть очень внимательным, это основное мясо для готовки, поэтому закупают его в больших объемах.
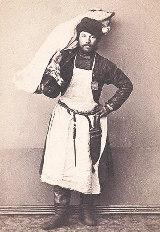
А мясники могут заболтать покупателя и, рассекая тушу, норовят положить куски с костью, увеличивая вес. Что же до залежавшихся кусков, то их подкрашивали свежей кровью для лучшего товарного вида. Один из распространенных видов мошенничества - надувание туш. Лучше всего этот метод работал с поросятами и птицей, но надувать могли и телят. Все эти подробные инструкции писались в первую очередь для хозяек, поскольку именно они должны сопровождать прислугу (и даже нерадивого повара) во избежание воровства и необдуманных трат. А покупка колониальных и импортных товаров - чая, кофе, шоколада, сладостей и вин - редко доверялась слугам. Обычно их закупала и хранила под замком сама хозяйка.
Мелкое воровство прислуга не считала грехом, напротив, оно воспринималось как некая норма, была чем-то сродни чаевым. И это превращало в холодную войну отношения хозяина и повара. Обязывая повара закупать "по книжке", то есть по распискам, без наличных, хозяева могли спровоцировать его на неприкрытое хамство или на увольнение. Увы, хамство и мелкое воровство со стороны пореформенной прислуги почти не каралось полицией. Все, что мог позволить себе хозяин, - это уволить работника.
Чтобы уяснить принципы работы повара XIX в., надо понять его главный инструмент - плиту. Плиты почти повсеместно заменили старомодные большие очаги. Работая с таким очагом, повар должен был постоянно выгребать угли из большого пламени, над которым висели кастрюли с бульонами или рагу. А для приготовления соусов и миниатюрных блюд приходилось ставить поверх углей специальные треноги и решетки. Без этих больших очагов кухня уже напоминает современную. Под вытяжным колпаком - аккуратная керамическая плита, покрытая сверху металлическим листом - такой способ, без разделения на конфорки, считался более удобным. В печь или за нее встроен бак для подогрева воды. На некоторых кухнях еще сохранялись русские печи, иногда их выкладывали специально - для приготовления блюд русской кухни. Однако вернемся к новомодной плите, в которую встроен духовой шкаф для выпечки и приготовления жаркого. В последнем случае духовой шкаф заменяет огромный старинный вертел. Отныне он стал миниатюрным и превратился в особую насадку для плиты. В некоторых домах вы уже встретите металлические и чугунные плиты последней модели, а в конце XIX в. распространение получают газовые плиты.

Реклама кухонных плит в журнале "Нива". № 15 за 1902 г.
"Эта печь очень экономна, так как не требует много газа, тепло ее легко регулируется, что дает возможность жарить медленнее и скорее", - восхищается современник. Приготовление на газу имело и еще одно преимущество: пищу не надо было защищать от запаха дыма. Вкус блюд "с дымком" начал цениться лишь в нашу эпоху газовых и электроплит, а в то время он был признаком работы нерадивого повара. Набор посуды: кастрюли, сковородки, сотейники. Необычным показалось бы многообразие фигурных форм для желе, заливных и кексов, а также разъемные "паштетные" формы и фигурные резцы для придания овощам необычного вида. На хорошей кухне посуда в основном медная. Стальная и эмалированная посуда тоже входит в обиход, однако справедливо считается куда менее подходящей для хорошей кухни. Медь прекрасно проводит тепло, поэтому блюда не пригорают по центру, а бульоны и соусы прогреваются равномерно. Но медная посуда столетней давности требует постоянной полудки, то есть покрытия внутренней поверхности особым слоем олова во избежание опасного окисления меди. Полудку необходимо проводить раз в 1,5-2 мес. Следить за качеством луженой поверхности - обязанность повара, а по умению работать с медной посудой сразу определяют человека с опытом. Признак деревенских кухарок - отношение к меди как к керамической посуде. Медная посуда не должна перегреваться, а неопытная кухарка вполне может сжечь кастрюлю на открытом огне или в поду печи, уничтожив тонкий оловянный слой.
Еще один признак неумелого повара или неопытной кухарки - это расход дров. В России, в отличие от Европы, могли позволить себе готовить на дровах, однако они составляли заметную статью расходов, поэтому распределять их необходимо было правильно. Следовало использовать дрова и угли для одновременного приготовления как можно большего количества блюд. Именно поэтому не следовало разжигать печь для приготовления первого завтрака: для утреннего розжига самовара рекомендовали воспользоваться каменным углем, а кофе можно было сварить на спиртовке или бензиновой горелке. По этой же причине для приготовления второго завтрака (около 12 час. дня) рекомендовалось использовать вчерашние кушанья, которые необходимо лишь разогреть, а основной расход дров пустить на приготовление обеда.
В Петербурге обед поздний, не ранее 5 час. вечера, иногда и гораздо позже. Присмотримся к арсеналу кухонной техники XIX в. Нам бы пришлось очень нелегко без современного оборудования. Самая главная проблема - холодильник. Ведь ледники есть далеко не в каждом доме, так что приобретенный "по случаю" лед помещают в миниатюрные металлические шкафы, а зимой холодильником служат специальные камеры, прикрепленные за окнами.

Ледник (погреб). Начало ХХ в.
Покупной лед необходим, если вы работаете у более или менее состоятельных хозяев: на льду надо взбивать некоторые виды соусов, как, например, провансаль из взбитого ланспика (мясного желе), готовить крем, кнели, а также мороженое. Современную кухню трудно представить без миксеров, блендеров и всякого рода измельчителей. А в XIX в. в распоряжении повара имелись лишь венчик, мутовка и сито, как металлическое, так и волосяное - для получения кремообразных консистенций. Для столь популярных в то время перетертых супов, кнельного фарша и красивой консистенции блюд продукты необходимо перетереть в ступке, а потом в сите с помощью деревянного пестика или лопатки. Работа эта не из легких. Для очищения разнообразных жидкостей повару требовались кисея и шелковые салфетки: для удобства сцеживания их привязывали к ножкам перевернутых табуреток.
Случалось, хозяева старались идти в ногу со временем и приобретали для кухни всякие технические новинки того времени. Сегодня эти "инструменты" уже забыты и напоминают о них только рекламные объявления в газетах позапрошлого века. Например, насадка для варки яиц прямо в самоваре или машинка для вскрытия устриц. И не нужно удивляться популярности устричных машин в Петербурге: устрицы - любимое лакомство состоятельных горожан. Если в доме нет дворецкого, то на повара ложится необходимость обсуждения меню с хозяином или хозяйкой. Это делается с вечера. На помощь повару приходят списки меню на весь год, которые обычно публикуются в кулинарных сборниках и альманахах. Сейчас, в век глобализации и развития пищевой индустрии, меню не зависит от времени года. А в то время сезонность диктовала выбор блюд в меню, так что разнообразность последнего превращалась в непростую задачу. Усложняла ее и необходимость учитывать многочисленные постные дни.

худ. А.Попов. Утро на кухне (Кухарка). 2-я половина XIX в.
Главная проблема сезонного меню - свежие овощи. Благодаря оранжереям и заморской торговле в Петербурге круглый год можно найти почти любые продукты, однако цены на них не в сезон могут достигать астрономических цифр. Ранней весной из овощей доступны репа да морковь, их можно приготовить в сливках. К маю появляются свежие салаты и спаржа, дешевеют рыба и цыплята. Из весенних цыплят гурманы ценят нежных "майских пулярдочек", но их сезон крайне скоротечный. К лету появляется хорошая стерлядь и осетры, причем хозяйки предпочитают двинских осетров, волжская же стерлядь у петербуржцев считается "самой неважной". Дешевеют зелень и фрукты, а вот любимая горожанами дичь, прежде всего рябчики, появится лишь ближе к осени. Это время дичи и забоя скота. К Рождеству и Пасхе в город массово завозятся молочные поросята и молочная телятина. Вместо летних овощных гарниров в осеннее и зимнее меню включают рис и макароны, а также капусту. В этот сезон разнообразная выпечка способна выручить повара в попытках разнообразить стол.
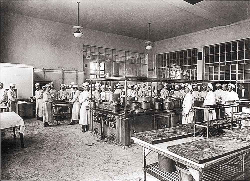
Москва. Ресторан "Яр". Кухня, повара
"Гастроном одновременно трусоват и осторожен, избирателен и робок, это трусоватый исследователь" - так характеризует гурманов прошлого французский историк Жан-Франсуа Ревель. Действительно, хотя на кухне и совершаются непрерывные открытия, любой кулинарный сборник на протяжении последних двухсот лет содержит множество кочующих из века в век рецептов и редко включает блюда неевропейских народов. Нашего современника, способного сочетать за одним столом блюда мексиканской, итальянской, русской и таиландской кухни, удивили бы не "мультикультурные" сборники рецептов почти всех европейских книг. Даже турецкая и азиатская кухня ограничена в них почти одним только "пилавом". А экзотика представлена лишь "карри" - блюдом, столь любимым британской королевой Викторией. Писатель и гурман И.Гончаров, описывая большой обед, устроенный японскими чиновниками для команды фрегата "Паллада", фиксирует весь процесс обеда с этнографической точностью, но не догадывается увезти с собой редкий рецепт или новую технику приготовления блюд. Не секрет, что в XVIII–XIX вв. вся европейская кухня находилась под сильным французским влиянием. Конечно, при словах "французская кухня" мы прежде всего представляем усатого волшебника-повара в пышном белом колпаке, который творит на кухнях дворцов и дорогих ресторанов гастрономические чудеса. Однако мировую славу французской кухне принесли не столько прославленные шефы, сколько очень рациональная и удобная система работы, особенно подходящая при обслуживании больших банкетов и застолий.
Еще в XVII в. для удобства работы первая плеяда французских поваров разрабатывает систему кулинарных модулей - базовых заготовок, комбинируя которые можно добиться бесконечного разнообразия. Этой базой стал бульон, льезон (то есть любой загуститель), мясной сок или желе, пережаренная на сливочном масле мука и букет трав. Базовые заготовки зачастую служат для раскрытия вкуса основного продукта - это стало важным кулинарным открытием своего времени. Именно поэтому повар, выстраивая меню, отталкивается не столько от рецепта, сколько от тех основных продуктов, которые ему удалось достать. Потому так важна для авторов прошлого свежесть мяса, рыбы и некоторых овощей, например таких, как спаржа. Базовые рецепты часто не предполагали "маскировки" за счет сложных техник и многочисленных приправ: хорошо изжаренные говядина или пулярка, приготовленная на пару рыба вполне могли составить основу обеда, если к ним подобрать нужный соус. Такими "простыми" блюдами не пренебрегает и аристократическая кухня, "потому что в поваренном искусстве все зависит от качества припасов и приготовления, простое превращается приготовлением в изящное", - пишет метрдотель герцога Лейхтенбергского И.Радецкий.
Приготовление соуса составляет основной талант начинающего повара наряду с умением правильно обжарить мясо и не переварить рыбу. "Каждый соус требует постоянного помешивания и подправки, чего в русской печи делать нельзя, а потому соус может выйти такой, что и хорошую провизию сделает никуда не годной", - советует одна из гастрономических инструкций. Хотя соусов великое множество, база большинства из них одна и та же: пережаренная на сливочном масле мука (так называемые белая и красная подпалка), бульон, вино или уксус - любовь к кислому вкусу характеризует старую кухню. К этой основе добавляются ароматические ингредиенты: лук-шалот, трюфеля, ветчина, лимонная цедра, мадера, шампиньоны, каперсы и пр. Иногда для приготовления соуса вполне достаточно загустить мукой и разбавить бульоном тот сок, что выделяется при жарке или тушении мяса. Главное в таком соусе - не готовить его заранее и подавать теплым, чтобы ароматы не успели выветриться. В роли льезона помимо жареной муки часто выступают и загущенные желтки и сливки. В таких случаях соус необходимо взбивать на водяной бане. Желтки, сбитые с прованским маслом и уксусом на льду, составляют соус "провансаль" - основу закуски "майонез", закуски "оливье" и прочих холодных закусок перед обедом.
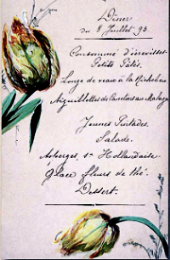
Меню обеда в доме Юсуповых. Москва. 8 июля 1893 г.. Худ. - веля княгиня Елизавета Федоровна
О том, как создавать блюда на французский манер, пользуясь комбинациями готовых моделей из бульонов и соусов, рассказывают записные книжки Н.Хвостова - повара Ф.Шаляпина. Он радовал великого русского певца сотнями разнообразных блюд с вычурными французскими названиями, за которыми часто скрываются почти идентичные комбинации. Например, для яиц "Дантен" необходимы яйца пашот, соус "сюпрем", томаты и крутоны. Для яиц "Тонбельян" томаты нужно заменить на обжаренные белые грибы, а крутоны - на тарталетку. Консоме "Кресси" требует плотного бульона и кнелей (клецки из нежного перетертого и взбитого фарша) с добавлением морковного пюре, а если в кнели мы добавим пюре из шпината, то консоме уже назовется "Флорентин". Такая система заготовок очень подходила и для ресторанного дела. Не зря Н.Хвостов прошел хорошую школу в знаменитом французском ресторане "Кюба".
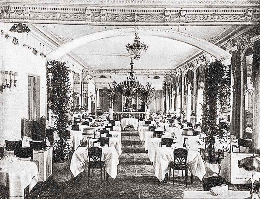
Французский ресторан "Кюба" на углу Морской и Кирпичного пер. в Петрограде
Но не одной французской кухней будет сыт старорежимный петербуржец. Русская кухня продолжает составлять основу меню почти всех сословий. В представлении тех лет русская кухня - это прежде всего русские продукты и специалитеты, поэтому и осетрина в шампанском, и рябчики под соусом - блюда русской кухни. Из характерных национальных блюд чаще всего готовят супы и пироги. На щи и борщи идет все тот же заранее заготовленный крепкий французский бульон.

Рыбный отдел гастронома "О’Гурмэ" братьев Рогушиных в Санкт-Петербурге. 1900-е годы
С рыбными супами сложнее: для хорошей наваристой ухи требуется бульон из ершей, непривычный для современных поваров. Кстати, в то время бульоны было принято осветлять до прозрачности; тут не поможет одна лишь привязанная к перевернутой табуретке салфетка: процесс осветления требует яичных белков и сырого фарша (или икры) для "оттягивания мути" на последнем этапе варки бульона. Что же касается пирогов, то рецепты многих из них не слишком изменились за прошедшие годы. Однако повару XIX в. нужно было обладать умением работать с духовым шкафом на дровах. Хотя, конечно, для пирогов лучше всего подойдет русская печь, часто встречавшаяся в Петербурге позапрошлого столетия. О том, как правильно определить нагрев печи, сохранилось множество инструкций. Вот одна из них, принадлежащая перу англичанки миссис Блэк:
"1. Если лист бумаги, брошенный в печь, сгорает, значит, печь раскалена.2. Если бумага приобретает темно-коричневый цвет, значит, в печи можно выпекать сдобу.3. Если бумага становится светло-коричневой, можно печь пироги.4. Если бумага темно-желтая, можно печь кексы.5. Если бумага светло-желтая, можно готовить пудинги и печенье".Как видно из всего вышесказанного, старинная кухня была трудоемкой и утомительной. Она требовала немалого времени для приготовления заготовок и качественного исполнения блюд, поэтому никак не могла превратиться в хобби, в занятие массовое и любительское. Однако жаль, что вернуть ее на повседневный стол XXI в. уже вряд ли удастся.
Даниил Ведерников
06.03. 2022 г., журнал "Русский мир"
https://rusmir.media/2022/03/06/povar
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 10 Ноя 2022, 16:56 | Сообщение # 11 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | КУЛЕБЯКА У ДОМИНИКА
В мае 2021 г. исполнилось 180 лет первому в России кафе-ресторану "Доминик".

В апреле 1840 г. швейцарский кондитер из Давоса Доминик Риц-а-Порта, принадлежавший к известной во всей Европе плеяде швейцарских кондитеров. ходатайствовал о дозволении учредить новый вид трактирного заведения - кафе-ресторан. Заведений подобного рода в империи прежде не существовало, поэтому для открытия кафе в доме лютеранской церкви Петра и Павла на Невском проспекте потребовался специальный закон, подписанный Николаем I. В мае следующего года Сенат ходатайство удовлетворил. И на Невском, 24, открылось первое в России кафе.

В заведении можно было выпить кофе и съесть десерт как в кондитерской и сытно пообедать как в ресторане. Деловой и предприимчивый, несмотря на юный возраст, Доминик назвал заведение в честь себя - и не прогадал. Кафе ожидал феерический успех, оно пережило большинство "заведений трактирного промысла" и просуществовало без малого 80 лет. Риц-а-Порта задумывал свое заведение "для удовольствия публики, высшего класса". На деле же основными посетителями кафе стали небогатые чиновники, студенты, литераторы, которые забегали на чашку кофе с бисквитом и кружку пива с кулебякой. Частыми обитателями были также "люди с Невского": картежники, мошенники и шулеры.

Особой роскошью интерьер заведения не отличался. Справа от входа была буфетная с 6-ю окнами на проспект. На треугольной стойке с большой мраморной доской возвышалась медная водяная баня "для согревания кулебяк, пирожков и до 15 разнообразных блюд" и ледник для холодных закусок. У другой стены находилась ванна, где постоянно охлаждались 2 бочонка с пивом. Посетителей буфетной кормили за одним большим и 7-ю маленькими столиками. Горел камин. Подвальный этаж был отведен для кулинарной и холодной кухонь, пирожного и кондитерского отделений, прачечной и комнаты для прислуги. Штат кафе составлял 40 чел. Официантами служили исключительно татары. Они, кстати, вместе с выходцами из Ярославской губернии, составляли в те годы подавляющее большинство обслуживающего персонала петербургских трактиров и ресторанов. Газеты писали, что у "Доминика" всегда было многолюдно, шумно, душно и накурено. О проблемах с вентиляцией рассказывал и санитарный врач Казанской части, в которой находилось кафе: "Несмотря на 4 камина и 7 вентиляторов, обмен воздуха недостаточен, дым от куренья и пар от кушанья не успевает уноситься.".
Изначально в меню были только горячие блюда, "потребные для легких закусок", - пирожки, расстегаи, кулебяки. Но со временем появились щи, каша, студень, заливное, птица жареная и даже бараний бок. Ассортимент сладких блюд и прохладительных напитков не уступал кофейным домам. Дозволялось иметь все выходящие в свет как российские, так и иностранные газеты, бильярд, домино, шахматы, шашки, а также прислугу в немецком платье. Цены в "Доминике" были умеренными (на 60 коп. можно было выпить рюмку крепкого, чашку кофе и заесть всё фирменным расстегаем), а кухня славилась на весь город. Так что от посетителей не было отбоя. В день бывало по полторы тысячи гостей. Завсегдатаев кафе называли "доминиканцами". В кафе можно было провести целый день: выпивать, закусывать, читать свежие газеты, играть на бильярде, в шахматы и домино.

"Доминик" славился шахматными и шашечными турнирами. Здесь начинали свою карьеру будущий чемпион мира А.Алехин и чемпион России М.Чигорин. Последний писал: "Игрок здесь должен обладать крепкими нервами и крепкой головой. Душная дымная атмосфера, шум игроков других профессий". Прокат шахмат составлял 20 коп. Играли на деньги и многие люди зарабатывали игрой в шахматы. Или проигрывали все до нитки. М.Чигорин - человек нелёгкой судьбы: еще в детстве потерял родителей и воспитывался в Гатчинском институте сирот, где и научился игре в шахматы. Учился плохо, был бунтарём и даже не окончил институт. Но ему повезло и он стал работать писарем в управлении полиции с окладом в 50 р - это тогда было много. Устроился он как раз аккуратненько в период максимального расцвета кафе и обыгрывал там всех, становясь местной легендой.
Друг Достоевского врач А.Ризенкампф вспоминал, как в феврале 1844 г. Федор Михайлович зашел поужинать в "Доминик": "Он с любопытством стал наблюдать за биллиардной игрой. Тут подобрался к нему какой-то господин, обративший его внимание на одного из участвующих в игре - ловкого шулера, которым была подкуплена вся прислуга в ресторане. «Вот, - продолжал незнакомец, - домино так совершенно невинная, честная игра». Кончилось тем, что Федор Михайлович тут же захотел выучиться новой игре, но за урок пришлось заплатить дорого: на это понадобилось целых 25 партий, и последняя сторублевая Федора Михайловича перешла в карман партнера-учителя".
А.П. Чехов здесь на деньги не играл, а предпочитал заморить червячка в приятной компании. Он с упоением описывал брату Михаилу очередной визит: " Из лодки мы отправились к Доминику, где за 60 коп. скушали по расстегаю, выпили по рюмке и по чашке кофе…"
М.Салтыков-Щедрин был истинным "доминиканцем" и частенько упоминал кафе в своих сочинениях. В сатирическом романе "Современная идиллия" заведение представлено так: "в дверях вечно толпились какие-то порыжелые личности. Народу пропасть, ходят, бродят, один вышел, другой вошел".
 
Атмосферу знаменитого кафе точно передал В.Маковский на полотне "У Доминика" (1910) и И.Репин на одноименном рисунке ("У Доминика", 1887).
После смерти Доминика ресторан унаследовал его старший сын Шарль, невероятно энергичный человек. Благодаря его деловой хватке к рубежу веков "Доминик" занимал помещения уже в 2-х соседних домах. В 1907 г. Шарль основал акционерное общество и ресторан просуществовал еще 10 лет. Закрыться заведение заставила только революция.

Былая слава вернулась сюда в 1960-е, когда в стенах легендарного ресторана открылось кафе-мороженое. С легкой руки посетителей оно получило прозвище "Лягушатник" - за болотно-зеленого цвета плюшевые диваны, темно-зеленые шторы и расписанные кувшинками стены.

Днем "Лягушатник" заполняли студенты, вечером - более взрослые компании. Здесь стояли сифоны с лимонадом, а мороженое с разными вкусами подавали в металлических креманках. Говорят, за мороженым в "Лягушатник" приходил лидер группы "Кино" В.Цой и выбирал обычно ассорти (шоколадное, крем-брюле, черносмородиновое и ореховое) с вареньем и тертым шоколадом, а запивал кофе-гляссе. "Лягушатник" просуществовал до 1990 г. И за это время, пожалуй, не было петербуржца, который там не побывал. В начале 2000-х на месте "Доминика" и "Лягушатника" открылось первое в городе интернет-кафе с философским названием "Quo vadis" (лат. "Куда идешь"). Но просуществовало недолго. Интернет быстро стал общедоступным, и заведение потеряло актуальность.
https://rg.ru/2021....fe.html
https://antennadaily.ru/2020/01/07/dominique/
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 25 Окт 2023, 14:06 | Сообщение # 12 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | ГДЕ, КАК И ЧЕМ ЛЕЧИЛИСЬ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ В XIX ВЕКЕ
Жизнь граждан в XIX в. сплошь и рядом сопровождалась различными опасными ситуациями: войны, разбойные нападения, частые среди деревянных построек пожары, регулярно случались эпидемии холеры, оспы, тифа. Они были вызваны плохими сан. условиями, скученностью проживания, незнанием элементарных правил гигиены. За короткое время эпидемии уносили множество жизней. Не зря у них было второе название - "моровое время", время торжествующей смерти! Не могли миновать общей участи и семьи купцов.
Купцы по роду занятий были вынуждены много путешествовать, а это повышало риск заболеть. К примеру, известный меховой торговец П.П. Сорокоумовский, "перебирая у себя в лавке на Нижегородской ярмарке меха, заразился сибирской язвой и умер". Впрочем, отсутствие эпидемий и путешествий не гарантировало безопасности. Самые обыкновенные, с точки зрения сегодняшнего дня, болезни могли стоить человеку жизни. Этому способствовало не только отсутствие вакцин или лекарств, но и своеобразные представления о медицине. Особой оригинальностью отличалось как раз купечество. С одной стороны, оно обладало деньгами, а с другой - до поры до времени было довольно невежественным в вопросах здоровья. Купчихи рожали много, но далеко не все дети выживали. Так, из 18-ти детей московского кожевенного и суконного фабриканта, крупного благотворителя П.А. Бахрушина 9 умерли очень рано. Младенческая смертность была крайне высока даже в 1880-х гг. Одни умирали сразу после рождения, другие доживали лишь до 2-х-3-х лет. Да и сами женщины нередко отдавали Богу душу, не сумев оправиться от родильной горячки.
По купеческому обычаю еще в середине XIX в. дети зимой сидели взаперти в душных, жарко натопленных комнатах. Их берегли от простуды и сквозняков. Благодаря такой "заботе", многие росли хилыми и болезненными. Действенным способом укрепить здоровье детей считался рыбий жир. Универсальным лекарством от простудных болезней являлось касторовое масло. И касторку, и рыбий жир дети терпеть не могли. Потомственный торговец тканями, крупный коллекционер, основатель богатейшего Музея Российских древностей П.И. Щукин писал: "С отвращением принимали мы касторовое масло, которое заедали малиновым вареньем; касторового масла в капсулах тогда еще не знали. Не менее противным был рыбий жир, которым находили нужным нас пичкать и который мы запивали мятой". При простуде пили горячий настой ромашки, мяты или липового цвета. От кашля лечили при помощи сладких лекарств, которые дети любили. Это были "девья кожа" - пастила из корня просвирняка - и "ячменный сахар", то есть карамель, образовавшаяся при варке сахара с небольшим количеством воды
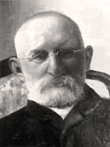
Купец, геолог-любитель, создатель частной геологической коллекции Н.П. Вишняков вспоминал, как лечили при высокой температуре: "Когда у меня был жар, мне привязывали на ночь к подошвам по селедке - селедки должны были жар вынимать. Градусника тогда не знали, а определяли болезнь по осмотру языка и ощупыванию пульса и головы". Когда болезнь отпускала, взрослые брали детей попариться в баньку, чтобы "смыть болезнь".
Взрослые лечились примерно так же, как и дети. Набор лекарственных средств долгое время был довольно скудным: касторка, рвотное, слабительное, потогонное, клистиры и ляпис. ( азотнокислое серебро, бесцветный кристаллический порошок. Употреблялся как противомикробное средство). При простудных заболеваниях, а также для их профилактики пили водку-перцовку и "ерофеич" - настойку на целебных травах. В каждом приличном доме имелся набор лекарственных трав и настоек, и основные лекарства делали сами. Арникова примочка помогала от ушибов. При "болезнях живота" человека поили капустным или огуречным рассолом, квасом с солью либо давали есть моченые груши. Если болела голова, могли поставить к затылку горчичник. С переломами обращались к костоправу.

Московский купец, банкир, видный общественный деятель, меценат Н.А. Найденов вспоминал, как, убегая от козла, он споткнулся "и переломил в правой руке, вблизи кисти, две кости; боль была ужасная; был приглашен костоправ В.А. Нечаев... рука была завязана в лубки и ежедневно, первоначально у нас дома, а затем в его квартире, была перевязываема с растиранием бобковой мазью; это продолжалось 40 дней, причем в течение половины времени руку приходилось держать на подвязке".
Как и в любой трудной жизненной ситуации, в болезни богомольные купцы уповали на помощь Божию. Истово молились Пантелеймону целителю, привозили домой чудотворные иконы, приглашали монахов, чтобы те отслужили молебен в присутствии больного. Все комнаты святили и калачиков с ситничками нищим раздавали, чтобы лучше молились за болящего. Курили уксусом с мяткой: больного выдвигали на диван в залу и окуривали густо кабинет.. С особой силой верили в лечебную силу "водицы святой крещенской", "маслица с мощей" и св. Артоса - частей просфоры всецелой, которая символизировала тело Христово. При болезни Артос употребляли как целебное средство со словами: "Христос воскресе!"
В народе, связь с которым купечество еще не утратило, вплоть до начала XX в. было популярно лечение симпатическими средствами - при помощи талисманов, заговоров. Заговор считался действительным средством против зубной боли и против бородавок: для этого носились с нательным крестом ладанки, бумажки, камешки. Насморк и кашель лечили тем, что накапают на синюю сахарную бумагу ( плотная бумага, в которую при продаже заворачивали сахарную голову - большой кусок сахара конусообразной формы) сала и привяжут к груди на ночь или обернут шею заношенным шерстяным чулком. Заговаривая зубную боль, срезали ветку черемухи. "Целитель" ковырял ее острым концом в больном зубе, что-то над ней шептал и зарывал на дворе. Больных детей спрыскивали водой с углем, так как большинство болезней приписывалось сглазу. Опрыскивание делали изо рта, внезапно, чтобы испугать больного.
Подобным лечением занимались ходившие по домам цирюльники. Их услуги отнюдь не сводились к стрижке, укладке и бритью. Цирюльник пускал пациенту кровь, что в обиходе называлось "метать руду", и занимался лечением ряда болезней. "Ревматизм растирал", разминал вздувшийся живот, составлял травяные настои на все случаи жизни, рвал зубы. Срезал мозоли, удалял бородавки, ставил банки и клизмы, изводил паразитов. Ставил пиявки, лечил геморрой и даже, случалось, принимал роды (хотя чаще этим занималась повитуха). "Ставка пиявок" считалась средством едва ли не ото всех болезней. Ставили их и от запоя, и от сильного охмеления, и при ударе, и при приливе крови к голове, и при неспособности к учению. Чаще всего - за уши и к вискам, реже - к копчику и на спину. Полнокровным, страдавшим приливами, "кидали" кровь хоть один раз в году и непременно в определенное, одинаковое время года - и кровь после этого переставала "проситься".
Вообще, в чудодейственную силу кровопускания, пиявок и банок все, безусловно, верили и считали эти средства панацеями во множестве болезней воспалительного характера. Иногда больной, лежа почти в бреду, сам умолял, чтоб ему пустили кровь. Для этой цели приглашался экстренно домашний цирюльник. Он имел при себе длинный ящик с набором инструментов и лекарственных средств. Сами себя рекламировали в стихотворной форме: "Стрижем - бреем, воду греем, усы завиваем, банки наставляем". К цирюльникам относились как к людям мудрым, усвоившим себе высокое знание лекарской науки. Им доверяли, пожалуй, больше, чем врачам, приписывая чуть не силу колдунов и "наговорщиков".
В 1-й половине века купцы, особенно старообрядцы, к услугам врачей старались не прибегать, за исключением самых тяжелых случаев. Врачам купцы, как и простой народ, долгое время не доверяли, а пользоваться аптечными лекарствами почитали чуть ли не грехом. Суконщик, общественный и политический деятель С.И. Четвериков, рассказывая о популярном в середине века докторе А.И. Овере, писал:
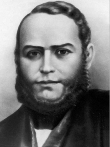
"Хотя Овер всегда старался ободрить больного, сообщить тому, что "и не таких еще на ноги ставили, весть ... о приглашении Овера звучала как какое-то "memento mori" и по своему впечатлению как бы равнялась известию: "Соборовали". Объясняю это тем, что в большинстве случаев москвичи решались тревожить Овера, когда все остальные способы спасти больного были испробованы".
Во 2-й половине столетия средний уровень образования столичных купцов повысился. Коммерсанты осознали необходимость квалифицированной мед. помощи. Повысился уровень их знаний о здоровье. Верхушка купечества стала соблюдать личную гигиену, проветривать помещения и регулярно, всей семьей совершать прогулки на свежем воздухе. Обычной фигурой в купеческом жилище стал домашний доктор. Нередко с годами он становился другом семьи.

Купец, зачинатель русского хлопководства в Средней Азии Н.А. Варенцов вспоминал: "Во времена моего детства в моей семье был постоянным врачом Ю.П. Гудвилович, навещающий нас даже тогда, когда никто не хворал; приглашаемый к чаю, он почти всегда рассказывал о разных случаях, бывших с ним в жизни".
Доктора назначали разноцветные микстуры в пузатых стеклянных бутылочках, пилюли и порошки в красивых коробочках. Все необходимые процедуры, включая осмотры и операции, производили прямо в хозяйском доме: больницы описываемой поры предназначались для бедных граждан, которые не могли оплатить приход доктора на дом. Когда речь шла о жизни и смерти, возле постели больного составлялся консилиум.

Если случай был особенно тяжелым, врачи посылали за признанным светилом - доктором медицины, профессором Московского университета Г.А. Захарьиным. По словам старейшего смотрителя Третьяковской галереи Н.А. Мудрогеля, Захарьин был "...великий талант, но и великий пьяница - пациентам непременно прописывал пить портвейн".
Во 2-й половине столетия профессор стал завсегдатаем многих купеческих домов. С его именем было связано немало анекдотов. Главная их тема - причуды и корыстолюбие знаменитейшего московского терапевта. Дочь основателя Третьяковской галереи В.П. Зилоти, сообщала, что когда Захарьин стал "знаменитостью, и ему платили по 100 руб. за визит (колоссальные для того времени деньги), запасали и коробку "захарьинских" конфет", которые доктор требовал в конце визита или когда просто приходил в гости. Перед Захарьиным трепетали даже солидные капиталисты. Один директор правления ж/д, крупный купец, жаловался художнику Коровину на проблемы с ногами. И заодно на необходимость потакать причудам доктора: "Приказали, чтобы все часы в доме остановить. Маятники чтобы не качались. Канарейку, если есть, - вон. И чтобы ничего не говорить и чтобы отвечать, когда спросит, только "да" или "нет". И чтобы поднять его на кресле во 2-й этаж ко мне, а по лестнице он не пойдет. И именем-отчеством не звать, сказали ассистенты, он не любит и не велит. А надо говорить "ваше высокопревосходительство". А то и лечить не будет". И хозяин с озабоченным видом ушел. В окне я вижу сад... вошли в калитку дома молодые люди. Хозяин стоит у каретного сарая. Кучер и дворник выкатывают пролетку. Хозяин стоит покорно и смирно, опустив руки и голову, а кучер надевает на него хомут, как на лошадь. Запрягли хозяина. Под мышкой он держал оглоблю. Захарьин шел по двору впереди. За ним - два ассистента. А потом хозяин вез пролетку по двору. Захарьин поднимал руку в белой перчатке, шествие останавливалось на 5 мин., а потом опять хозяин вез, как лошадь, пролетку. Удивлялись мы, смотря в окно. Странное было зрелище". Но в конечном итоге лечение принесло свои плоды, и герой этой истории, совершая регулярные пешие прогулки, выздоровел.
С середины века по совету врачей многие купцы с семействами стали выезжать на модные европейские курорты. Там они лечились на водах или при помощи грязей. П.И. Щукин писал: "У моего отца печень была не в порядке, и потому врачи посылали его на воды: поначалу в Карлсбад, а затем в Виши". Дома И.В. Щукин, основатель семейного дела, пил минеральную воду в бутылях, которую заказывал большими ящиками.
Итак, к началу XX в. купцы стали чаще прибегать к помощи докторов. К этому времени и познания самих медиков заметно усовершенствовались. А.П. Чехов, не только писатель, но и практикующий врач, в 1890 г. писал одному из своих адресатов, что, по его мнению, за последние 2- лет "много сделано, голубчик! Одна хирургия сделала столько, что оторопь берет. Изучающему теперь медицину время, бывшее 20 лет тому назад, представляется просто жалким". Были изобретены вакцины от ряда болезней, ранее считавшихся неизлечимыми, например от дифтерита. Благодаря энергичным действиям гор. головы, купца по происхождению, Н.А. Алексеева улучшилась санитарная ситуация в Москве. Появилась канализация, был усовершенствован водопровод, скотобойни выведены за пределы города. Как следствие, уменьшилось число страдающих заразными недугами и сократилась смертность, в том числе детская.
Анна Федорец, кандидат исторических наук
19.10. 2023. журнал "Родина"
https://rg.ru/2023....ch.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 02 Дек 2023, 11:55 | Сообщение # 13 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | ВЕХИ И ВЕШКИ
Сменяются эпохи, но еловые ветки в зимнюю пору остаются самым востребованным дорожным знаком России. Наш современник Я.М. Сенькин, автор ироничных путевых зарисовок деревенской жизни на Псковщине, заметил: "Как-то в Германии профессор русского языка спросил меня, как же объяснить немецким студентам русское слово "бездорожье". Если это не дорога, то почему по ней ездят? Если же это дорога, то почему она называется "бездорожье"?"
В холодное время года, охватывающее в России не только зиму, но и раннюю весну, и позднюю осень, дороги заваливало снегом. Пути становились узкими, и встречные, задевая друг друга, еле-еле протискивались. Оттого-то в дореволюционной России в обязанности дорожных смотрителей по инструкции входила защита проезда от заносов. Такую защиту требовалось "устраивать из воткнутых вдоль пути сосновых или еловых сучьев, длиною от 2 до 3 аршин (по 6 сучьев приблизительно на одну погонную сажень)" либо же "из плетневых щитов из хвороста и драни". Причем заграждения нужно было переставлять с места на место несколько раз за зиму. Разумеется, мало кто все это проделывал.

В.Мечелин. Размеченная дорога по льду. 1894.
В народной речи имелись специальные слова для обозначения тех мест на зимней дороге, где встречные могли бы разминуться. Инспектор народных училищ Н.В. Шишкин, судя по его должности, во 2-й половине XIX в. постоянно мотался из одного села Вятской губернии в другое. Он подготовил словарик местного говора. В нем он поместил рядом два разнокоренных слова, вот так: "Уторопищо, утолока", объяснив оба их разом: "Утоптанное место в снегу возле зимней дороги, где легче при встречах разъезжаться". Само наличие 2-х синонимов в таком словарике, по-видимому, означает, что оба они хорошо запомнились инспектору. Так что в холодное время года при встречах вятские крестьяне натаптывали "уторопища" да "утолоки". А еще вятчане использовали слово "маяк" для обозначения вешек, указывавших колею на постоянно заносимой снегами дороге. Учитель Н.М. Васнецов объяснял этот термин: "Дорожный знак: ветка, кол, прут. Маяки преимущественно ставятся при дорогах зимой".
Местная газета в 1858 г. сетовала, что каждый год миллионы молодых деревьев истребляются, чтобы украсить храмы на Семик и Троицу, а кроме того, сотни тысяч расходуются, "чтоб обозначить в открытых местах переметаемый вьюгами путь".
Газета призывала либо употреблять для этого сучья уже старых деревьев, либо установить постоянные, прочно вбитые колья. Древесные вешки вдоль заснеженной дороги бросались в глаза всякому проезжавшему. НП. Огарев в поэме "Зимний путь (из дорожных воспоминаний)", написанной в 1855 г., упоминал "вдоль пути ряд глупых вех...". У С.В. Максимова в очерке "Питерщик (похождения кулачка)", опубликованном в те же годы, есть эпизод, в котором крестьяне ехали зимним путем из родных мест в Петербург: "От деревни к лесу, по снежному полю, прихотливо вилась узенькая полоса проселка, обозначенная по полям спасительными во время вьюги и метели елками, наставленными кое-где догадливыми мужичками".
В повести С.Т. Семенова "Гаврила Скворцов" (1904) рассказывается, что как-то осенью "по деревням повестили, чтобы по дорогам ставили вешки". Двое мужиков пошли в лес нарубить этих вешек. Вот их разговор:
- Вам где досталось ставить-то?
- Левая рука поля, через огорок.
- А нам по большой дороге. Староста говорил, что урядник непременно велел скорей ставить.
В ноябре 1892 г. вятский губернатор А.Ф. Анисьин получил обращение из Главного правления Российского общества спасения на водах. Общество было озабочено возможными жертвами во время вьюг среди проезжающих по дорогам и пешеходов: "Туманы на море и метели на суше суть явления, во время которых зрение, обыкновенный путеводитель человека, делается бессильным, когда остается обратиться к слуху, который, к счастию, сохраняет свою силу и при этих неблагоприятных явлениях. Как на море, так и на суше колокольный звон составляет главное средство для предупреждения несчастий как во время туманов, так и во время метелей".
Общество напоминало об императорском указе от 7 августа 1851 г., "коим установлен метельный звон при сельских церквах", и просило, чтобы губернатор напомнил, кому следует, о таком предохранении от дорожных опасностей. Обращение было переадресовано губернаторской канцелярией к вятскому архиерею, а тот распорядился сделать публикацию в епархиальной газете. В документе, кроме прочего, говорилось, что Общество спасения на водах "считает долгом своим просить распоряжений о возможно тщательной расстановке частых и видных вех по дорогам, пролагаемым в зимнее время через реки и озера и об ограждении полыней, прорубей в пределах рыболовных ватаг и становищ, а также лошадиных водопоев в селениях".
Если общество упоминало о вехах не вообще по зимним дорогам, а только на замерзших водоемах, то это, конечно же, потому, что оно радело о "спасении на водах". И то верно: при нашем бездорожье нередко по руслам замерзших рек и ездили. Кстати, губернатор Анисьин заслужил награду - золотой знак Общества спасения на водах.
Однако вскоре после этого, в 1895 г., следующий за Анисьиным вятский губернатор Ф.Ф. Трепов издал циркуляр о том, чтобы с установкой дорожных вех не слишком усердствовали: "Мною замечено, что по сторонам дорог в летнее время расставляются вехи и даже на таких местах, как, например, по дороге, идущей по лесу. Находя расставление вех по дорогам в летнее время совершенно излишним, а трату на них лесного материала бесполезною и имея в виду, что вехи необходимы по дорогам только в зимнее время, прошу г.г. земских начальников и уездных исправников иметь наблюдение, чтобы вехи в летнее время не расставлялись по сторонам дорог".
В общем, то густо - то пусто: иной раз местные власти могли понатыкать вешек и там, где не нужно, и когда это было ни к чему. А надо было только зимой и на открытых пространствах.
В инструкции советского времени, начала 1930-х гг., также указывалось, что зимой требуется "установить вехи или хвойные ветки там, где дорога заносится снегом и нет телеграфных столбов вдоль дороги". В "лозунгах к дню леса" в 1926 г. отмечалось, впрочем, что "не стоит каждую зиму ставить вехи у дорог, если можно посадить деревья". А ведь и правда: зеленые насаждения по обочинам куда как лучше втыкавшихся в снег палок. Высаживать деревья вдоль трактов особенно активно начали при Александре I, и занимался этим граф А.А. Аракчеев, хотя народная молва называла березки "екатерининскими", приписывая дорожное обустройство Екатерине II.
В начале 1917 г. в "Вятских епархиальных ведомостях" появилась заметка, которую написал некий сельский священник, скрывшийся под латинским псевдонимом (в переводе на русский - Некий). Заметка начиналась так: "Всякому, кто живет в селах и деревнях, известны те неудобства, а иногда и мучения, какие испытываются на наших малых дорогах при встречах, начиная с 1 января, а иной год и ранее, до конца зимы".

В.Марков. Дорога к храму. 2018.
Известно: чем дольше тянулось зимнее время, тем больше вырастали сугробы и тем круче делались ухабы. По словам автора, много страдало от этого духовенство, поскольку сельским батюшкам часто приходилось ездить по своим приходам, и как раз зимою. "Я и раньше задумывался над этим, - чего ради в самом деле мы теряем время, мучимся (иногда приходится распрягать лошадь) при встречах, выслушиваем брань и угрозы иногда от хулиганов и т.п."
Характерно, что на первой странице этой заметки, внизу, дано редакционное примечание, в котором также были представлены ужасы зимних столкновений - очевидно, тема эта была наболевшей: "Воспоминания детских лет живо рисуют и нам те в высшей степени тяжелые картины безобразной ругани, ломки экипажей и сбруи, битья лошадей, а нередко и людей при встречах зимой на малых дорогах, о которых говорит автор настоящей статьи. Несомненно, пройдут еще века, прежде чем наши малые дороги будут радикально улучшены. До тех же пор всякие паллиативы, вроде указанного автором статьи, если они оказываются хотя сколько-нибудь полезными, следует приветствовать и стараться настойчиво проводить их в жизнь"
Предложенный в заметке "паллиатив" был прост и очевиден: священник попросил старика-нищего, и тот за невеликую плату в 80 коп. устроил по четырем дорогам разъезды, через 125 саженей каждый, то есть по 4 на одну версту. Разъезды эти представляли собою обычные в Вятском крае "уторопища", "утолоки", то есть утоптанные места. Они помечались ветками, чтоб их можно было разглядеть издалека. После вьюг их приходилось расчищать, но, в общем, не так уж часто. Священник, делясь опытом с коллегами, писал, что теперь "каждый едущий или сворачивает на этот съезд, или дожидает встречного именно на этом месте".
Этакое дело, да к тому же затеянное иереем, было непривычным, вызывало у крестьян недоумение: "Мужички сперва смеялись: "Затейник-батюшка, чего выдумал! Испокон веку разъезжались, где придется! А ведь и впрямь хорошо, фу, ты какая простая штука, и ведь ничего не стоит главное!.."
Однако сами мужики без приказа и понуждения не желали устраивать ничего подобного. Священник их спрашивал: "Так и будете ругаться при встречах?", - а они, дескать, отвечали: "Что говорить! Мука чистая, особенно с возом ежели... сколь брани, порой и драка бывает! Сколь оглобель, саней приломали, сбруи попортили!" Он подзадоривал: "Мало того - драки! Я знаю даже случаи убийства: одного мужика прокололи вилами; другой пьяный убил свою лошадь!" Те соглашались: "Всячины бывало!" Но натаптывать разъезды не хотели все равно.
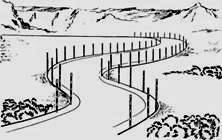
Схема зимней безопасной дороги
Есть расхожее мнение, будто прокладка хорошо обустроенных трасс по российским просторам не очень-то прежде и требовалась: перевозки по спрямленным и гладким зимним путям бывали легкими и быстрыми. Но чего стоит хотя бы эта вечная проблема - как разъехаться встречным возам под конец зимы на еле заметной проселочной дорожке! А ведь было и множество других зимних трудностей. В некрасовском "Современнике" в 1864 г. опубликовали редакционный обзор, где был сделан примерный расчет времени грузового извозчика и перечислены кое-какие из зимних невзгод и неурядиц: "Извозничество с тяжестями сопряжено еще с большими неудобствами: тут при наших благоустроенных проселках и при русских метелях напринимаешься такого лютого горя, что, кажется, и в жизнь бы другой раз не поехал... и все-таки и в другой, и в третий, и в четвертый раз - все едешь. Возьму местность в 30 верстах от Москвы. Кажется невероятным, чтобы одна поездка в Москву и обратно, на таком расстоянии, требовала около 30 часов, а между тем ничего нет справедливее этого. Положим, что мужик везет в Москву воз сена, и что с вечера у него этот воз уже навит и увязан. Поднимается он из дому с 10-ти часов ночи и тогда только может быть уверен, что поспеет в Москву часам к осьми следующего утра. Медленность движенья объясняется очень просто: во-первых, проселки наши обилуют всевозможными ухабами, во-вторых, на тех же проселках, особливо около деревенских околиц, до того иногда переметает дорогу снегом, что малосильная мужицкая лошаденка становится в тупик. Кроме того, может случиться встречный обоз, и в таком разе положение делается поистине трагическим; начинается брань, толкотня, метание жеребьев; и время летит незаметно. Кроме того, может встретиться или барин, или старшина, или писарь в санках - тут уж никакой пустой болтовни не бывает, а съезжает обоз мужицкий в сугробы без всяких разговоров, так что только морды лошадиные виднеются из-под снегу. И тут время летит незаметно".
Конные повозки давно стали скорее экзотикой, чем постоянным транспортным средством, но еловые вешки на дорогах и особенно на ледовых речных переправах по-прежнему помогают не сбиться с пути.
Владимир Коршунков, кандидат исторических наук
13.03. 2023. журнал "Родина"
https://rg.ru/2023/03/13/vehi-i-veshki.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 09 Мар 2024, 19:20 | Сообщение # 14 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ РУССКОГО ХЛЕБА

Б.Кустодиев. "Булочник"
На территории России хлеб появился примерно 15 тыс. лет назад. Наши предки издавна выращивали 4 основных злака: рожь, пшеницу, просо и ячмень. Наиболее распространена была неприхотливая рожь.В XVI в. стали строить общественные пекарни, а хлебопеки стали подразделяться на булочников, пряничников, калачников. Выпекание хлеба было сложным занятием. И во все времена к труду пекаря относились с почтением и уважением. А помимо того, что пекарь - это мастер своего дела, он должен был быть еще и честным человеком. В 1626 г. вышел спец. указ "О хлебном и калачном весе", согласно которому спец. приставы (их называли "хлебного веса целовальники") следили за ценами на хлеб и за его качеством. До нас дошли даже имена некоторых из них: Б.Бекетов, Д.Иванов, В. Артемов. На рынках, в пекарнях и уже в торбах у покупателей взвешивали они хлебы и проверяли их качество, чтобы "подмесу никакого не было". После войны 1812 г. в Москве начался расцвет хлебопекарного дела. Ароматы свежего хлеба были слышны в Стремянном пер. - здесь находилась булочная Березина, а на 1-й Тверской-Ямской можно было зайти в пекарню Суслова.

Именно в это время начинает свою деятельность основатель династии, известный хлебопек М.Филиппов. А вот как объяснял высокое качество производимого им хлеба его сын - Иван Максимович: "Хлебушко заботу любит. Выпечка-то выпечкой, а вся сила в муке. У меня покупной муки нет, вся своя, рожь отборную покупаю на местах, на мельницах свои люди поставлены, чтобы ни соринки, чтобы ни пылинки. А все-таки рожь бывает разная, выбирать надо. У меня все больше тамбовская, из-под Козлова, с Роминской мельницы идет мука самая лучшая..."
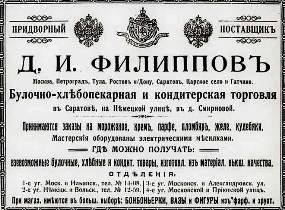
Особенно любили на Руси кислый хлеб из заквашенного теста. Способы заквашивания были разные: от пивной или квасной гущи до куска старого теста. Каким был на вкус этот хлеб, можно судить по воспоминаниям путешественника и писателя, уроженца Османской империи П.Алеппского. В книге "Путешествие антиохийского патриарха Макария" (середина XVII в.) он писал: "Мы видели, как возчики и другие простолюдины завтракали им (хлебом), словно это была превосходнейшая халва. Мы же совершенно не в состоянии есть его, ибо он кисел, как уксус, да и запах имеет тот же".
Традиционный ржаной хлеб, который так пугал иностранцев, был известен на Руси еще с XI в. Во многих семьях, но особенно в монастырях, был собственный рецепт приготовления ржаного хлеба. Ингредиенты и технология держались в секрете и бережно передавались из поколения в поколение. Ржаной хлеб любили не только простолюдины. Царь Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, без него за стол не садился. Любил он вкушать ржаной хлеб, посыпая солью и закусывая солеными грибочками.
Русскому человеку без своего родного хлеба не прожить. Яркое подтверждение этому эпизод, произошедший в 1736 г., во время Русско-турецкой войны. Когда наше войско оказалось на территории Крымского ханства, выяснилось, что были утеряны целые обозы с ржаной мукой, взятые для питания воинов. Тогда стали печь пресный хлеб из местной пшеничной муки. Такое, казалось бы, незначительное изменение в рационе привело к резкому росту болезней среди солдат. Подполковник Христофор Манштейн, адъютант фельдмаршала Миниха, командующего русскими войсками, писал: "Наипаче приводило воинов в слабость то, что они привыкли есть кислый ржаной хлеб, а тут должны были питаться пресным пшеничным".
Тосковал по черному хлебу и Александр Сергеевич. В воспоминаниях о своем путешествии по Кавказу поэт писал: "На половине дороги, в армянской деревне, вместо обеда съел я проклятый чюрек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою... Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба".

Бородинский - еще один замечательный сорт хлеба, прелесть которого никак не могут понять иностранцы. Хорошо им закусывать всевозможные соленья, положить на него селедочку с лучком, а еще он идеальное дополнение к наваристым супам. Несмотря на то что история его появления довольно прозаична, вокруг бородинского ходит немало легенд. Одно из первых упоминаний бородинского хлеба можно найти в работе потомственного пекаря, ученого и профессора Б.Сарычева в 1929 г. Он готовил первых инженеров для хлебопекарной промышленности в Московском институте зерна и муки и в Московском инженерно-технологическом институте хлебопечения. В изданной спустя 10 лет книге "Товароведение продовольственных продуктов" уже есть утвержденная технология его приготовления из ржаной муки "с добавлением заварки и солода", аниса или тмина.
Купить сегодня хлеб любого вида и качества - нет ничего проще. Но испечь его самому - истинное удовольствие. Вот несколько рецептов традиционного русского хлеба.
Ржаной:

Закваска - 4 ст. л., ржаная мука - 400 г, соль - 1,5 ч. л., вода - 200 мл.
Добавить в воду закваску и тщательно перемешать. Насыпать половину муки и соль, начать замешивать тесто. На этом этапе можно это делать ложкой или лопаточкой, потому что оно будет очень липнуть. Добавить остальную муку и рукой замесить тесто, сформировать шар. Присыпать миску, в которой тесто будет подходить, мукой, накрыть полотенцем и оставить на ночь. Утром надо разогреть духовку до 250 С, застелить противень пергаментом, слегка присыпать мукой. Выложить хлеб, сформировать требуемую форму. Можно сделать неглубокие надрезы наверху крест-накрест. Отправить выпекаться сперва на 10 мин., затем уменьшить температуру до 200 С и выпекать еще 40 мин. Готовый хлеб достать из духовки, накрыть полотенцем и дать остыть
Пшеничный:

Пшеничная мука - 450 г (для обсыпки 20-30 г), вода комнатной температуры - 330 мл, соль - 1,5 ч. л., опара. Для опары понадобится: закваска - 20 г, теплая вода - 100 мл, пшеничная мука - 100 г.
Заранее начать готовить опару. Ей потребуется настояться около 10 час. Смешать все ингредиенты для опары до однородности и без комков. Накрыть и убрать настаиваться при комнатной температуре. Следует учитывать то, что опара поднимется, поэтому надо использовать емкость гораздо большую по объему. Воду для теста смешать с опарой, добавить соль и всыпать просеянную муку. Замешивать тесто можно руками, а можно использовать кухонный комбайн. Тесто будет липким, но податливым. Накрыть его и оставить подниматься в миске примерно 2 час. Застелить противень пергаментом и слегка присыпать мукой. Сформировать форму будущего хлеба, накрыть полотенцем и оставить еще на час. Разогреть духовку до 230 С и выпекать 10 мин., затем понизить температуру до 200 С и готовить еще 30 мин. Достать хлеб из духовки и дать ему остыть. Он получится хрустящим снаружи и воздушным, с большими порами, внутри.
Амарантовый:

Долгое время на Руси амарантовый был любимым сортом хлеба.
Мука пшеничная - 350 г, мука амарантовая - 100 г, вода - 350 мл, дрожжи - 1,5 ч. л., сахар - 1,5 ч. л., соль - 1,5 ч. л., подсолнечное масло - 2 ст. л.
Воду можно заменить молоком в такой же пропорции. В амарантовую муку всыпать сахар и дрожжи и залить 150 мл теплой воды. Перемешать, чтобы не попадались комочки, и дать постоять около 30 мин. Затем вручную или с помощью комбайна замешать тесто. Соединить все оставшиеся ингредиенты, кроме масла, добавить опару и начать замешивать тесто. Когда тесто почти готово, влить в него масло и домесить. Накрыть полотенцем и дать подняться в течении 1-1,5 час. Затем обмять тесто и дать постоять еще час. Противень застелить пергаментом или использовать спец. форму. Сформировать вид будущего хлеба и дать постоять еще 30 мин. при комнатной температуре. Духовку разогреть до 220 С и выпекать 10 мин., далее опустить температуру до 190 С и печь еще 30 мин.
Екатерина Зайцева
11.02. 2024. журнал "Родина"
https://rodina-history.ru/2024....ij.html
МОСКОВСКИЙ КАЛАЧ
Калач - старейший вид белого хлеба в России. Придумка это сугубо русская, а точнее, московская. Калач как один из символов экономического благополучия переместился в Москву и именно здесь получил свое полное развитие, стал известен во всей стране... Здесь он нашел и многочисленного потребителя, и отсюда стало возможным вывозить, экспортировать его не только по стране, но и за границу. Московские калачи приобрели особенную популярность в XIX в. благодаря придворному пекарю И.М. Филиппову.

Сын бывшего крепостного из деревни Кобелево Тарусского уезда Калужской губернии, занимавшегося выпечкой и продажей в разнос пирогов, был признан первым хлебопеком России, а затем и Европы и даже попал в знаменитую книгу В.Гиляровского "Москва и москвичи": "Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами московскими калачами и сайками...".
Со временем предприимчивый булочник удостоился звания Поставщика двора Его Императорского Величества. Причем, по мнению самого булочника, секрет его успеха был в 3-х слагаемых: вода из Москвы-реки, его пекари и сам Иван Максимович. Поэтому, когда открылась его первая пекарня в Санкт-Петербурге, воду для теста в дубовых кадках привозили из Москвы. А обозы с "филипповским" хлебом шли даже в Сибирь и Париж: там замороженные перед дальней дорогой калачи особым способом оттаивали (на горячем полотенце) и продавали как свежеиспеченные. В этом не было лукавства: особый рецепт теста позволял калачам действительно долго оставаться свежими.

Именно такими калачами в Париже потчевали русских офицеров, для которых особый вкус московского калача навсегда связался в памяти со вкусом победы в войне с Наполеоном. А Отечественная история сделала калач настоящим праздничным блюдом победителей. Ведь ими угощали и героев обороны Севастополя после заключения мира в 1856 г., и героев ВОВ, когда в феврале 1946 г. были снижены цены в коммерческих магазинах на прод. товары и хлеб, а впоследствии отменены карточки. За годы войны простые люди отвыкли от вкуса белого хлеба, и у них непроизвольно текли слюни при чтении газетных статей, в которых подробно описывался этот долгожданный хлебный рай. Особенно подчеркивалось, что впервые после войны стала производиться продажа штучных булочных изделий с фирменных прицепов Мосхлебторга. В этих передвижных лавках можно купить франц. и русские булки, московские калачи, бородинские, минские, рижские штучные хлебцы, цукатники. Это были верные приметы мирной жизни: реализуемый по карточкам ржаной хлеб отпускался на вес, и только до войны продавались штучные белые булки и калачи.
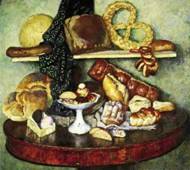
Калач прочно вошел в контекст русской литературы и живописи. Вот самобытное полотно одного из основателей худ. объединения "Бубновый валет" И.Машкова "Снедь московская: хлебы"? На картине среди баранок, сухарей и пирогов гордо красуется румяный калач - символ благополучных, мирных, сытых дней, которых в нашей истории было не так уж и много.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 29 Мар 2024, 11:25 | Сообщение # 15 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | 
Свежеиспеченный муромский калач украшает и картину Б.Кустодиева "Купчиха, пьющая чай". В год начала Первой мировой войны художник Н.П. Богданов-Бельский завершил работу над картиной "Новые хозяева". Многим знакомо это запоминающееся полотно, но мало кому ведомо, что живописец запечатлел русскую деревню после Столыпинской реформы. Большая крестьянская семья пьет чай из самовара в бывшем помещичьем доме, на стенах которого еще продолжают висеть портреты его былых владельцев. Крестьянские дети пьют чай с калачом из разрозненных фарфоровых чашек, когда-то принадлежавших старым хозяевам дворянского гнезда.

Художник сознательно акцентирует внимание зрителей на этих выразительных деталях. Чай и калачи издавна почитались несомненными приметами обеспеченной жизни. Чай из самовара и калачи могли позволить себе только зажиточные люди, к числу которых до Столыпинской реформы крестьяне никогда не относились.
"Кяхтинский чай да муромский калач - полдничает богач", "Не рука крестьянскому сыну калачи есть".
Князь Стива Оболенский в "Анне Карениной" не начинал день без пышного лакомства: "Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся..."
Чиновник и помещик В.С. Перфильев, старинный друг Толстого, считал себя прототипом Стивы и пенял Льву Николаевичу: "Ну, Левочка, цельного калача с маслом за кофеем я никогда не съедал. Это ты на меня уже наклепал!"
Калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку, или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали ее нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал ее съесть, говорили: дошел до ручки. Казалось бы, калач незаменим для современного горожанина, который всегда торопится и зачастую ест на ходу. Небольшой и сытный, с удобной знаменитой "ручкой". Почему же он стал пережитком прошлого? Ответ прост: калач - трудоемкий и дорогой продукт, его невозможно правильно приготовить в современных печах. И на ингредиентах калача не сэкономишь. До недавнего времени калачи пекли вручную на 16-м московском хлебозаводе, но и там прекратили. А как хочется хоть минутку почаевничать вместе с кустодиевской "Купчихой"!
Екатерина Зайцева
09.09. 2015. журнал "Родина"
https://rodina-history.ru/2015/09/09/rodina-kalach.html
"НИКОГО НЕ ТРОГАЮ. ПОЧИНЯЮ ПРИМУС"
Мультиварка, блендер, микроволновка, духовка - без них невозможно представить современную кухню. Пользоваться ими удобно и просто. Особенно по сравнению с кухонными девайсами 100-летней давности, поражавшими современников. Помимо традиционной (в основном, дровяной) плиты это и всевозможные печушки, и керосинки и керогазы. Но настоящим королем советской коммунальной кухни был примус. В прошлом году он тихо отпраздновал свое 130-летие, хотя что-что, а тишина для примуса совсем несвойственна - шумел он знатно. А их коммунальной кухне могло быть не меньше 8-ми!

Примус изобрел в 1892 г. шведский механик Франц Линдквист. Он использовал принцип работы паяльной лампы для создания керосиновой печки и вместе с братом сделал бесфитильную горелку, работавшую на жидком топливе. Самые первые примусы назывались "шведские керосиновые кухни". Называть устройство "примусом" (от лат. primas - первый) стали в честь одноименной шведской фирмы, которая в 1898 г. освоила его серийное производство. К началу XX в. примус активно распространился по Европе. Вскипятить чайник или поджарить мясо за 4-5 мин. - невероятный прогресс!
Примусы в России появились сначала в Санкт-Петербурге, примерно во времена Русско-японской войны. Удобные в полевых условиях, их с удовольствием покупали офицеры, отправлявшиеся на Дальний Восток. А первые отечественные примусы начал выпускать "Первый гос. меднообрабатывающий завод" (современное название - "Кольчугинский мельхиор"). Его продукция надежностью не отличалась, поэтому по всей стране открывались мастерские по ремонту примусов. Но уже в 1920-е годы в крупных городах представить себе кухню без примуса было невозможно. Вот как описывает его устройство профессор и экономист Б. Маркус: "Примус - это небольшой баллон на 3-х длинных ножках, загнутых наверху крючком. На эти крючки устанавливалось нечто вроде конфорки. На эту конфорку ставились кастрюли, чайники, а при стирке даже огромные баки. В верхней части баллона имелась спец. трубка с форсункой и горелкой. В форсунке имелось тоненькое отверстие, через которое шел вверх распыленный керосин из баллона. Чтобы форсунка не засорялась, ее время от времени надо было прочищать спец. тоненькими иголочками на длинных жестяных ручках..."
Примус был мобилен и компактен: его легко и быстро можно было убрать в небольшой шкафчик, но имелись и существенные недостатки. Устройство требовало большой сноровки в обращении. Далеко не каждая хозяйка могла с ним справиться. А самым существенным недостатком было то, что он не мог непрерывно работать более 1,5 час., потому что перегревался и становился взрывоопасным. Об этом в 1925 г. предупреждала даже газета "Известия" :"Не жгите примус слишком долгое время, так как он может сильно разгореться и взорваться".

На примусе можно было вскипятить воду, что-то простое сварить или пожарить, причем во время жарки зорко следить, чтобы раскаленный жир не попадал на его корпус, иначе он мог загореться. Тушение, пассерование на примусе были невозможно, потому что его огонь не поддавался регулированию. Тем не менее в 1920-е годы в книжных магазинах Ленинграда и Москвы появились книги небывалого доселе формата: "Кухня на плите и на примусе" или "Спутник домашней хозяйки. 1000 кулинарных рецептов с указанием, как готовить на примусе". Само их появление свидетельствовало о том, что меню советского гражданина изменилось не в лучшую сторону. В предисловии к "Кухне на плите и примусе" (1927) ее автор, некая Дедрина, признается: "...ввиду все возрастающей дороговизны жизни, мы, при составлении этой книги, приняли во внимание не только кулинарные, но и экономические соображения. Таким образом, в наш сборник вошли рецепты кушаний наиболее дешевых и вместе с тем настолько простых, что большинство из них может быть приготовлено на примусе..."

худ. Г.Кичигин
Фраза Кота Бегемота из бессмертного романа М.Булгакова "Мастер и Маргарита": "Не шалю, никого не трогаю, починяю примус" давно стала крылатой. Смысл ее прост - "заниматься безобидным делом, не представлять опасности". В романе есть еще как минимум одно упоминания примуса: "Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу", то есть никогда не сталкивалась с бытовыми проблемами. Вообще, поэты и писатели первых советских десятилетий часто обращались к примусу как к яркой примете времени, а некоторые даже наделяли его философскими смыслами. О вечной жизни рассуждает Остап Бендер в романе Ильфа и Петрова "Золотой теленок", а вдохновляет его на это возможность стать обладателем вечной иглы для примуса: "Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса... я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно...".
Примусы делали из латуни, и, когда их начищали, они ярко блестели. Это свойство использует О.Мандельштам в стихотворении "Примус" (1924). У поэта кухонный прибор становится золотым:
Чтобы вылечить и вымыть
Старый примус золотой,
У него головку снимут
И нальют его водой.
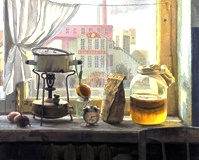
худ. Ф.Кубарев
Б.Зайцев в книге "Белый свет" призывает ухаживать за примусом как за самым близким человеком: "Почитай примус. Он твой домашний лар. Наблюдай за жизнию его. Чисти иглой. Поршень, если ослабел, размачивай в стакане с кипятком. Делай возлияния ему - чистейшим газолином". К своему примусу писатель обращался не иначе как по имени - Михаил Михайлович.
Д.Гранин в книге "Ленинградский каталог" - своеобразном словаре предметов ушедшей эпохи - воспевал примус как главного кулинарного помощника в непростой период нашей истории: "Примус - это эпоха; выносливая, безотказная, маленькая, но могучая машина. Примус выручал городскую рабочую жизнь в самый трудный период нашего коммунального быта. На тесных многолюдных кухнях согласно гудели, трудились примусные дружины. Почти два поколения вскормили они; как выручали наших матерей, с утра до позднего вечера безотказно кипятили они, разогревали, варили немудреную еду: борщи, супы, чаи, каши, жарили яичницы, оладьи..."
А вот А.Толстой в повести "Гадюка" блестяще передал через примус взрывной темперамент своей героини - жительницы коммунальной квартиры: "От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность. Примус у нее был, но она от человеконенавистничества пользовалась им у себя в комнате, покуда распоряжением правления жилтоварищества это не было запрещено. Управдом Журавлев, пригрозив ей судом и выселением, если еще повторится это "антипожарное безобразие", едва не был убит: она швырнула в него горящим примусом..."
Примус было за что критиковать. Он стал причиной многих несчастных случаев. В воспоминаниях художника А.Бенуа читаем: "Мотя - инвалид; третьего дня она себе обожгла руки, туша вспыхнувший благодаря ее неосторожности примус". Но большей трагедией было все-таки отсутствие его...

На московском блошином рынке примусы в цене
Екатерина Зайцева
05.10. 2023., журнал "Родина"
https://rodina-history.ru/2023....us.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 24 Апр 2024, 10:38 | Сообщение # 16 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | КАЛОШИ
Они были незаменимы для прогулок, сельских гулянок и походов в театр. На добрую сотню лет слякотный российский климат определил внешний вид обывателя: кем бы он ни был, куда бы он ни шел, ноги его непременно были обуты в калоши. Забытый сегодня предмет гардероба решал сразу несколько насущных задач: многократно увеличивал срок службы обуви, содержал ноги владельца в тепле и сухости, а мраморные лестницы и персидские ковры в чистоте. В общем, лучше, чем тайный советник граф В.А. Соллогуб не скажешь: "люди исключительно им обязаны тем, что они находятся на приличной ноге в большом свете...".
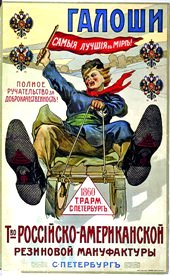
В середине 1820-х из Туманного Альбиона в российскую столицу попадают первые образцы калош из пропитанного натуральным каучуком сукна. Можно предположить, что именно о таких идет речь в переписке А.С. Пушкина с братом Львом в ноябре 1824 г.. "Да пришли мне калоши - с Михаилом". В 1840-х годах, с открытием метода вулканизации каучука, на российский рынок стали поступать американские резиновые калоши, но спрос сильно ограничивала высокая цена, и конкуренцию с кожаными "мокроступами" они не выдерживали. Но терять такой рынок?! Заокеанские комиссионеры быстро оценили выгоду от организации производства внутри Российской империи с ее дешевизной рабочих рук и топлива.
Настоящий калошный бум совпал с отменой крепостного права: в 1861 г. в Санкт-Петербурге заработало производство Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры "Т.Р.А.Р.М.", получившее всемирную известность как "Треугольник" (после 1918 г. - "Красный треугольник"). Те самые - блестящие калоши с красной байковой подкладкой, "нашпорником" и треугольным клеймом на подошве - стали визитной карточкой "Треугольника". Спустя 20 лет такие же калоши многомиллионными тиражами уже производили конкуренты - московская фабрика "Богатырь", рижские "Каучук" и "Проводник". Очень скоро резиновым гигантам удалось не только удовлетворить спрос огромной империи, но и наладить экспорт в европейские страны: накануне Первой мировой войны он приносил более 5 млн. руб. в год. Большую часть производства и экспорта - почти 65% - составляли калоши. Представительства отечественных резиновых мануфактур открывались во всех крупных городах Старого и Нового Света.

Реклама галош "Проводник". Открытка. Начало ХХ в.
Отсутствие общегородских канализаций и в глухой провинции, и в крупных городах особенно давало о себе знать в межсезонье. "В Бердичевах, Житомирах, Ростовах, Полтавах - грязь по колено. Грязь бурая, вязкая, вонючая..." - писал А.П. Чехов в 1882 г. А председатель Московского окружного суда Н.В. Давыдов вспоминал, что "пешеходы теряли в грязи калоши, а иной раз нанимали извозчика специально для переправы на другую сторону площади...". Злые языки уверяли, что если подсчитать количество калош, безвозвратно засосанных гор. грязью, и перевести в денежный эквивалент, то на эту сумму можно было бы делать тротуары из мрамора. А уж на улицу без калош и соваться не стоило.
Калоши принято было снимать в передней или в парадной. Скопление резиновой обуви в многоквартирных домах и общественных местах доставляло немало хлопот - владельцы путались. На рубеже веков изящный способ различать безликую "верхнюю обувь" придумал столичный мастер П.Савельев: он открыл торговлю небольшими (около 2 см) металлическими буквами, которые в качестве инициалов крепились к стельке калоши. Эта маркировка получила широкое распространение. Уличные торговцы железным алфавитом очень озадачивали иностранцев. Какие только калоши ни шлепали по русским дорогам! Зимние - на собачьем, кошачьем, мерлушковом меху, защищавшие ноги от мокрого снега и холода; глубокие и мелкие демисезонные - на шерстяной или хлопковой подкладке; дамские - с местом для французского каблука (в советское время известные как боты) и полугалоши - оставлявшие каблук снаружи...
Граф Л.Н. Толстой, известный противник тех. прогресса, всю жизнь обходился кожаными калошами, причем в конце 1880-х научился у сапожника шить их себе сам. С распространением фабричных резиновых калош неуклюжие кожаные,"которые строго и неумолимо скребут по тротуару, стали признаком косности и старомодности. Как саркастически отметил Чехов, по ним можно было отличить "людей положительных, рассудительных и религиозно убежденных". А вот элегантные и практичные резиновые калоши преобладали в крупных промышленных центрах уже в конце 1860-х годов, а оттуда - как элемент особого шика - стали просачиваться и в деревню. Зажиточные крестьянские парни и девушки наряжались в сапоги с блестящими калошами на гулянья, а от дождя и грязи эту роскошь всячески оберегали. Почти полвека мода на "галоши настоящие, красивые, блестящие" господствовала в деревне. Дороговизна резиновых калош заставляла работать русскую смекалку. Оригинальный проект осуществил в 1912 г. рязанский крестьянин Плотников: он придумал калоши из жести, намазанной лаком с сажей, - выглядели как настоящие! При стоимости 40-45 коп. (против 2,5 руб. за резиновые от "Треугольника" - половина стоимости сапог!) они пользовались огромным спросом.
Первая мировая война нанесла болезненный удар по "красивым, блестящим". К началу Февральской революции их производство сократилось вдвое - с 38,9 до 18 млн пар: импортный каучук шел на насущные военные нужды, прежде всего на изготовление шин и средств химзащиты. Отныне охота за немеркнущим глянцем калош стала уделом всей страны. Как не вспомнить булгаковского профессора Преображенского: "... до марта 1917 г. не было ни одного случая чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. В марте 1917 г. в один прекрасный день пропали все калоши". Цены взлетели до небес.
В Петрограде мелкие калоши, стоившие до войны 1 р. 35 коп., в ноябре 1915 г. стоили уже 4 р. 50 коп., а в ноябре 1917-го - 15 руб. Около калошных лавок образовывались огромные очереди. "Хвосты эти с каждым днем увеличиваются, в них происходят беспорядки и возникают опасения за возможность эксцессов". Еще хуже дело обстояло со спекуляцией: "Никогда так не спекулировали на галошах, как сейчас, и что удивительно: у магазинов "Богатыря" целыми днями череда. Простаивают за парой галош целый день. А пройдитесь по Толкучке, Сухаревке - и в палатках найдется сколько угодно галош. Конечно, от цен в жар бросит...". - писала московская "Газета для всех" в октябре 1917 г.
С 1 октября 1917 года по распоряжению Мосгордумы продажа калош разрешалась только по ордерам, выдаваемым домкомами. В декабре художник А.Бенуа записал: "По дороге купил (по ордеру, выданному нашим домовым комитетом, иначе нельзя) на Андреевском рынке резиновые калоши; к сожалению, кроме остроконечных, других не оказалось". В 1918 г. в связи с экономической блокадой ввоз каучука из-за границы был приостановлен вплоть до сентября 1922 г. Распределение калош как остродефицитного товара перешло в руки фабрично-заводских комитетов и советских учреждений. Число безгалошных росло. Широкую известность получила гор. частушка:
"Есть калоши у меня
Берегу их к лету,
А по совести сказать, -
У меня их нету".
Только НЭП и созданный на базе дореволюционных заводов Гос. трест резиновой промышленности, смог переломить ситуацию: в 1928 г. производство калош вышло на дореволюционный уровень. Это время подарило нам рекламные шедевры тандема В.В. Маяковский - А.М. Родченко.

"Резинотрест - защитник в дождь и слякоть.
Без галош Европе - сидеть и плакать";
"Дождик, дождь, впустую льешь -
я не выйду без галош.
С помощью Резинотреста
мне везде сухое место"
А настоящий прорыв случился в середине 1930-х: было налажено конвейерное производство калош из синтетического каучука, полученного С.В. Лебедевым. Это позволило к 1940 г. увеличить выпуск резиновой обуви вдвое по сравнению с довоенным. Но новая война снова разула население. Если в 1937 г. страна получила 84 млн 640 тыс. пар калош, то в 1942-м - всего 640. 22 января 1944 г. ГКО "в целях обеспечения нужд населения и в первую очередь детей" постановил к 1 июня 1944-го увеличить производство галош на заводе "Красный богатырь" до 30 тыс. пар в сутки, но выйти на довоенный уровень удалось лишь к 1950 г. Калоши наконец-то стали дешевы и доступны - без ордеров, карточек и списков. Но то была их лебединая песня: после проведения в жизнь хрущевской программы химизации нар. хозяйства (1958) население получило недорогую практичную обувь из искусственной кожи и главное - на непромокаемой подошве из микропоры. Галоши переместились в чуланы, а затем и в Историю.
"Я так много в жизни своей ходил пешком, я столько в жизни своей переносил калош, что невольно вселилась в душе моей какая-то особенная нежность ко всем калошам. Не говоря уже о неоспоримой их пользе, как не быть тронутым их скромностью, как не пожалеть о горькой их участи? Бедные калоши! Люди, которые исключительно им обязаны тем, что они находятся на приличной ноге в большом свете, прячут их со стыдом и неблагодарностью в уголках передней; а там они, бедные, лежат забрызганные, затоптанные, в обществе лакеев, без всякого уважения..."
В.Соллогуб. "История двух калош" (1839)
Ольга Чагадаева, кандидат истор. наук
10.03. 2020. журнал "Родина"
https://rodina-history.ru/2020....ie.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 12 Окт 2024, 17:02 | Сообщение # 17 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | СТИЛЬ ЖЕНЩИН И ЦВЕТОВ
Модерн – самый женственный и романтизируемый стиль в истории моды – пролетел как яркая комета и сгорел в атмосфере динамичного ХХ в.

"Одевайтесь, как цветок - у Вас столько вкуса! Носите у корсажа цветы, душитесь, завертывайтесь в кружева - все это безумно красиво - все это жизнь и ее прекрасная сторона", - советовал знаменитый художник Лев Бакст своей невесте Л.Гриценко в 1903 г. Именно так и поступали дамы высшего света и представительницы богатой буржуазии на рубеже XIX и ХХ вв., когда царил роскошный и изысканный стиль модерн. С началом Первой мировой эпоха модерна закончилась. Современники той войны, пережив тяжелые потрясения, оглянулись назад и ностальгически назвали ушедшую эпоху La Belle Époque - "Прекрасная эпоха".
Всего 20 с лишним лет (1890–1914) вместили огромное количество невероятных по силе и значимости событий. Модерн - что по-русски значит "современный", "новый" - это время появления кинематографа, первых полетов человека, зари русского авангарда, Серебряного века русской литературы, триумфа Русских сезонов С.Дягилева и расцвета русского стиля в декоративно-прикладном искусстве, покоривших Европу. Новые технологии стремительно меняли у людей ощущение времени и пространства. Возводились ажурные сооружения из металла - такие как Торговые ряды ГУМа. Строились особняки и загородные дома с лифтами и горячей водой. В жизнь людей вместо курьеров входили телеграф и телефон. Взамен свечей в домах появилось электричество.

Для поездок на автомобиле дамам понадобилась спец. одежда: пыльник - легкое пальто, объемная шляпа с вуалью или широким шарфом.
Кареты превращались в самодвижущиеся экипажи - автомобили. Тяжелые ящики фотоаппаратов превратились в небольшие приборы, которые можно было взять с собой в путешествие. Мир менялся так быстро, что обычный человек порой ощущал свое бессилие перед этими переменами, завораживавшими и пугавшими одновременно. Неслучайно символисты - поэты и философы - призывали бежать от слишком быстро меняющейся реальности в идеальный мир грез.

Например, в "Элизиум" (1906) - обитель душ блаженных, изображенную на картине Л.Бакста. Художники обращали свои взоры к природе, что тоже являлось своего рода попыткой эскапизма. Из природы они почерпнули плавные, текучие, изогнутые линии, ставшие визитной карточкой модерна. Это было подражание формам растений с вьющимися стеблями и бледными цветами: лилиям, ирисам, орхидеям, хризантемам. Цветовая гамма стиля - приглушенная, пастельная или, как тогда говорили, "припудренная".

Как на картине М.Врубеля "Жемчужина", в которой художник показывает, что природа и человек одно целое, а искусство - это сотворчество с природой. Создателей нового стиля, будь то архитекторы, художники или модельеры, объединяла идея, что искусство способно изменить мир. Она звучала практически в унисон с надеждой Ф.М. Достоевского на то, что "красота спасет мир". Мечтой модерна было наполнить утонченной красотой все окружение человека - от архитектуры до костюма.
В "Прекрасную эпоху" одновременно существовали два направления моды: одно культивировало рафинированное изящество утонченной дамы, похожей на цветок, другое развивалось в русле феминистского движения и стремления к комфорту в одежде. Модный журнал "Дамский мир" в начале века провозглашал, что "самая благородная, самая возвышенная роль, которая присуща женщине, - та же, что роль цветка в царстве растительном: распространять очарование, поэтизировать существование, внушать любовь". Художники и поэты идеализировали женщину, хотели видеть в ней Прекрасную Даму - воплощение мечты о совершенстве.

К.Степанов. Портрет княгини Зинаиды.Юсуповой
Чувственное понимание красоты, идеал которого - женщина, подобная изящному цветку, отразилось и в создании костюма. В первую очередь роскошных и дорогостоящих вечерних и бальных нарядов. Тонкий "стебель" фигуры в платье из бархата или шелкового шифона, украшенного кружевом или искусной вышивкой, венчал прекрасный "бутон" - прическа из пышно взбитых волос или большая шляпа. Женский силуэт определяла нарочито искусственная, вычурная линия S-образного изгиба фигуры, формируемого корсетом и усиленного спереди мягким лифом с напуском, так называемой "голубиной грудкой". Юбка плотно охватывала бедра и веером распускалась к полу, заканчиваясь треном. В подобном наряде предстает З.Юсупова ли графиня М.Келлер, чей портрет в жемчужных тонах создал неподражаемый Л.Бакст.

Своего рода униформой работающих женщин были вышитые блузки светлых оттенков, однотонные темные юбки в форме колокола, суконные жакеты. Весь образ говорил о стремлении к простоте, практичности и удобству. В таком костюме комфортно самостоятельно перемещаться по городу пешком или запрыгивать на подножку трамвая, чтобы успеть вовремя на рабочее место медсестры, телефонистки, портнихи, машинистки, учительницы. Многолетние усилия феминисток не пропали даром: в начале ХХ в. многие женщины получили долгожданную возможность работать и зарабатывать.

В таком костюме предстает знаменитый модельер эпохи Н.Ламанова на неоконченном портрете кисти В.Серова. Она обеспеченная дама, но ее наряд подчеркивает, что прежде всего она - профессионал своего дел
Об одежде учащихся девушек остались занятные воспоминания одного профессора, которые приводит в своей книге советский театральный художник по костюмам Раиса Захаржевская: "Когда я был студентом, я ухаживал за "лампочкой"... Так называли курсисток, учащихся высших женских курсов. Шляпа канотье на голове, широкие пелеринки на плечах и узенькая талия, перетянутая кушаком, делали девушек издали похожими на керосиновые лампы со стеклянными абажурами".

Для прогулок и комфортных путешествий, которые вошли в моду в эпоху модерна, дамы предпочитали тальер - "холщовый или пикейный английский костюм - олицетворение всего практичного и полезного в отрасли дамского туалета". Как правило, он состоял из длинного жакета и слегка расклешенной юбки, выполненных из одной ткани, ранее использовавшейся лишь для мужской одежды. Л.Бакст полагал, что подобный женский костюм, столь поразительно схожий с мужским, создала "борьба за равноправие женщины и мужчины". Однако автором изобретения был английский портной Джон Редферн.
На рубеже веков для всех тех, кто приносит жертву на алтарь грации, блеска, великолепия и красоты, для всех них Париж был, есть и будет священным местом паломничества. Именно франц. модельеры задавали тон в европейской, американской и российской моде. Одна из самых богатых и знаменитых невест "Прекрасной эпохи", красавица Консуэло Вандербильт вспоминала, что в годы ее молодости (а это 1900-е) в Париже ул. Рю де ла Пэ была средоточием домов моды, и на дверях скромных магазинов приветственно красовались имена великих модельеров: Уорт, Дусе, Руфф. А внутри от прекрасных платьев, дорогих мехов и прозрачного белья просто захватывало дух. В Санкт-Петербурге таким местом был Невский проспект, в Москве - легендарный Кузнецкий Мост со множеством магазинов готовой элегантной одежды и портновских мастерских.
С середины XIX в. в обоих городах постепенно формировался собственный круг профессиональных мастеров иголки и нитки, скорее, художников, которые не только следовали за парижским dernier cri (последний крик моды), но и создавали индивидуальную моду. Столица славилась мастерской Е.Ивановой, которая еще в середине 1880-х годов приобрела громкую репутацию талантливой модистки и большую практику в бомонде. Она одевала императрицу Марию Федоровну и ее дочь вел. княжну Ксению Александровну. Мастерские Альбера Бризака, О.Бульбенковой, А.Гиндус работали как для дам императорского дома, так и других знатных светских красавиц "Прекрасной эпохи". В наши дни их имена постепенно возвращаются из забвения.
Большой московской знаменитостью в среде аристократии, богатого купечества и артистического бомонда была Н.Ламанова. Признанная уже современниками выдающимся художником по костюму, она шла в авангарде моды. Прекрасно ориентируясь в тенденциях франц. моды, Ламанова все же самостоятельно придумывала новые фасоны и отделки, представлявшие в выгодном свете даже самую сложную фигуру. Ведь, по ее мнению, "всякий человек, несмотря на все недостатки его тела от природы или от образа жизни, имеет право быть гармоничным".

Наряды от Ламановой были столь хороши, столь завораживающе прекрасны, что покоряли не только женщин. Так, Г.А. Леман, внук основателя кондитерской фабрики "А.И. Абрикосов и сыновья", вспоминал, как однажды, будучи в гостях у Надежды Петровны, увидал на одном из манекенов замечательной красоты платье тонкого теплого серого цвета, чудесно драпирующее фигуру. Изящный туалет впечатлил его столь сильно, что он "немедленно бухнулся на колени и положил этому платью-шедевру... земной поклон".
Именно Ламановой удалось придумать наряд, который можно назвать символом модерна в истории отечественной моды. Платье из лимонно-желтого бархата, того же оттенка шифона, с бархатными аппликациями по кружеву, декорированное изысканными цветами гортензии, вышитыми синелью (пушистый шнурок из шелка или бархата), было создано в начале ХХ в. для эффектного вечернего выхода последней императрицы, Александры Федоровны. Вероятно, она была чрезвычайно хороша в этом наряде. Сегодня он, вместе с еще 13-ю шедеврами "гения портновского искусства", бережно хранится в Эрмитаже и ждет очередного блестящего выхода.
В начале 2-го десятилетия ХХ в. женская мода взорвалась фейерверком ярких цветов и разнообразных силуэтов. Помимо новаторских идей франц. модельеров во многом виной тому был "русский след". Еще в 1894 г. журнал "Новь" писал: "Россия вызывает подражание у парижан своими экипажами, чистокровными рысаками, русской кучерской одеждой, упряжью, дорогими мехами и всей той царственной роскошью, с которою только русские способны обставлять себя за границею. Все русское производит фурор - его находят грациозным, красивым, а главное - в высшей степени роскошным и модным".
В 1900 г. это впечатление подкрепил грандиозный успех российских архитекторов, инженеров, художников, коллекционеров, ремесленников на Всемирной выставке в Париже. Тогда франц. министр промышленности и торговли А.Мильеран назвал российскую экспозицию "наиболее интересной приманкой на парижском празднике труда".
Апофеоз русского влияния на французскую, а значит, и мировую моду случился в 1910-х годах после гастролей в Париже Русских сезонов С.Дягилева, полностью изменивших эстетику модерна.
"Это необычайное явление - проникновение искусства в жизнь через рампу, отражение театра в повседневной жизни, влияние его на область моды", - вспоминал художник Мстислав Добужинский .Особый успех выпал на долю Л.Бакста - выдающегося художника дягилевских антреприз. "Его признал и "короновал" сам изысканный и капризный Париж", - отмечал Добужинский.
У Бакста получилось реализовать мечту модерна: приблизить красоту к повседневности, благодаря "тем новым откровениям, которые он дал в своих исключительных по красоте и очарованию постановках, поразивших не только Париж, но и весь культурный мир Запада".
Оформленные им в 1909 и 1910 гг. спектакли "Клеопатра" и "Шехеразада" пленили парижан пряным сказочным Востоком, привнесли в женскую моду изысканность ярких цветов, роскошь тюрбанов с перьями и затканных золотом тканей, пышное изобилие орнамента и украшений. На сцене, а потом и в моделях одежды Бакст отменил корсеты, предложил дамам юбки-шальвары и невероятные сочетания цветов: синего с золотым, зеленого с оранжевым, лилового и малинового. Позднее их назовут "бакстовскими". В 1915 г. после постановок в русском стиле зарубежная пресса констатировала, что "русские идеи начинают проникать в моду. Русская рубаха была принята, затем пришла отделка меха, имитирующая русскую манеру - с рисунков Бакста - и с этим высокие сапоги, меховые тюрбаны и реалистичное подобие русских головных уборов".
Наряды "от Бакста" покорили всех: от аристократок до танцовщиц. Покровительница искусств Луиза Казати, прозванная "богиней декаданса", заказывала художнику максимально экстравагантные наряды. Знаменитая танцовщица Русских сезонов Ида Рубинштейн, которую Бакст сравнивал с "тюльпаном, дерзким и ослепительным", также предпочитала эффектные выходы. Внешний облик женщины модерна кардинально изменился благодаря идеям художника. Она уже не томный изысканный цветок в блеклых оттенках, а "яркий фантастический цветок: ядовитое обольстительное растение, может быть - последняя Ева...".
Парижские законодатели мод - дома "Ворт" и "Пакен" - быстро уловили настроения обеспеченных и знатных клиенток и стали сотрудничать с художником, покупая у него эскизы. Прославленный кутюрье Поль Пуаре предлагал Баксту за 12 рис. модных туалетов астрономическую сумму в 12 тыс. франков. Покупала у художника эскизы и Н.Ламанова.
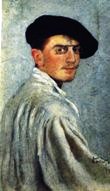
"Бакст сумел ухватить тот неуловимый нерв Парижа, который правит модой, и его влияние в настоящую минуту сказывается везде в Париже - как в дамских платьях, так и на картинных выставках", - писал в 1911 г. поэт М.Волошин. Мода была настоящим искусством для остро чувствовавшего красоту и дух времени талантливого художника. Само слово "Мода" он писал с большой буквы и вопрошал: "Разве артист-художник не призван к тому, чтобы выразить в костюме идеи своей эпохи?"
Модерн - самый женственный и романтизируемый стиль в истории моды — пролетел как яркая комета и сгорел в атмосфере динамичного, технологичного и эмансипированного ХХ в. Куда исчезли те пленительные музы, нимфы, чистые лилии, розы любви, Аспазии и Клеопатры?
"Я не думаю, чтобы рационализм был вам выгоден. Я на вашем месте ненавидел бы всех сторонников эмансипации, которые хотят уравнять вас с мужчиной. Они толкают вас в яму", - писал еще на заре столетия франц. писатель Анатоль Франс. И предостерегал прекрасных дам: "Берегитесь: вы уже утратили какую-то частицу вашей загадочности и прелести. Правда, еще не все потеряно: из-за вас еще дерутся, разоряются, кончают жизнь самоубийством; но в трамвае молодые люди не уступают вам места, оставляют вас стоять на площадке. Культ ваш угаснет вслед за другими старинными культами".
После заката "Прекрасной эпохи" прошел целый век, и может показаться, что предсказание Франса оказалось пророческим. Но в моде последних лет женственность постепенно вновь прокладывает себе дорогу, как нежный цветок, упрямо прорастающий сквозь асфальт.
Татьяна Нагорских
05.10. 2024. журнал "Русский мир"
https://rusmir.media/2024/10/05/modern
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 13 Янв 2025, 16:19 | Сообщение # 18 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | НАПИТКИ САМОЙ ЛУЧШЕЙ ДОБРОТЫ

Пиво считается одним из самых древних напитков в мире. Ученые обнаружили высеченные на камне письмена, относящиеся к 7000 г. до нашей эры, в которых зашифрованы рецепты напитка, схожего с пивом. Пивоварение жителей Вавилона многим было похоже на современное производство. Они пекли пивной хлеб, заливали его водой и оставляли бродить, полученную субстанцию отделяли от остатков хлеба и придавали аромат. В Европе напиток, похожий на пиво, был замечен также в древние времена. Например, на территории древней Испании (VI-V вв. до н.э.) местные жители варили хмельной напиток, который они называли Caelia.
На древней Руси изначально под пивом подразумевался вообще любой напиток. Об этом говорит этимологический анализ термина «пиво», которое буквально означало «пить». Первое упоминание о пиве у западных славян относится к 448 г., когда венгры угощали этим напитком греческих послов. Так как тенденция изготовления пива в древние времена распространялась с южного побережья Средиземного моря на европейский материк, южные славянские племена при набегах на Скифское государство наверняка могли свободно перенять способы приготовления хмельного напитка у скифов. В VI-VIII вв. при расселении и укреплении славянских народов сформировались традиции приготовления основных питейных напитков: пива, кваса, меда и взвара. Эти напитки объединял схожий способ приготовления.
Для получения опьяняющего действия в воде растворяли злаки зерновых или хлебно-мучные продукты, пчелиный мед или сок растений, а затем оставляли бродить. В Древней Руси пивоварение носило ритуальный характер. Оно было тесно связано с общественными традициями того времени и религией. Обычно пиво варили в деревнях к большим религиозным праздникам: на Пасху, Масленицу, Рождество и Дмитриевскую родительскую субботу. Пьянство на Руси не приветствовалось. В дом. условиях пиво варилось в глиняных корчагах. В них веером раскладывали ржаную солому, засыпали солодом, заливали водой, и ухватом ставили в русскую печь томиться на 18 час. Затем занимали: через спусковое отверстие сусло стекало по корыту в ушаты и бочки. Затем добавляли опарные дрожжи, и чем дольше пиво стояло, тем крепче оно получалось.

Варить пиво мог каждый желающий от крестьянина до чиновника и дворовых людей при князе. В VII-IX вв. пиво варили из проса и ржи, которые были широко распространены у славянских народов. С развитием земледелия и увеличением выращивания пшеницы и ячменя в Х-ХI вв. пивоварение постепенно перешло на употребление ячменного солода и муки. Почитание пива в то время олицетворяет поступок вел. князя Владимира в 996-997 гг., который повелел «для дряхлых и больных нищих вкладше мед и пиво в бочонках, в других квас, возити по народу».
Использование хмеля кардинально изменило развитие пивоварения на Руси. Впервые о нем говорится в Лаврентьевской летописи 985 г. Сначала качеству хмеля много внимания не уделяли, так как его использовали против скисания напитков. Только позднее заметили, при добавлении хмеля усиливается опьяняющее действие, поэтому во многих славянских языках после употребления хмеля любые алкогольные напитки стали называть хмельными. В Киевскую Русь хмель в основном привозили из Европы. В XIV в. хмель стали культивировать и в русских землях. В XI в. на Руси стали появляться питейные заведения – корчмы, в которых люди проводили время за едой, распитием пива и меда, общались, слушали песни и музыку. Помимо простого общения, там проводились суды, разбиравшие споры местных жителей, а также приезжих. Владельцы корчем платили пошлины – «корчмити» за возможность продавать еду и напитки. Об это говорится в уставной грамоте 1150 г. смоленского князя Ростислава Мстиславовича, принятой через 4 года после упоминания в летописи имени древнего русского города Ельца, ставшего впоследствии флагманом пивоварения в Центральном Черноземье.

Со временем развернулась торговля иностранным пивом, которое сначала доставляли из Голландии, а затем из германских земель. Новгородские купцы, контролировавшие устье Невы, активно торговали хмелем и хмельными напитками с Ганзейским союзом. Но в середине XIV в. новгородцам стала невыгодной продажа иноземного пива, а в 1350 г. собрание общинных купцов ввело запрет на торговлю пивом на Готском дворе для иностранцев. Таким образом, постепенно в удельных княжествах выварка пива и его продажа из рук иностранных купцов перешла в руки государства. В XIII-XV вв. произошел рассвет медоварения. Тому содействовало сокращение завоза вина из Византии, а после падения Константинополя его окончательное прекращение. Распространение медоварения также было стимулировано развитием бортничества и началом пасечного пчеловодства. Однако сложность производства хорошего меда, узкий круг его потребителей и уменьшение медовых запасов в хозяйствах требовало поиска новых вариантов получения хмельных напитков, более дешевых и простых. Поэтому к началу XVI в. пивоварение, а затем и винокурение заняли главные места в производстве алкогольных напитков на Руси, оттеснив медоварение на третьи роли.

По мнению иностранцев, посещавших Московское государство в XV в., русское пиво было вкусным, но мутным. Причина в том, что в те времена в пиво могли добавлять патоку или ягодные смеси. Такой пивной напиток назывался «поддельным». В наше время наличие в составе пива мальтозной патоки говорит экспертам о том, что сварен продукт не только на солоде, следовательно, вкус его заметно хуже. Повсеместно в XV-XVI вв. стал распространяться напиток «перевара» – смесь пива и меда, имевший крепкий вкус. Повсеместные и отрицательно влияло на производительность труда населения. Из-за этого вел. князь Василий II (Темный) во время своего правления (1415-1462) запретил простому люду заниматься пивоварением, присвоив это право казне. Свободное корчемство тоже подвергалось запретам и как результат, в период после смерти Е.Глинской на Руси стали появляться первые царские корчемные дворы.
Развитие пивоварения в допетровской России Ивана IV Грозного, как и его предшественников не устраивало положение с повсеместным пьянством. Своей грамотой 27 декабря 1547 г. он ограничил употребление алкогольных напитков, о чем повествуется в летописи, а в 1552 г. запретил духовенству посещать питейные заведения. Принятые первым русским царем антиалкогольные меры косвенным образом содействовали повышению качества пенного напитка. Во многом благодаря суровости указов, которые регулировали производство и продажу пива и меда, способы приготовления и хранения хмельных напитков в Московском государстве постепенно стали улучшаться. Вместе с тем со 2-й половины XVI в. на Руси появляется тенденция подменять хмельные напитки относительно небольшой крепости крепкой – винокуренной продукцией. Дело в том, что корчмы должны были выплачивать спец. оброк, который зависел напрямую от реальной выручки заведения. И вскоре у корчем появилась жесткая альтернатива – кабаки – спец. заведения, где гостей угощали крепким алкогольным напитком – водкой. И вскоре эти заведения стали одними из лучших инструментов наполнения казны деньгами.
Первый кабак возник на Руси в 1552 г. В нем было запрещено подавать горячие закуски (именно горячие, а не закуски вообще). К концу XVI в. кабаки получили распространение на всей территории Московского государства. Производить хлебное вино (водку) могли бояре и духовенство. При этом оказалось, что продавать в кабаках водку без закуски намного прибыльнее, чем торговать в корчме более слабым медом и пивом, да еще с закуской. Что касается пива, то в конце XVI в. – 1-й четверти XVII в. в России действовал запрет на его свободную продажу. Горожане могли варить пиво только в исключительных случаях, для религиозных целей и праздников. При Б.Годунове были введены возрастные ограничения на изготовление алкогольных напитков, согласно которому детям и юношам запрещалось заниматься пивоварением. За нарушение этих правил следовали суровые наказания.
Если говорить непосредственно о Ельце, то известна история елецкого кабацкого откупщика Т.Волкова, взявшего местный кабак в аренду в 1620-е гг. В городе велись спец. книги, в которых вносились данные о горожанах, плативших деньги за право изготовления алкогольных напитков к церковным праздникам, в том числе и пива. Известно, что часть книг была впоследствии опубликована, став важным источником по истории пивного дела в России. После окончания Смуты в России торговлей пива, вина и меда в кабаках могли заниматься назначенные купцы или посадские люди, так называемые кабацкие головы. До 1667 г. они отчитывались перед правительственными чиновниками, а позднее перед земскими старостами. Что касается крестьян, то в этот период им дозволялось заниматься пивоварением только для дом. употребления. Более того, делать это можно было только несколько раз в году – во время праздников.
К 1651 г. откупная система постепенно прекратила свое существование. 11 августа 1652 г. в присутствии царя Алексея Михайловича состоялось собрание патриарха Никона, церковных иерархов и членов боярской Думы, на котором обсуждалась дальнейшая судьба кабаков и корчемства. Было подтверждено и одобрено царское решение о казенной монополии на приготовление и торговлю всех хмельных напитков, но просуществовала она не больше года. С 1 сентября 1664 г. кабаки снова стали откупными, а в июне 1654 г. Алексей Михайлович ввел пеню за корчемство в виде уплаты за своеобразную лицензию. В это время определенной цены на хмельные напитки не было, продавали, как было выгоднее. И только в 1681 г. цену на пиво и мед решили все-таки связать с ценой закупаемого пивоваренного сырья. С течением времени власти начали приходить к мнению, что ценам на пиво и мед необходимо быть фиксированными. Так, в 1696 г. голова гостиной сотни И.Вихляев офиц. определил цену на пиво и мед за ведро. Однако в те годы еще не было определенных стандартов объема, поэтому проконтролировать точное приготовленное количество казенного пива и меда не представлялось возможным.
В 1697-1698 гг. когда молодой царь и будущий император России Петр I ездил по Европе и знакомился там с производством англ. и голландского пива. Его интерес к этому понятен: в XVI-XVII вв. англ. компании занимали лидирующие позиции на рынке пива. Царь старался перенять у англ. пивоваров как можно больше рецептов и способов производства их традиционного напитка, чтобы в дальнейшем готовить похожие сорта пива у себя на родине. Он и сам пристрастился к пиву, производимому англичанами и голландцами. Любовь царя к этому напитку разделяла его младшая сестра Наталья. Царь верил в то, что пиво служит профилактикой цинги. Начавшаяся Северная война со Швецией за обладание побережьем Балтийского моря потребовала больших вложений. Для пополнения казны Петр I в 1705 г. ввел изменения в откупную систему в отрасли производства хмельных напитков. Для поддержки российского пивоварения Петр I пригласил из Англии опытных пивоваров.
В России в этот период сильной нехватки знающих мастеров пивного дела не наблюдалось, но тяга ко всему иностранному, особенно в высшем обществе, привела к увеличению спроса в нем на пиво, сваренное иностранцами. Простой же народ пил пиво своего приготовления, на данный момент его могли позволить себе варить помещики и крестьяне. С 1710 г., после присоединения Балтии (Риги) к России, многие купцы стали перенимать способы производства пива у местных пивоваров. С 1716 г. для помещиков стало доступным свободное винокурение и пивоварение. Особая роль отводилась пиву при строительстве Петербурга. Этим напитком утоляли жажду строители, возводившие город. Архитекторов угощали особыми темными сортами, доставленными из Англии, простым же рабочим доставлялось пиво местных пивоварен, произведенное с учетом многовековых русских традиций.

Во 2-й половине XVIII в. все больше нарастает популярность пива на англ. манер. Это было следствием введения в 1767 г. новых изменений откупной системы в центральноевропейских губерниях. Чтобы справиться с этим нововведением откупщикам пришлось повысить цены и на отечественное пиво. Екатерина II была не только просвещённой императрицей, но и слыла знатоком пива. В годы ее правления производство пива в России приобрело промышленные масштабы. Существует легенда, что отец Екатерины в качестве свадебного подарка прислал дочери родное нем. пиво, сваренное в Цербсте. Есть также сведения, что, став во главе государства, она ежегодно заказывала в Лондоне огромную партию крепкого темного пива. Императрица также призвала нанимать в русские пивоварни англ. мастеров. Как результат, импорт пива в Россию за время правления Екатерины вырос в десятки раз. Английский путешественник Вильям Кокс вспоминал в 1784 г. свой визит в Петербург: «...никогда не доводилось мне пробовать лучшего и более насыщенного английского пива и портера». С 1793 г. по 1795 г. пива в страну ввезли на сумму в 500 000 руб.
.
В 1795 г. Абрахам Фридрих Крон – придворный пекарь при Екатерине II и его друг Фридрих Николаус Даниельсон не без помощи императрицы открыли завод по производству пива, который к концу XVIII в. занял лидирующие позиции в этой сфере и сыграл немаловажную роль в развитии пивоварения в России в последующие годы. Ф.Н. Даниельсон в совершенстве владел традиционным англ. способом приготовления пива, по которому оно и приготавливалось на заводе. В 1818 г. двух друзей и партнеров за производство высококачественной продукции наградили золотыми медалями «За полезное». За свои заслуги они могли ставить на своей продукции имперский герб. В 1827 г. в связи со смертью родоначальников завода фирму разделили. Сын А.Крона Фридрих Александр Крон получил завод в Санкт-Петербурге, сыновья Ф.Даниельсона – завод в Москве.
Так как возрастал спрос на «англ. пиво», у русских пивоваров появилась необходимость как-то изменить свое производство. И когда в 1802 г. калужский купец Афанасий Потапов попросил у властей о разрешении использования собственных сил и сырья для производства пива, похожего на англ. и реализации его, ответ был положительным. Однако начиная с 1795 г. из-за действующей системы откупов и последующем росте винокуренной отрасли производство пива стало терять свои позиции. Поэтому в 1805 г. было разрешено продавать пиво в трактирах, но по определенным условиям, а с 1807 г. торговля пивом обособилась от винной. В 1811-1819 гг. в откупную систему снова вводят поправки, теперь в каждом городе одного округа за продажу алкогольных напитков отвечал один откупщик. В его обязанности входили закупка сырья, контроль производства, определение количества и хранение готовой продукции. Как и раньше, предпочтение отдавалось водке, так как она крепче пива и выгоднее в продаже.
23 января 1819 г. вышел Сенатский указ «Об акцизе с пивоварения». Это означало, что теперь разрешалась свободная торговля пивом и медом с выплатой акциза. Акцизом облагались заготовленные емкости пива на следующий год в размере 1 рубль на ведро. Информация об объеме заготовленного пива подавалась перед Новым годом, после одобрения емкости опечатывались казенной печатью. Производство пива производилось по билетам от питейного сбора, и при получении этих билетов оплачивали акциз. В это время пивоварением для себя, за которое не платили акциз, могли заниматься только деревенские жители. С разрешением на свободное производство и продажу пива наблюдалось увеличение числа предприятий, связанных с этой отраслью. В период свободного пивоварения и торговли число заводов существенно увеличилось. В 1817 г. было зарегистрировано 877 предприятий мануфактурного и сельскохозяйственного типа.
Как ни странно, правительство опять замечает уменьшение казенных продаж водки, поэтому по предложению министра финансов графа Е.Ф. Канкрина оно решает воспрепятствовать продаже пива, введя в 1827 г., хорошо показавшую себя откупную систему. Вместе с тем, в правительстве находились люди, которые хотели прекратить существование откупной системы еще в 1852 г. Но в тот период это не было возможным из-за Крымской войны. Размеры откупов, наоборот, решили увеличить, что привело к неизбежному падению с начала 60-х гг. XIX в. объемов производства и торговли пивом. В 60-70-е годы XIX в. крупные предприятия в производстве пива начинают использовать приборы и аппараты, схожие с техникой начала XX в., тем самым вытесняя с рынка небольшие пивоварни XVIII в., с ручным пивоварением. Техника на них была западного производства, как и посуда с инвентарем. Русское машиностроение постепенно начинало развиваться в этом направлении, и уже в начале 1880-х годов на заводах можно было встретить первое русское пивоваренное оборудование.
Еще одним важным условием для дальнейшего развития пивоварения было наличие собственного хмеля у пивоваров, а с этим были проблемы. К 1870-м гг. хмелеводство в России находилось в упадке, для пивоварения использовали в основном привозной хмель. В 1873 г. правительство предприняло ряд мер для его развития: устраивались выставки, спонсировалось разведение лучших сортов заграничного хмеля. И результат не замедлил себя ждать. Уже в 1880-е гг. отечественные хмелеводы стали экспортировать хмель за границу. С 1881 г. стал выходить журнал «Архив русского пивоварения», который просуществовал почти 15 лет. Во многом благодаря этому издания произошла популяризация отечественной техники. В нем пивовары узнавали о технологических новшествах на предприятиях, об устройстве иностранных и отечественных аппаратов, о тех. новинках. Они также получали информацию об актуальных вакансиях на пивоваренных заводах.
Стремительное техническое развитие крупных заводов привело к тому, что к началу 90-х годов XIX в. примитивные пивоварни, стали редкостью. Этот процесс наблюдался и в Ельце, когда купец 2-й гильдии К.К. Кронберг основал свою знаменитую «Елецкую Баварию». Пиво потребляли в основном горожане и рабочие фабрик в сельской местности. Крестьяне же предпочитали покупать водку. Ведро водки стоило 5 руб., ведро пива - 1 руб., что в пересчете на градус алкоголя составляло соответственно 12,5 и 25 коп. В бытовых условиях тогдашнего крестьянства количество алкоголя ценилось выше всего. Подобная ситуация вызывала беспокойство правительства, которое стало постепенно ограничивать продажу высокоградусной алкогольной продукции.
14 мая 1885 г. был принят закон, запрещавший городским и сельским обществам продажу крепких алкогольных напитков. Одновременно сильно сократилось число портерных лавок, которых заменили организацией продажи пива навынос. Теперь пенный напиток можно было продавать во многих общественных местах, но особого результата это не принесло. И тогда для решения проблемы был принят «Устав Попечительств о народной трезвости», повсеместно стали действовать сотни отделений Всероссийского Общества трезвости. Следующим важным шагом Александра III, задумавшего промышленный рывок и полагавшего, что шансов на то с полупьяными рабочими и крестьянами у него нет, стало принятие в 1893 г. закона о «винной монополии». С конца XIX в. и в начале XX в. пивовары старались отстаивать свои интересы в правительстве, чтобы остаться на плаву в то время, когда потребление пива было на низком уровне. Одной из причин тому служила позиция ряда правительственных чиновников, по-прежнему считавших, что государству для пополнения казны следует поддерживать производство водки, а не пива. Для того, чтобы отстаивать свои корпоративные интересы, российским пивоварам следовало объединиться. В 1896 г. был образован «Союз пивоваренных заводчиков России», просуществовавший до начала XX в. В его задачи входило устройство школ пивоварения, демонстрационных учебных заводов, испытательных лабораторий для изучения сырых материалов, пива, воды и остального сырья для пивоварения. Союз также испытывал новые аппараты и технику, способы производства пива и др. технологические изобретения. У Союза был свой журнал – «Вестник русского пивоварения», который освещал их деятельность.
13 февраля 1907 г. в Петербурге появилась организация «Союз пивоторговцев Санкт-Петербурга с пригородами». Подобная организация была основана и в Москве в 19 мая 1908 г. Также с 1906 г. в Санкт-Петербурге стало существовать «соглашение» пивозаводчиков. У этой организации не было устава, и все ее функции выполнялись на взаимной вере среди участников. Для пивоваренной отрасли начала XX в. было характерно объединение предпринимателей. В связи с этим в марте 1907 г. один из таких предпринимателей и по совместительству писатель Н.Г. Поздняков (Ухтомцев) стал выпускать газету «Эхо столичной пивоторговли», которая через год стала двухнедельным журналом «Эхо пивоварения и пивоторговли». Это издание стало важным инструментом для продвижения на российский рынок производителей и торговцев пива.

1 января 1902 г. правительство ввело поправки в акцизную систему. По новому закону размер акциза зависел от веса солода, используемого в производстве пива. Теперь в процессе пивоварения нельзя было использовать ничего, кроме солода, воды, хмеля и дрожжей, а также разбавлять пиво водой или другими добавками после его приготовления. С изменением акцизной системы в начале XX в. отсеялись мелкие пивоварни, которые не смогли соответствовать новой системе взимания акциза, зависящей от нормы выхода экстракта. Более полное его извлечение было возможно лишь на крупных предприятиях с хорошим тех. оснащением. Новый вызов пивоварам был брошен в начале 1914 г. 20 января этого года Госдума приняла закон о борьбе с пьянством, который запрещал продавать пиво в течение 150 дней в году. В том же году состоялись несколько заседаний Совета Съездов представителей промышленности и торговли, на которых ставился вопрос о сохранении пивоварения, так как в течение года правительство вносило все больше поправок, вводя все новые запреты на продажу пива.
Однако все старания в борьбе за трезвость 1 августа 1914 г. стали не актуальны с началом Первой мировой войны. По распоряжению правительства было решено закрыть все пивные лавки. Позже часть производственных помещений, транспорт и запасы топлива, принадлежавшие отечественным пивоварам, были направлены для нужд армии. 22 января 1915 г. по инициативе министра финансов был принят закон о понижении крепости пива и повышении акцизов на пивоварение. Многим предприятиям, чтобы не обанкротиться, приходилось перепрофилироваться в кратчайшие сроки. Они начали выпускать малоалкогольную продукцию или превращаться в винокуренные заводы, чтобы производить спирт для нужд армии. Возрождаться в нашей стране пивоварение стало только в период НЭПа.

...Известный сегодня многим москвичам Центр современного искусства «Винзавод» имеет почти двухвековую историю производства на этом месте различных напитков. Речь идет о деятельности существовавшей на данной территории в 1-й половине XIX в. пивоварни, основанной выходцем из Гамбурга Фридрихом-Николаусом Даниэльсоном, ставшим в России Фридрихом Николаевичем. Он родился в Гамбурге. В последние годы царствования Екатерины II перебрался в Санкт-Петербург. До приезда сюда успел пожить в Англии, где работал на одной из пивоварен и познакомился с различными тонкостями производства пенного напитка, а в 1795 г. вместе с компаньоном Абрамом Кроном открыл в Санкт-Петербурге напротив Александро-Невской лавры пивоваренное производство. Проект оказался успешным, и вскоре сваренное на новой пивоварне пиво начало пользоваться большим спросом. Предприятие активно работало до 1812 г. Высокое качество выпускаемой здесь продукции было оценено по достоинству: пивовары удостоились золотых медалей «За полезное» для ношения на Аннинской ленте. 24 мая 1821 . Комитет министров разрешил купцам А.Крону и Ф.Даниельсону «устроить в Москве завод для варения пива на манер Английского наподобие такого же их завода в Петербурге и удовлетворил просьбу Крона и Даниельсона на следующих положениях: чтобы они за временное пивоварение платили из каждого ведра жидкости, в заторных чанах вмещающихся, по 60 коп. Для вернейшего учета учредить над их магазинами, из которых солод будет отпускаться, надзор».
Решение перенести производство из Санкт-Петербурга в Москву обусловливалось стремлением сократить издержки, связанные с доставкой пива в отдаленные губернии России, где спрос на него также оказался значителен. Последнее обстоятельство, по мнению предпринимателей, служило «лучшим доказательством доброты сих напитков и умеренности цен оных»..В продажу пиво с новой пивоварни начало поступать с 1 февраля 1822 г. Цена бочки портера и эля была одинакова - 130 руб., бочка полпива («легкого», сваренного на вдвое разведенном сусле) стоила от 60 до 75 руб. Наряду с этим пивоварня оказывала услуги по отправке своей продукции в другие города. Для этого покупатели дополнительно платили 15 руб. за обшивку и 5 руб. за увязку тары. На пивоварне пытались внедрить многоразовое ее использование: «Те же, кои возвратят порожнюю бочку, получат тотчас обратно заплаченные или оставленные в залоге 15 руб».
Кроме пива, предлагались дрожжи, квас и кислые щи. Московская пивоварня, располагавшаяся в Сыромятниках (историческая местность на территории современного Басманного района), была устроена по примеру тогдашних лондонских. Воду из Яузы подавал спец. насос. Солодовню (помещение, где готовят зерно для солода), спроектировали так, чтобы расходовать минимальное количество дров. Имелся холодильник с проточной водой, в котором сваренное пиво сохранялось в жару. В одном из путеводителей по Москве говорилось: «Сия фабрика, любопытная во всех своих отношениях, в особенности отличается чистотою в приготовлении различных родов хорошего пива и портера».
По соседству с пивоварней Даниэльсона в Сыромятниках функционировала еще одна, пытавшаяся с ней конкурировать. В доме купца Дунаева Прокопий Мушников варил пиво опять же на манер английского. Ставка им делалась на различные добавки. Покупателям предлагалось пиво розовое, коричневое, лимонное, апельсиновое, малиновое, миндальное, имбирное, померанцевое. Продукция реализовывалась на самой пивоварне, а также в портерной лавочке в доме купца Шевалдышева на Никольской ул.; пиво можно было покупать как бочками, так и бутылками. Окончательно обустраивать свою пивоварню Даниэльсон и Крон закончили только к осени 1822 г. В осенней рекламе фигурировали те же цены, что и весной. Теперь обещали разливать пиво из бочек в бутылки - при условии, что заказчик предоставит бутылочную тару и пробки.
Кроме самой пивоварни, пиво продавалось в портерных лавках, расположенных на Ильинке в доме Плотникова, в Зарядье в доме Шмагина, на Рождественке в доме князя Оболенского, на Поварской в доме купца Черняева. Иногородние клиенты снабжались спец. печатным руководством, в котором рассказывалось о том, «каким образом поступать с пивом при привезении оного на место так, что оное при самых жестоких морозах останется при полной своей доброте».
В 1823 г. пивоварня продолжила расширять сеть портерных лавок. К существовавшим ранее добавились торговые точки на Пятницкой в доме Синявской, на Покровке в доме Карпова, на Тверской в доме Мироновского и близ Сухаревой башни в доме Сапожникова. Весной 1823 г. случился период, когда, по сообщениям в «Московских ведомостях», сваренное Даниэльсоном и Кроном пиво «не имело надлежащей доброты». В чем конкретно это заключалось, неизвестно, однако вскоре владельцы пивоварни заявили, что все проблемы с качеством устранены.Так или иначе, продукция пивоварни становилась все популярнее. Во 2-й половине 1823 г. в сети портерных наблюдался даже дефицит ряда сортов. Нехватка «пива № 2» была ликвидирована только в октябре. Одновременно «Московские ведомости» извещали читателей: «Пиво же Английское № 1 равным образом в скором времени поступит в продажу».
В 1824 г. появились еще 2 новые портерные - на Пречистенке в доме священника Петрова и на Полянке в доме Фоминцевой. Стремясь сэкономить на таре, пивоварня объявила о приеме обратно своих пустых бутылок по 18 коп. за штуку. С 1 июля цена полпива составляла 30 коп. за бутылку и 4 руб. за ведро...
https://archive.obe.ru/wp-content/uploads/2023/05/7.-Orishev.pdf
https://mosjour.ru/article/577-napitki-samoy-luchshey-dobroty
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 16 Мар 2025, 15:05 | Сообщение # 19 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | РУССКАЯ АТЛАНТИДА
О затопленных землях Рыбинского водохранилища
Остро нуждаясь в электрификации страны, советская власть приступила к реализации проекта, предусматривавшего строительство на Волге каскада ГЭС и сооружение регулирующих сток водохранилищ. Первой в списке шла Рыбинская ГЭС, и 14 сентября 1935 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о создании на Волге и ее притоках Шексне и Мологе Рыбинского водохранилища, которое планировалось как самое большое в мире искусственное озеро. Оно должно было не только вырабатывать дешевую электроэнергию, но и обеспечить прохождение по Волге судов большого водоизмещения. С 1936 г. началась подготовка затопления Молого-Шекснинской низменности.
Еще задолго до революции предпринимались шаги к электрификации России: было организовано «Общество электрического освещения 1886 г.», и первые крупные электроэнергетические объекты, считавшиеся огромным достижением советской власти, начали осуществляться еще до Октябрьского переворота. Так, Волховская ГЭС начала строиться в 1910 г., а Днепрогэс и Волго-Донской канал – в 1912-ом. Достигнутая суммарная мощность электростанций России перед революцией составляла 1,4 млн кВт. В 1903 г. на II съезде инженеров-гидростроителей был составлен масштабный проект «Большая Волга», в котором были предусмотрены практически все построенные в дальнейшем волжские водохранилища, включая Рыбинское. Фактически это был тот самый план ГОЭЛРО, который впоследствии присвоили себе Ленин и Г.М. Кржижановский. В то время никому из его проектировщиков и в голову не приходила мысль затопить населенные пункты при строительстве ГЭС.
Первоначальный советский проект создания Рыбинского водохранилища предполагал затопление 2500 кв. км и подъем воды до 98 м, то есть без затопления населенных пунктов. Однако в 1937 г. молодые, амбициозные проектировщики из института «Гидростройпроект» с комсомольским задором сумели убедить правительство поднять подпорный уровень воды до 102 м. Они мотивировали свой проект увеличением мощности гидростанции с 200 до 330 тыс. кВт. По новому проекту количество затапливаемых земель увеличивалось почти вдвое. Именно эти 4 м (с 98 м до 102 м) стали роковым приговором для города Мологи и всей территории Молого-Шекснинского междуречья. Строительство Рыбинского гидроузла началось в 1935 г. у деревни Переборы, чуть выше места впадения реки Шексны в Волгу. Здесь был организован в системе НКВД Волголаг – волжский исправительно-трудовой лагерь, куда направляли десятки тысяч заключенных, в основном осужденных по 58-й статье, то есть политзаключенных.

Котлован часто рыли вручную за неимением нужного количества экскаваторов. Заключенным часто приходилось часами стоять в холодной воде. Одновременно со строительством гидроузла шла подготовка к затоплению территорий для водохранилища. Осенью 1940 г. русло Волги перекрыли, а 13 апреля 1941-го началось заполнение чаши водохранилища, хотя его ложе не было полностью подготовлено к этой операции.

Вид строительства водосливной плотины ГЭС.
Рыбинское водохранилище и ГЭС были введены в эксплуатацию осенью 1941 г. В то время до проектной отметки наполнить Рыбинское водохранилище не удалось – не хватило объема весеннего половодья. Помешала завершить затопление и Отечественная война, и только в 1947 г. нужный по плану уровень был достигнут. Что же дало стране введение в эксплуатацию искусственного моря и почему все материалы, связанные с его строительством, попали под гриф «совершенно секретно»?
К положительным результатам следует отнести тот важный факт, что во время ВОВ, когда враг вплотную приблизился к Москве, новая ГЭС обеспечивала энергоснабжение заводов столицы.Волга стала полноводнее, за счет чего обеспечивался судоходный подход к каналу им. Москвы. Создание рукотворных морей Волжско-Камского каскада, в том числе и Рыбинского водохранилища, превратило Москву в порт 5-и морей, а саму Волгу – в гигантскую техногенную систему, которая обеспечила функционирование гидроэлектростанций, водоснабжение крупных экономических регионов Поволжья. Подпор от Рыбинских плотин распространился по Волге на 120 км, по Мологе – на 226 км, по Шексне – на 326 км. На эти расстояния реки стали судоходными. Путь из Рыбинска до Череповца сократился на 77 км, до Весьегонска – на 40 км. Рыбинское море стало лабораторией Института биологии внутренних вод РАН.
Негативные последствия возникновения рукотворного моря: по офиц. данным, 150 тыс. заключенных-строителей навечно остались лежать в верхневолжской земле. По данным других исследователей, например, Кима Катунина, бывшего узника Волголага, в этом лагере нашли свою смерть 880 тыс. строителей. Были велики экономические потери. На площадях, подлежавших затоплению, располагались 408 колхозов, 46 сельских больниц, 224 школы, 258 предприятий местной промышленности. При заполнении водохранилища были разрушены и затоплены 663 деревни с 26 тыс. дворов; более 4-х тысяч попали в зону подтопления.

Добротные деревянные дома разбирались и переправлялись на плотах на новое место, старые – сжигались. При строительстве водохранилища в принудительном порядке выселили на новые места 130 тыс. чел. Недовольных было много. Люди были вынуждены оставить свои каменные дома, которые, чтобы не мешать судоходству, взрывались саперами. Переселенцы с болью оставляли созданные многолетним тяжким трудом хозяйства, могилы своих родных. С 1937 г. по рекам Мологе, Шексне и Волге плыли десятки плотов с переселенцами, их пожитками, даже с коровами. Не всё имущество и скот им удалось перевезти на новое место. Изгнанные с веками обжитой территории, люди молчали из страха быть объявленными «врагами народа», а самых активных противников переселения и агитаторов отправляли на стройку в Волголаг, где требовалась рабочая сила. В местах затонувших кладбищ позже всплывали черепа, кости, полусгнившие кресты.

Разрушенная Входоиерусалимская церковь
Ушел под воду богатый своей историей город Молога, упоминавшийся еще в летописях середины XII в. В 1914 г. в нем было два собора и три церкви, две гимназии, реальное училище, земская больница на 35 коек, амбулатория, к/т «Иллюзион», две публичные библиотеки, почтово-телеграфное отделение, любительский стадион, детский приют, две богадельни, столовая для бедных. Накануне затопления в нем проживало 7 тыс. жителей. В городе насчитывалось более 900 домов, из них около сотни каменных. Здесь располагался техникум, промышленный комбинат, машинно-тракторная станция, работали мельница, 200 магазинов и лавок.

Исчезнувший город Молога
Перед наполнением котлована Рыбинского водохранилища все каменные строения в городе, в их числе Богоявленский собор, были взорваны. При первом подрыве стены храма оторвались от земли и вернулись в прежнее положение, и лишь после четвертого взрыва собор рассыпался. И другие соборы Мологи обернулись грудами битого кирпича. Затопленный Молога стал городом-призраком, который в народе назвали легендарным «градом Китежем». Долгие годы не утихала боль об утраченной малой родине тех, кто жил в этом городе. 294 чел. отказались покидать свое жилье и имущество. Они предпочли смерть в собственных домах. Многие из них специально приковывали себя с помощью замков к громоздким предметам обстановки, чтобы исключить возможность насильственной эвакуации. Так и погибли в воде, о чем свидетельствует дошедший до наших дней документ: рапорт Склярова, лейтенанта Госбезопасности, начальника лагпункта Волголага, начальнику Волгостроя НКВД СССР майору Журову. По словам Склярова, «эти люди… страдали нервным расстройством здоровья». Со временем информация о Мологе попала под гриф «Совершенно секретно»..
В зону затопления попал пятитысячный фабричный поселок Абакумово. Было затоплено три четверти территории древнего русского города Весьегонска (Тверская обл.): под воду ушла вся его историческая часть с тремя старинными храмами. Частично подтоплялись Углич, Мышкин, Пошехонье-Володарск, Череповец. Практически на новое место был перенесен районный центр Брейтово – некогда богатое торговое село Мологской земли.
Невосполнимы утраты отечественной духовной культуры. На дно моря погрузились 140 церквей и три монастыря: Югская Дорофеева пустынь, Леушинский Иоанно-Предтеченский монастырь, Кирилло-Афанасьевский женский монастырь. Произошла духовная национальная катастрофа. Югская Троицкая Дорофеева пустынь – это бывший знаменитый православный мужской монастырь, располагавшийся рядом с Мологой. Он был одним из самых благоустроенных монастырей Ярославской епархии. Обитель, основанная в 1615 г. и названная в честь чудотворной Югской иконы Божией Матери, являлась важным духовным центром уезда. Здесь было 5 великолепных храмов: Троицкий собор с высоченной колокольней, Успенская, Молчанская, Никольская и Ильинская церкви.
Архитектурный комплекс представлял высокую культурно-историческую ценность. По отзывам современников, ансамбль напоминал скорее дворцовый комплекс, нежели монашескую обитель. До революции монастырь славился своей святыней – чудотворной Югской иконой Божией Матери, которая, согласно преданию, явилась основателю монастыря иноку Дорофею.
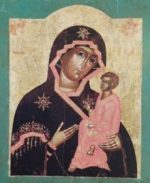
В 1915 г. с иконы была сделана копия, в настоящее время находящаяся в Успенском соборе села Балобаново. Оригинал же не сохранился: в 1929 г. власти забрали из монастыря икону якобы для местного музея. Затем икону изъяли и из музея как «предмет, содержащий цветной металл», и город Молога остался без Небесной Покровительницы.
В 1920 г. хоз. постройки и земельные угодья монастыря отошли в собственность совхоза «Юга». В братских корпусах была размещена детская трудовая колония, а с 1935 г. – управление Волголага, строившего Угличскую и Рыбинскую ГЭС. В 1941 г. монастырь скрылся под водой. В 2005 г. на берегу Югского залива был установлен поклонный крест. Тогда же был затоплен Иоанно-Предтеченский Леушинский монастырь на реке Шексне – третий по величине женский монастырь в России, где до революции подвизались 700 сестер. Ушел под воду великолепный монастырь вместе с его величественным пятиглавым собором Похвалы Божией Матери, с 5-ю храмами, 17-ю двухэтажными корпусами. Монастырь находится на глубине 5-ти м., и в засушливое лето, когда уровень Рыбинского водохранилища падает, из моря выступает колокольня знаменитого когда-то пятиглавого собора монастыря, верхушки других храмов и колоколен; а на дне ясно видны остовы бывших его строений и груды кирпича – безотрадная картина.

В наши дни традиционными стали ежегодные молитвенные Леушинские стояния, которые проходят в ночь на 7 июля – на Рождество Иоанна Предтечи, на берегу, где раньше располагался Леушинский Иоанно-Предтеченский монастырь. Во время стояний совершается всенощное бдение. Это событие привлекает множество людей, которые чтят память затопленных святынь. Также и жители города Рыбинска ежегодно служат молебны на берегу водохранилища, опускают в воду венки в память о затонувших жителях города Мологи.

Мологский Кирилло-Афанасиевский женский монастырь находился около Мологи. Ансамбль монастыря насчитывал десяток зданий. Монастырь закрыли в 1930 г. Перед затоплением монастырь взрывами полностью разрушить не удалось, и он еще долго возвышался над водой. Последними насельниками монастыря были заключенные Волголага – в 1938–1941 гг. Монастырь служил для них тюрьмой и жилищем. Под водой оказались десятки бывших дворянских усадеб: усадьба открывателя «Слова о полку Игореве» графа А.И. Мусина-Пушкина, прах которого покоится на дне моря; усадьба худ. В.В. Верещагина и его родного брата, основоположника промышленного маслосыроделия в России. Погублены сотни памятников истории и культуры.
При строительстве Рыбинского гидрообъекта предстояло вырубить и вывезти лес с площади в 3645 кв. км. С 1936 по 1940 гг. в зоне предполагаемого затопления было вырублено 11 млн кубометров леса. Но основной массив грибных и ягодных лесов не успели вырубить, и они исчезли под водой вместе с их обитателями – представителями животного мира, которые гибли тысячами, не сумев доплыть до спасительного материка. Затопленные леса многие годы производили гнетущее впечатление. К настоящему времени искусственная задержка огромных водных масс (более 25 млрд тонн) привела к деградации и прибрежных лесов.. В зону затопления попали 90 тыс. га лучших в Поволжье пойменных заливных лугов, травы которых по своему качеству не уступали травам альпийских лугов и давали лучшее в России сено, поставлявшееся даже для императорской кавалерии, а позже – для конницы Красной Армии. Та же участь постигла 70 тыс. га веками возделываемой пашни и более 30 тыс. га высокопродуктивных пастбищ..
Была затоплена богатейшая база высокопродуктивного животноводства Молого-Шекснинского междуречья. Тяжелейший удар был нанесен сельскохозяйственному производству: были затоплены те территории, на которых вырабатывалось до 85 % ярославского масла, значительная часть которого до революции экспортировалась в Западную Европу, в частности, в Англию и Данию. Здешние молоко, масло, сыры занимали призовые места на сельскохозяйственных выставках. Убытки составили многие десятки миллионов руб. С появлением Рыбинского водохранилища изменился климат в прилегающих к нему районах: стал более влажным и прохладным. Дело в том, что на Рыбинском море каждый год формируется огромная льдина площадью 4,5 тыс. кв. км и толщиной до одного метра. Наличие этого гигантского холодильника каждую весну смещает в этом районе начало цветения растений на 2–3 недели, иногда и до месяца, а потому здесь перестали вызревать пшеница и лен.
Возникла огромная мелководная зона глубиной всего 2–4,5 м, которая составляет около половины общей площади водохранилища. Море получилось мелким, однако часто штормит (высота волн достигает 2 м), размывая берега. Вопреки прогнозам гидростроителей, деформация береговой зоны нарастает, и сегодня разрушению подвержено более 35 % береговой линии Рыбинского моря. Наблюдаются случаи всплывания гигантских пластов торфа, поросших растительностью и даже мелкими деревцами, которые образуют острова, плавающие по всей акватории. Рыбинская плотина превратила Волгу в цепь слабопроточных водохранилищ: ранее вода от Рыбинска до Волгограда добегала за 50 суток, а теперь – за 1,5 года. При отсутствии быстрого течения воды рукотворное море стало источником гниющих испарений и местом размножения многочисленных рыбных паразитов: не случайно значительная часть волжских лещей заражена солитером.
Из-за вредных испарений Рыбинск занимает одно из первых в стране мест по онкологии. Плотины перекрыли пути естественной миграции рыбы, отсюда – истощение рыбных ресурсов, хотя и сегодня здесь много рыбы. В настоящее время не утихают споры о судьбе Рыбинского водохранилища. В энергетическом плане оно неэффективно по сравнению с др. водохранилищами Волжского каскада: Рыбинская ГЭС по мощности стоит на последнем месте, многократно уступая каждой из 5-ти других электростанций. В Ярославской обл., где расположена большая его часть, в 1990-е годы начали звучать предложения о спуске водоема для возврата в сельскохозяйственный оборот плодородных земель. Однако этот возврат оказался невозможным: отложения на дне ила и песка покрыли участки плодородной почвы, к тому же в них накопились тяжелые металлы – отходы промышленных предприятий. В случае даже частичного спуска воды прекратились бы грузовые перевозки водным транспортом из-за обмеления фарватера.
Для возрождения Мологи необходимы большие финансовые затраты. Как сказал поэт Л.А. Сурков, уроженец Мологи: «Тому, что затонуло, нет возврата». Думается, что не следовало поднимать подпорный уровень воды (высоту водохранилища) на 4 м. – до 102 м., а оставить подъем воды до 98 м, как это предполагалось в первоначальном проекте. Эти 4 м. стоили жизни города Мологи и сотням населенных пунктов Ярославской обл

Какой же вывод можно сделать из трагической истории рождения Рыбинского водохранилища?
Бесспорно, современная жизнь немыслима без электричества, которое обеспечивает работу лифтов, светофоров, метро, трамваев и троллейбусов, компьютеров, интернета – всего не перечислить. Научно-технический прогресс будет и дальше сопровождать жизнь человечества. От этого никуда не уйти, но прежде чем претворять в жизнь новые идеи, необходимо тщательно взвешивать все «за» и «против» их воплощения. И уж в любом случае тех. прогресс не должен нести людям страдания и смерть и наносить вред природе. Человеческие жертвы нельзя оправдать никакими великими целями.
Мария Тоболова
25.02. 2025. Православие.ру
https://pravoslavie.ru/167582.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 17 Янв 2026, 19:55 | Сообщение # 20 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | ОСЯЗАЕМАЯ ПАМЯТЬ: О ЧЕМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ СТАРЫЕ ОТКРЫТКИ
Напечатанные пейзажи раскрывают тайны полутора столетий
С каждым годом люди во всем мире посылают друг другу всё меньше почтовых открыток: даже мода на обмен этими сувенирами – посткроссинг – глобально не спасает бумажную почту от деградации. А, право, очень жаль: открытки, особенно выбранные с умом, имеют силу исторического документа и способны многое рассказать о том, какими были реалии прошлых эпох – и, главное, отношение к ним современников. Чаще всего на «развалах» и в антикварных магазинах можно обнаружить открытки из сувенирных наборов. Они уже не имеют «открыточного штампа» с адресом на оборотной стороне и, вообще говоря, не предназначены для пересылки по почте. Это скорее просто фотосувенир, исторически выросший из открытки. Однако по ним тоже можно реконструировать реалии, а главное, убеждения времен их издания. Так, в коллекции автора этих строк есть парадный фотокомплект из Армении 1970-х годов – и почетное место на фотокарточках занимает великан Арарат, глядящий на город. Не могли армяне, пусть и в советское время, не дать эту фотографию, хотя у них и не было, как нет и сейчас, надежд Арарат вернуть.

Бум открыток-фотографий начался в 1904 г. – открытое письмо, доступное для чтения посторонними, стало (и по сей день остается) самым дешевым видом почтового отправления. К нему быстро догадались присовокупить изображение, сначала черно-белое, а потом и полноцветное. На протяжении всего XX в. фотооткрытки с видами городов и местностей мира были одним из самых распространенных видов сувенира: они позволяли получить на память снятый профессионалом вид того места, куда туриста или командировочного забросила судьба.
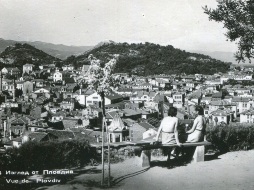
Чаще всего на «развалах» и в антикварных магазинах можно обнаружить открытки из сувенирных наборов. Они уже не имеют «открыточного штампа» с адресом на оборотной стороне и, вообще говоря, не предназначены для пересылки по почте. Это скорее просто фотосувенир, исторически выросший из открытки. Однако по ним тоже можно реконструировать реалии, а главное, убеждения времен их издания. Так, в коллекции есть парадный фотокомплект из Армении 1970-х годов – и почетное место на фотокарточках занимает великан Арарат, глядящий на город. Не могли армяне, пусть и в советское время, не дать эту фотографию, хотя у них и не было, как нет и сейчас, надежд Арарат вернуть.
Еще одна интересная разновидность открыток – фотокарточки, выполненные фотоспособом. Это тиражные фотоотпечатки на светочувствительной бумаге - распознать их легко, если вы когда-либо держали в руках классический бромосеребряный фотоотпечаток: бумага немного выгнута (из-за стягивания эмульсии), на поверхности изображения специфический глянец (и нет типографского растра), а на обратной стороне открыточный штамп минималистичен. В СССР и соцстранах государство следило за большинством кустарей-фотографов: откровенное «фотопиратство» могло стоить уголовной статьи, так что кустари занимались более прибыльными вещами, чем виды городов: порнографией, репродукциями полузапрещенных портретов Сталина, а пейзажисты состояли в артелях и проходили худсоветы, имели офиц. нумерацию открыток. Просто фотоспособ был дешевле и оперативнее. Поэтому многие вполне подцензурные открытки выпускались именно так. В некоторых случаях пейзажные открытки были вообще не фотографическими, а рисованными. Таков, например, набор открытой 1966 г. с недавно построенного Волго-Балтийского канала. Гидротехнические сооружения по соображениям секретности не фотографировали, а рисовали - зато на память сохранился набор любопытной графики той эпохи.
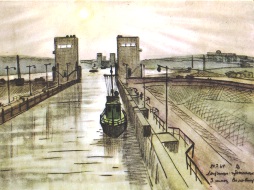
«Тысячи отечественных и зарубежных туристов приезжают сюда, чтобы полюбоваться живописными видами, познакомиться с уникальными художественно-архитектурными памятниками древности, расположенными по трассе канала в Белозерске, Кириллове, Анхимове. Грандиозное сооружение Волго-Балта вызвало большой интерес у ленинградских художников — живописцев и графиков, в творчестве которых появилась новая и благодарная тема».- написано на обложке серии открыток. Свойство пейзажных открыток – напоминать о реалиях, которых уже нет. Даже если не вспоминать о десятках снесенных московских церквей, о довоенной застройке Калининграда-Кенигсберга – всё может быть другим и тогда, когда здание на фото целехонько.

Открытка с этнографическими видами Абхазии. На карточке не напечатана точная атрибуция фотографий, однако она практически наверняка сделана до революции и, возможно, принадлежит известному фотографу-этнологу Д.И. Ермакову.Ермакову (1845-1916). Однако и для первой половины ХХ в. снимок архаичный – очевидно, автор искал случайно уцелевшие в аулах типажи и виды народных промыслов. Особенная удача, если открытки на блошином рынке подписаны. Чем подробнее, тем лучше. Например, так, как карточка, приобретенная в том же Нижнем Новгороде – на ней изображен павильон СССР на международной осенней выставке в Вене, которая проходила в начале сентября 1952 г.

Вот какое письмо было на оборотной стороне открытки: «Ниночка!Вот на этой открыточке виден фасад нашего Павильона. Всё это здание каменное и сделано за 1 месяц. Шпиль ночью горит огнями, а звезда словно кремлевская, рубиновая. Короче говоря, на всей ярмарке здание нашего Павильона было самым красивым и большим.
Дорогой и любимой жене от любящего мужа. Австрия. 17.09.52г.»
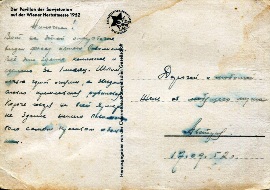
Безумно жалко, что не сохранилось ни имени, ни адреса этих Нины и ее мужа. Можно, впрочем, предполагать, что это горьковчане, тем более, что, как минимум, делегация с ГАЗа на эту выставку точно ездила, поскольку один из главных шоу-стопперов нашего павильона был именно газовским изделием: ГАЗ М-12, он же ЗиМ, дебютировал в 1950 г. и потому гораздо больше подходил к задаче представить новинки СССР, чем «Победа» - вполне хорошая на тот момент машина, но уже потерявшая прелесть новизны. До рестайлинга же ей оставалось еще два года (а «Волга» только начала разрабатываться и на публике - в испытательных пробегах - появится только в 1955 г.). ЗиМ же - нетривиальная по меркам мирового автопрома тех времен попытка сделать автомобиль большого класса с несущим кузовом, а не на основе рамы - был свежим, хотя стилистически тоже успел немного устареть).
Антон Размахнин
10.01. 2026. МК
https://www.mk.ru/culture....ki.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 07 Фев 2026, 18:52 | Сообщение # 21 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7546
Статус: Offline | О ТОМ, КАКОЙ БЫЛА РОССИЯ В КАНУН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Начало 1910-х было для России счастливым временем. Буйства отгремели, всё росло как на дрожжах, и впереди могли быть долгие, счастливые годы без великих потрясений. За границами было, конечно, не без пожаров, Балканы воевали - они такие, - но, в общем-то, жизнь шла, не делая дикое лицо. Жить было хорошо. Спускались на воду дредноуты, строились дирижабли. У них были громкие имена: "Кречет", "Беркут", "Ястреб", "Сокол". Под ними, в морях - жили подводные лодки, торпедные чудовища, "Акула", "Кайман", "Аллигатор" Журналы были полны разбитыми бипланами: это авиаторы пробовали воздух. Знаменитый авиатор Пуарэ катал в Петербурге дам, делая по 8 мертвых петель и длинные "спуски вниз головой".. А на аэроплане в США справили первую свадьбу. Женщины учились носить шаровары, там рождались женские брюки . В Берлине началась мода на чадры. Шляпы укорачивались. Между Англией и Францией хотели строить туннель. Он все-таки появился, но многие годы спустя.
Какие новости? Ужасы ураганов, ужасы пожаров и катастроф (вагоны разворочены) и, конечно, ужасы вулканов. Смертоубийственные уголовные дела. Российские академики живописи в их парижских мастерских, а также - в римских. Сотни юбилеев. Сто лет императорскому конвою. 50 лет кредитному обществу. 200 лет арсеналу. 100 лет Отечественной войне 1812 г.. 150 лет институту благородных девиц. И, наконец, 300 лет династии Романовых. Памятников и бюстов - не счесть, плюс картины дачной жизни или даже семейной - их высочеств, их светлостей, Его Императорского Величества .Как обедают у И.Е. Репина? По-вегетариански! За белым круглым лакированным столом! Вот меню 9 февраля 1911 г.: "котлеты из сельдерея, соус луковый, полендвица вегетарианская, разные салаты, селянка, пирожки, фрукты, чернослив, кофе" . И даже цена есть - 18 коп. О, высшие силы! Обеды за 18 коп.! У нас сегодня - другие измерения!

Всероссийский праздник воздухоплавания в Санкт-Петербурге, 1910 г
Какая тихая жизнь! Изобретения сыпались с неба. "Мы накануне дня, когда поговорка "у стен свои уши" потеряет парадоксальное значение и станет самым настоящим фактом, с которым людям придется считаться" (Огонек, 18.5.1914). Это - о демонстрации подслушивающих устройств. "Уже второй год на крайнем севере России, по неприютным берегам холодного океана, работает радиотелеграфная экспедиция, устраивающая станции, особенно необходимые здесь, ввиду полной оторванности от всего мира кораблей, плавающих среди вечных льдов" (Огонек, 4.8.1913). Так начинался мир радио, стальных вышек, мини-Эйфелевых башен за Полярным кругом.А вот и Тесла с шаровой молнией в руках, он построил в штате Нью-Йорк "силовую башню", с "куполообразной, сетчатой верхушки которой он посылает мощные токи"... Все возможно - "метнуть в толпу сноп молниеносных стрели или же направить на поля и сады поток тихих электрических лучей" (Огонек, 10.9.1911). Где вы, силовые башни? Мир по-прежнему опутан проводами.
Жизнь была мирная, солнечная. Костюмированные балы, великосветские актрисы-любительницы, карнавалы приказчиков - чего только не было! В Петербурге 29 сентября 1911 г. "День трезвенника", антиалкогольная кампания (Огонек, 8.10.1911). Ура! "В понедельник, 8 августа, в парижском Лувре было совершено чудовищное преступление: похищена знаменитейшая из картин музея - "Джоконда", кисти Леонардо да Винчи" (Огонек, 20.08.1911). Предстоит назначить миллион франков лицу, которое доставит "Джоконду". Как же, помним, что через два года "Мона Лиза" вернулась в Лувр! Но тогда, в этот день, в августе 1911 г. сердце должно было замереть. Она пропала? Она навсегда скрылась от глаз людских? Ее уничтожат? Или будет жива? Хорошо бы на земле был вечный мир. Францу-Иосифу I, императору Австро-Венгрии, далеко за 80. Куда ему сражаться! В 1912 г. в Россию приехал Вильгельм II. Ему - 53. "Венценосный гость России .дал немало доказательств искренней приверженности к миру. Продолжительное царствование императора Вильгельма может назваться благословенным для Германии, ибо оно не омрачено пока ни одной трагической ссорою с соседями. Ни одна семья не оплакивает смерти кого-либо из близких, вызванной военным честолюбием германского государя..Ни одна семья в 1912 г.. и в 1913-м. Пока ни одна.
Человеческие желания? Да, те же, что и сейчас. Масса объявлений. Вам обещают вечную молодость, силу и большую любовь, если примете пару пилюль или купите книгу, где всё рассказано как. Масса идей от французов, как дамам укрепить свой бюст. "Я счастлива, что имею возможности одним женщинам дать, а другим вернуть и восстановить красоту форм. Мой способ даст вам, независимо от вашего возраста, дивные формы, укрепит и разовьет в самое короткое время ваш бюст, придаст ему округлость, белизну и упругость" (Огонек, 19.2.1911). Вот так! А что еще?
Как делать заговоры! "Как заговорить кровь от порчи. Девицу от тоски, от задумчивости, от печали. Молодого человека на любовь. На разлучение. От змия, летающего жене во дверь". Вещая книга! Всего за 1 рубль! Предсказания будущего! Нужны только день рождения и адрес! Что напишем - всё сбудется. Всего лишь за 1 рубль. А вот книги "пикантного содержания" - для радости бытия! 10 штук - 50 коп.! "Мечты девушки", "В спальне новобрачных", "Ах, как сладко мне", "Я вдовушка" и т.п. Как много можно было сделать за 1 рубль! И даже за 50 коп.! Нам бы так! Мир был полон желаний, самых простых, тишайших. Они - все те же, наши. Купите пай - доходы выше крыши! Купите лотерею - будут тысячи! Купите облигацию - будет рай! Платите, дадим работу, а доходы ого-го! Как, у вас не растет борода? Где существует мелкие, едва заметные волосы, разовьется скоро пышная растительность! Здоровье? "Мужчины, если вы страдаете общей и такой-то слабостью, робостью, слабой памятью, если вы нервны, раздражительны, переутомлены, вы получите блестящие результаты" Будете сильнее вдвое! "(Огонек, 10.9.1911, 6.4.1914). Прекрасное было время для любви. "Брачная газета", 5 коп. за шт., разлеталась по всей России. Поймут ли благородный порыв одинокой души? Сумеют ли оценить, в целях брака бескорыстный призыв те, которым дерзает бросить его интеллигентный, умный, не бедный, симпатичный студент-технолог? Найдет ли себе правдивый отклик в лице красивой, нравственной, образованной, богатой девицы - этот неудержимый крик способной на великие чувства души? И не останется ли он лишь воплем в пустыне (9.12.1912).
Остался ли? Мы этого не знаем. А вот это - случаем не ваше? "Очень красивая, изящная, молодая барышня, громкой фамилии, желает знакомства с интеллигентом-миллионером" (4.11.1912). Или же: "Быть богатой, знатной дамой, выйти замуж за купца, за богатого вдовца, за путейца, за гвардейца, за неловкого армейца, или граф прельстится мною, генерал ли со звездою, камер-юнкер, камергер, или горный инженер. Русская красавица просит вышепоименованных лиц откликнуться. Цель - брак" (9.12.1912).
Удалось ли это русской красавице? Кто из нас является ее потомком? Этого уже не узнать, зато мы знаем, что тихому течению жизни суждено было закончиться. В 1911 г. погиб Столыпин, на горизонте потихоньку стали собираться великие потрясения. Никто их не хотел, жизнь была прекрасна. "Полагаюсь на твою мудрость и дружбу. Ники" (телеграмма Николая II - Вильгельму II, 29 июля 1914 г. "Ты несешь ответственность за мир или войну" (Вильгельм II - Николаю II, 30.7.1914). "К тебе я обращаюсь как к посреднику в деле сохранения мира. Ники" (Николай II - Вильгельму II, 30.7.1916). "Наша долгая испытанная дружба должна с Божьей помощью предотвратить кровопролитие" (Николай II - Вильгельму II, 1.08.1916).
Бесполезно. Махина тронулась. Манифест от 2 августа 1914 г.: "Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство внезапно объявила России войну". Началось.
Люди как люди, и хотелось им того же, что и нам желается. Да и наши семьи тогда были, всего лишь 100 лет прошло. Как ценно время жизни, как ценны спокойные часы, дни, полные забвения, залитые солнцем, или даже серые, мокрые денечки, но спокойные, без крика и ярости. Как можно было обойтись без великих потрясений?
Яков Миркин
29.07. 2025. РГ
https://rg.ru/2025/07/29/bremia-neizvestnosti.html
|
| |
| |