|
НЕ ТОЛЬКО О ПОЭЗИИ...*
|
|
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 30 Июл 2024, 13:59 | Сообщение # 51 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
О ЧЕМ?
Весь день я бродил за городом, в "Борисовой градине". Огромная роща, сперва культурная, потом на горах, напоминающая наш родной русский лес. Здесь можно забыть, что не по родной земле ступает нога твоя: тихо, безлюдно, задумчиво; попадется грустная береза, сверкающая белым бархатом ствола, среди изумрудных пихт и малахитовых сосен. Узенькие тропинки, пропадающие в зеленых сумерках, манящие своей неизвестностью; испуганно взлетающие птицы; запах гриба, гниющей листвы и пихты и такая сочная, бодрая трава с мигающими в ней разноцветными глазами диких цветочков. Нет людей. Как хорошо, что нет людей! Я так устал от людей! Никто не говорит. Такое кроткое, ласковое, зеленое безмолвие! Над головой только небесная синева и жемчужное, неподвижное облако.
Вот, так-же я когда-то бродил с ружьем в родных лесах русской земли, забывал обо всем на свете и растворялся в природе, чувствуя себя слитым воедино с этим таинственным, зеленым сумраком, с соснами, березами, птицами, травой, цветами. Какое это счастье -- забывать о себе, не чувствовать себя! Так легко это в юности и так трудно в конце жизни. Ведь, на спине тяжелый короб разочарований, сомнений, огорчений, страданий, и так трудно скинуть его с плеч своих. Зато, когда это удастся, - как расправляется душа! Точно увядший цветок, стебель которого внезапно очутился в свежей, холодной воде...
Блуждание по лесу дало мне этот радостный отдых, и, несмотря на дальний путь, я вернулся домой бодрым и радостным, точно вернулось невозвратное и не о чем больше грустить. Так хорошо, светло было на душе, точно тихая музыка, нужная, ласковая, из мендельсоновских "песен без слов", звучала там, рождая молитвенно-благодарственное настроение. Захотелось что-то написать. Не знаю еще, что хочется написать, но я сажусь к столу, ищу бумагу и перо. Что это? Откуда?.. В стакане с водой - несколько веточек белоснежного ландыша! Так вот почему в комнате неуловимо-тонкий, знакомый, но позабытый аромат!
- Скажите, откуда это ландыши на моем столе?
- Была русская девушка и велела поставить вам на стол...
- Она сказала свое имя?
- Я спросила ее, но она сказала, что вы ее не знаете, и ушла...
Русская девушка!.. Я не знаю, кто она, какая она, но как странно-радостно звучит в душе это "русская девушка". Мне совсем не хочется и узнать, кто она и какая, эта русская девушка. Не все ли мне равно? Мне совсем не важно это знать. Мне довольно того, что девушка русской родной земли пришла ко мне в изгнании и поставила на мой письменный стол связочку нескольких стеблей белоснежного, нежного, нежного, грустно-радостного ландыша! Вероятно, я никогда не узнаю этой девушки, и ей вовсе не нужно, чтобы я узнал, кто она. Я для неё тоже только "русский писатель", написавший много о юности, с её грустной радостью и радостной грустью, с первыми чистыми порывами любви, полными ароматной тайны, так напоминающей белоснежный, грустный ландыш в тихом, таинственном сумраке родного леса...
Такой прекрасный и такой хрупкий цветок, быстро умирающий под знойными ласками солнца. Символ любви недостигнутой, самого прекрасного, сказочного цветка нашей жизни. Прекрасный, белоснежный цветок! Сколько нежной грусти и чистой, светлой радости в твоих, звенящих тонким ароматом, чашечках! В юности ты - источник неведомых, таинственно-прекрасных ожиданий, на склоне жизни - источник воспоминаний, обвеянных сладостной грустью, от которой помутневшая душа делается вдруг светлой и прозрачной, как родниковый колодезь в лесу. Склоняю седую голову над цветами, закрываю глаза и дышу нежным, грустным ароматом ландыша. И чудится мне тихий, ласковый весенний вечер над луговой речкой, и слышу я, как в березовом лесу, за рекой, грустно кукует кукушка. Полулежа в сочной луговой траве с красными огоньками гвоздик и кашки, с синими глазами колокольчиков, с бело-золотыми венцами ромашек, с мохнатыми паутинными головками одуванчиков, режу зубами стволик долговязовой травинки и слушаю, как поет кукушка за речкой, как в прибрежной осоке и тине квакают лягушки, как стрекочут в траве кузнецы.
Людей нет... Я - один. С своей сладкой тоскою по любимой русской девушке с двумя толстыми, золотистыми косами за спиною, в коричневом гимназическом платье, с золотым обручем на голове. Этот обруч делает ее похожей на святую. Прекрасная, святая девушка! Моя любовь к тебе - святая. Моя любовь к тебе - как молитва!.. Нет, даже не молитва, потому что нет в ней докучливых просьб о своем личном благе. Ведь, мне надо так мало: видеть тебя, слышать твой голос, изредка встретить твои ласковые глаза, коснуться твоей руки, твоей одежды... Моя любовь к тебе - как псалом твоей красоте и святости! Даже руку твою поцеловать кажется мне кощунственной дерзостью, и, когда дьявол вталкивает мне в голову эту дерзкую мысль, я загораюсь стыдом, пугаюсь и боюсь посмотреть в твои ясные, как у ребенка, глаза. Мой грех пред тобою только в недостижимой мечте о том, чтобы всегда быть около тебя, чтобы всегда тебя видеть, слышать, ощущать твою близость и еще... чтобы ты никому не дарила своих улыбок.
О, ты так не бережливо разбрасываешь эти драгоценности, ты, кажется, не подозреваешь даже, что это - бесценные драгоценности, потому что улыбаешься даже стрекозе, лягушке, ящерице, муравью, и я не могу у них отнять этих улыбок и от этого готов плакать... Может быть, за это я иногда сержусь на тебя и тогда я опускаю голову и молчу, а ты спрашиваешь: "о чем я задумался?"
Разве я смею признаться тебе, что завидую стрекозе, лягушке, ящерице, которым ты улыбаешься, показывая жемчуг своих зубов?
Ах, как грустно поет кукушка! Она плачет о том, что, вот, и еще один день проходить, а мы - не вместе. Опять ты не приехала! А я так ждал тебя сегодня! Опять буду всю ночь сидеть на балконе лесного дома и слушать, как поют соловьи в лесу... Слушать и думать о тебе, только о тебе!..
Я никого не хочу видеть. Мне все мешают думать о тебе. Иду к реке, перебираюсь в утлом ботике на ту сторону речки и брожу в прохладном сумраке леса. Березы, осины, липа и черемуха. Зеленая тайна! Лес не мешает мне думать только о тебе. И я брожу по росистой траве медленно и задумчиво, углубляясь в зеленую тайну леса. Птицы не мешают мне своими то радостными, то печальными песенками. Эти песенки - как мои мысли о тебе: то грустные, то радостные вскрики души от твоих глаз, твоих улыбок, твоего голоса. Все дальше, все дальше в зеленый сумрак, под шатер листвы! Здесь так тихо, что слышно, как ползают по прошлогодним, сухим листьям муравьи и жуки. Немного сыро под ногами: близко вода. В запах березы врывается тонкий, таинственный аромат. Это ландыши! Где они? Боже, какой удивительный запах! Пахнет счастьем! Огромным, несбыточным счастьем! Только в сказках бывает такое счастье или во сне, когда нам нет еще 20-ти лет.
В зеленых кочках, под березами, сверкают белоснежные, словно фарфоровые, колокольчики с золотыми точками внутри. Они точно приподнялись на цыпочки и осторожно высматривают, что делается кругом в зеленом молчании. Столько тайны в этих маленьких, белых цветочках! Хочется наклониться и послушать, о чем молчат они в зеленом сумраке. Они -как живые, их страшно и жалко сорвать. Кажется, что как только это сделаешь, раздастся грустный звон в молчании леса, и белые цветы заплачут молчаливо капельками дрожащих на них росинок. В них есть святость моей любви к девушке с золотистыми косами. Может быть, это - чистые души прекрасных девушек, умерших на заре жизни и вернувшихся на землю в образе белоснежных, источающих аромат, цветов? Так страшно рвать их, но так тянет сорвать! Зачем? Разве не достаточно посидеть вот так, около, склонять голову, любоваться, дышать их ароматом? ...Может быть, завтра приедет моя святая девушка с золотым обручем на голове, и тогда мы придем сюда вместе. Пусть своей рукою святая девушка сорвет эти святые цветы! Пусть она украсит ими золотой обруч на своей голове. А я упаду перед ней на колени и стану молиться её красоте и её чистоте... Так странно тихо в зеленом сумраке. И так грустно поет кукушка. Она плачет о том, что я - один. И белые ландыши выглядывают из травы своими головками, смотрят на меня золотистыми точками своих глаз и тоже грустят, вздыхая грустным ароматом в запахе берез...
И снова тихий и ласковый весенний вечер. И опять поет кукушка в лесу за речкой. Тихо скользит ботик по зеркальной речке в зеленой раме прибрежных черемух, камышей, осоки. Я направляю ботик к белым лилиям и золотым кувшинкам. Святая девушка с украшенным белоснежными ландышами обручем на голове, вся в белом, сама похожая на огромный ароматный ландыш, склоняясь к воде, срывает водяные лилии, с длинными хвостами тёмно-зелёных стеблей, и звонко смеется. Опять она разбрасывает свои улыбки по воде, по зеленым берегам, по камышам, где крутятся изумрудные стрекозы, разговаривает с лягушкой, перекликается с кукушкой... Оглянись же хотя раз и подари мне хотя один взгляд и одну улыбку!..
Светлой лунной ночью все мы собрались на балконе и слушали соловьев, в разных местах, по речке, славословивших счастье любви. Никто не говорил. Все молчали. Я стоял позади святой девушки, склонившей голову на перила балкона. Она все еще была в венке из ландышей, источавших грустный аромат. Я наклонился, чтобы приблизить свое лицо к ландышам и испить полной грудью их дыхание. Набежал ветерок, шевельнул золотую паутину девичьих волос на голове и поласкал мои щеки и губы. И я опьянел от ароматов чистого счастья, и слезы спрыгнули, как роса с цветов, с ресниц моих на руку святой девушки. Она вздрогнула и обернулась. Была на её лице улыбка, необыкновенная святая улыбка. Она ничего не сказала. Она вздохнула, опустила снова голову на перила балкона и прикрыла лицо рукой. Я отошел и издали смотрел на святую девушку. Лунный свет играл на золотом обруче, на золотистых прядях её волос, скользил по её прикрытому рукой лицу. А когда она отняла руку, чтобы прижать непослушный локон, бьющийся под набегавшим ветерком, лунный свет заглянул ей в глаза и заиграл на повисших на ресницах, как роса на цветах, двух крупных, сверкнувших драгоценными камнями, слезинках...
О чем мы плакали в лунный весенний вечер под нежные соловьиные песни? И о чем я плачу молчаливыми слезами теперь, склонившись седой головой над стаканом с ландышами, принесенными мне русской девушкой, которой я не знаю? Ведь, нашу любовь можно назвать торжествующей: мы всю жизнь прошли рядом, и теперь наши души рядом, они сплелись между собою так крепко, что их можно разорвать только вместе с нашей жизнью. О чем же я плачу, глупый, седой мальчик? Не потому-ли, что в аромате ландышей для меня осталась только сладкая грусть воспоминаний о святой девушке и святой любви? Не знаю, не знаю... Но так хочется пить ароматную грусть далеких, невозвратных воспоминаний?..
1921
http://az.lib.ru/c/chirikow_e_n/text_1921_o_chem.shtml

Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы. Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои; он их должен покупать за свое жалованье - 7 руб. и 60 коп. в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал, он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой, зимою же он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару. Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться - вон и Юшка уж спать пошел. А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали: " Вон Юшка идет! Вон Юшка!"
Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку.
- Юшка! Ты правда Юшка? - кричали дети.
Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них; он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор. Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них. И они снова окликали старика:
- Юшка, ты правда или нет?
Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не знали другого такого человека, и они думали - вправду ли Юшка живой? Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и живой. Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли, пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вкруг него, чтоб он отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости снова бы дразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им. Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им: - Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие! Вы, должно быть, любите меня!. Отчего я вам всем нужен? Обождите, не надо меня трогать, вы мне в глаза землей попали, я не вижу.
Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает. Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его. Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей: «Вот ты будешь такой же, как Юшка! Вырастешь, и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду!»
Взрослые пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными, тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему:- Да что ты такой блажно́й, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное?
Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ.
- Слов у тебя, что ли, нету, животное такое! Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай! Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага!.. Ну ладно!
И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе. Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы, она подымала его и уводила с собой.
- Лучше бы ты умер, Юшка, зачем ты живешь? - говорила хозяйская дочь.
Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить.
- Это отец-мать меня родили, их воля была, мне нельзя помирать, и я отцу твоему в кузне помогаю - отвечал Юшка.
- Другой бы на твое место нашелся, помощник какой!
- Меня, Даша, народ любит!
Даша смеялась.
- У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь - народ тебя любит!
- Он меня без понятия любит. Сердце в людях бывает слепое.
- Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие! Иди скорее, что ль! Любят-то они по сердцу, да бьют тебя по расчету - произносила Даша
- По расчету они на меня серчают, это правда. Они мне улицей ходить не велят и тело калечат.
- Эх ты, Юшка, Юшка! А ты ведь, отец говорил, нестарый еще! - вздыхала Даша.
- Какой я старый!.. Я грудью с детства страдаю, это я от болезни на вид оплошал и старым стал...
По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц.
Он уходил пешим в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились. Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самоё Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец. В июне или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувствовал своего недуга - чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работящие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко, в грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой и солнечным светом.
По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил более о болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было 40 лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим. И так каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал, об этом никому в городе не было известно. Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его.Юшка смирно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей 100, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому.
Но год от году Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его жизни и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним:
- Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело! Хоть бы ты помер, что ли, может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться...
И здесь Юшка осерчал в ответ, должно быть, первый раз в жизни.
- А чего я тебе, чем я вам мешаю! Я жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя...
Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него:
- Да ты что! Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный!
- Я не равняю, а по надобности мы все равны...
- Ты мне не мудруй! Я сам помудрей тебя! Ишь, разговорился, я тебя выучу уму! - закричал прохожий.
Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь.
- Отдохни, - сказал прохожий и ушел домой пить чай.
Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся. Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые открытые неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен; столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая, ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки.
- Помер. Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья!..- вздохнул столяр.
Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни. Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство.
Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина-кузнеца: где ей найти Ефима Дмитриевича?
- Какого Ефима Дмитриевича? - удивился кузнец. - У нас такого сроду тут и не было.
Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее: что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался:
- Уж не Юшка ли он? Так и есть - по паспорту он писался Дмитричем..
- Юшка. Это правда. Сам себя он называл Юшкой - прошептала девушка
Кузнец помолчал.
- А вы кто ему будете? Родственница, что ль?
- Я никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня, маленькую, в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом... Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он, - он говорил, что работал у вас 25 лет...
- Половина полвека прошло, состарились вместе, - сказал кузнец.
Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтоб она ела его. Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца...
С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.
https://ilibrary.ru/text/1192/p.1/index.html

Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям? И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюлешки упрут. Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся. Вот и думала: ехать, не ехать? А тут еще телефон привезли на подмогу - «мобилу». Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам. Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:
- Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-будь.
Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.
В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно: провода, черная большая трубка, долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился «мобильный». И то слава богу.
- Мама! Слышишь меня?! Живая-здоровая? Молодец. Целую.
Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла.
- Это что за страсть такая. Не телефон, свиристелка. Прокукарекал: будь-будь… Вот тебе и будь. А тут… - ворчала старая женщина. мА тут, то есть в жизни хуторской, стариковской, было много всего, о чем рассказать хотелось.
- Мама, слышишь меня?
- Слышу, слышу. Это ты, доча?
А голос будто не твой, какой-то хрипавый.
- Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплей. А то вы городские - модные, платок пуховый повяжи. И нехай глядят. Здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы? Вроде на нашем подворье стоит скотиняка. Живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, на голове - рога, а морда козиная. Это что за страсть? И к чему бы такое?
- Мама, говори по делу, а не про козиные морды. Мы же тебе объясняли: тариф.- донеслось из телефона строгое.
- Прости Христа ради, - опомнилась старая женщина.
Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче, о самом главном. Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей. И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть: лошадиный хвост и козья страшенная морда. Вот и думай, к чему это? Наверное, не к добру.Снова миновал день, за ним - другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится: хоть и дом невелик, а сидеть не велит. Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сараи, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорогущий, его не укупишь.
Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг… онг-онг… - слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расползались по-рачьи, чураясь друг друга. Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке - белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище. Неловко начался день, да так и пошел не в лад. Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.
- Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что - живая. Я ныне так вдарилась, не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где. Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. А тама, возля ворот, там грушина-черномяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины…
- Мама, конкретней говори, что случилось, а не про сладимую грушину.
- А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень… Летось Володю просила до скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномяска…
- Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о черномяске. Не забывай, что это - мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?
- Вроде бы не сломала, прикладаю капустный лист.
На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: «Чего болит, не болит… Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади…»
И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме. Но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть. А потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращенье колеса старинной самопряхи. И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном - день осенний, словно бы сумерки. И вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек - внатяг. Вдруг и впрямь зимовать придется. В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:
- Болят ваши косточки?..
Так впору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой:
- Болят, моя доча…
- Ноют руки и ноги?.. - словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.
- Спасу нет. Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка - никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят…
- Болит ваша спина… - мягко ворковал, словно завораживая, женский голос.
- Заболит, моя доча. Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть, такая жизнь.
Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа. Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк. Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: «Овечка глупая… Чего ревешь?..»
Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче. И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:
- Доча, доча, чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь. Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убилась. Тама, возля этой дулинки…
Она опомнилась:
- Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча…
Издалека, через многие километры, донесся голос дочери:
- Говори, мама, говори…
- Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка. Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча. Опять я не то плету. Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..
В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.
- Говори, мама… - просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь.
- Говори, мама, говори…
https://skazki.rustih.ru/boris-ekimov-govori-mama-govori/
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 02 Сен 2024, 21:06 | Сообщение # 52 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
Звонок раздался, когда Андрей Петрович потерял уже всякую надежду.
- Здравствуйте, я по объявлению. Вы даёте уроки литературы?
Андрей Петрович вгляделся в экран видеофона. Мужчина под 3. Строго одет - костюм, галстук. Улыбается, но глаза серьёзные. У Андрея Петровича ёкнуло сердце, объявление он вывешивал в сеть лишь по привычке. За 10 лет было 6 звонков. Трое ошиблись номером, ещё двое оказались работающими по старинке страховыми агентами, а один попутал литературу с лигатурой.
- Д-даю уроки н-на дому. Вас интересует литература? - запинаясь от волнения, спросил Андрей Петрович.
- Интересует. Меня зовут Максим. Позвольте узнать, каковы условия.
- «Задаром!» - едва не вырвалось у Андрея Петровича. - Оплата почасовая, - заставил себя выговорить он. - По договорённости. Когда бы вы хотели начать?
- Я, собственно… - собеседник замялся.
- Первое занятие бесплатно, если вам не понравится, то…
- Давайте завтра. В 10 утра вас устроит? К 9-ти я отвожу детей в школу, а потом свободен до 2-х.
- Устроит, - обрадовался Андрей Петрович. - Записывайте адрес.
- Говорите, я запомню.
В эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по крошечной комнате, почти келье, не зная, куда девать трясущиеся от переживаний руки. Вот уже 12 лет он жил на нищенское пособие. С того самого дня, как его уволили.
- Вы слишком узкий специалист, - сказал тогда, пряча глаза, директор лицея для детей с гуманитарными наклонностями. - Мы ценим вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, увы. Скажите, вы не хотите переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы частично оплатить. Виртуальная этика, основы виртуального права, история робототехники - вы вполне бы могли преподавать это. Даже кинематограф всё ещё достаточно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, но на ваш век… Как вы полагаете?
Андрей Петрович отказался, о чём немало потом сожалел. Новую работу найти не удалось, литература осталась в считанных учебных заведениях, последние библиотеки закрывались, филологи один за другим переквалифицировались кто во что горазд. Пару лет он обивал пороги гимназий, лицеев и спецшкол. Потом прекратил. Промаялся полгода на курсах переквалификации. Когда ушла жена, бросил и их. Сбережения быстро закончились, и Андрею Петровичу пришлось затянуть ремень. Потом продать аэромобиль, старый, но надёжный. Антикварный сервиз, оставшийся от мамы, за ним вещи. А затем… Андрея Петровича мутило каждый раз, когда он вспоминал об этом - затем настала очередь книг. Древних, толстых, бумажных, тоже от мамы. За раритеты коллекционеры давали хорошие деньги, так что граф Толстой кормил целый месяц. Достоевский - две недели. Бунин - полторы.В результате у Андрея Петровича осталось полсотни книг - самых любимых, перечитанных по десятку раз, тех, с которыми расстаться не мог. Ремарк, Хемингуэй, Маркес, Булгаков, Бродский, Пастернак… Книги стояли на этажерке, занимая 4 полки, Андрей Петрович ежедневно стирал с корешков пыль: «Если этот парень, Максим, - беспорядочно думал Андрей Петрович, нервно расхаживая от стены к стене, - если он… Тогда, возможно, удастся откупить назад Бальмонта. Или Мураками. Или Амаду».
Пустяки, понял Андрей Петрович внезапно. Неважно, удастся ли откупить. Он может передать, вот оно, вот что единственно важное. Передать! Передать другим то, что знает, то, что у него есть... Максим позвонил в дверь ровно в 10, минута в минуту.
- Проходите, присаживайтесь. Вот, собственно… С чего бы вы хотели начать? - засуетился Андрей Петрович.
Максим помялся, осторожно уселся на край стула.
- С чего вы посчитаете нужным. Понимаете, я профан. Полный. Меня ничему не учили.
- Да-да, естественно, - закивал Андрей Петрович. - Как и всех прочих. В общеобразовательных школах литературу не преподают почти сотню лет. А сейчас уже не преподают и в специальных.
- Нигде? - спросил Максим тихо.
- Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце XX века начался кризис. Читать стало некогда. Сначала детям, затем дети повзрослели, и читать стало некогда их детям. Ещё более некогда, чем родителям. Появились другие удовольствия - в основном, виртуальные. Игры. Всякие тесты, квесты… - Андрей Петрович махнул рукой. - Ну, и конечно, техника. Тех. дисциплины стали вытеснять гуманитарные. Кибернетика, квантовые механика и электродинамика, физика высоких энергий. А литература, история, география отошли на задний план. Особенно литература. Вы следите, Максим?
- Да, продолжайте, пожалуйста.
- В XXI веке перестали печатать книги, бумагу сменила электроника. Но и в электронном варианте спрос на литературу падал стремительно, в несколько раз в каждом новом поколении по сравнению с предыдущим. Как следствие, уменьшилось количество литераторов, потом их не стало совсем - люди перестали писать. Филологи продержались на сотню лет дольше - за счёт написанного за XX предыдущих веков.
.Андрей Петрович замолчал, утёр рукой вспотевший вдруг лоб.
- Мне нелегко об этом говорить. Я осознаю, что процесс закономерный. Литература умерла потому, что не ужилась с прогрессом. Но вот дети, вы понимаете… Дети! Литература была тем, что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что определяло внутренний мир человека, его духовность. Дети растут бездуховными, вот что страшно, вот что ужасно, Максим!
- Я сам пришёл к такому выводу, Андрей Петрович. И именно поэтому обратился к вам.
- У вас есть дети?
- Да, - Максим замялся. - Двое. Павлик и Анечка, погодки. Андрей Петрович, мне нужны лишь азы. Я найду литературу в сети, буду читать. Мне лишь надо знать что. И на что делать упор. Вы научите меня?
- Да, - сказал Андрей Петрович твёрдо. - Научу.
Он поднялся, скрестил на груди руки, сосредоточился.
- Пастернак, - сказал он торжественно. - Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела…
- Вы придёте завтра, Максим? - стараясь унять дрожь в голосе, спросил Андрей Петрович.
- Непременно. Только вот… Знаете, я работаю управляющим у состоятельной семейной пары. Веду хозяйство, дела, подбиваю счета. У меня невысокая зарплата. Но я, - Максим обвёл глазами помещение, - могу приносить продукты. Кое-какие вещи, возможно, бытовую технику. В счёт оплаты. Вас устроит?
Андрей Петрович невольно покраснел. Его бы устроило и задаром.
- Конечно, Максим. Спасибо. Жду вас завтра. Литература - это не только о чём написано, - говорил Андрей Петрович, расхаживая по комнате. - Это ещё и как написано. Язык, Максим, тот самый инструмент, которым пользовались великие писатели и поэты. Вот послушайте.
Максим сосредоточенно слушал. Казалось, он старается запомнить, заучить речь преподавателя наизусть.
- Пушкин, - говорил Андрей Петрович и начинал декламировать. «Таврида», «Анчар», «Евгений Онегин».Лермонтов «Мцыри».Баратынский, Есенин, Маяковский, Блок, Бальмонт, Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Высоцкий…
Максим слушал.
- Не устали? - спрашивал Андрей Петрович.
- Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожалуйста.
День сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул, пробудился к жизни, в которой неожиданно появился смысл. Поэзию сменила проза, на неё времени уходило гораздо больше, но Максим оказался благодарным учеником. Схватывал он на лету. Андрей Петрович не переставал удивляться, как Максим, поначалу глухой к слову, не воспринимающий, не чувствующий вложенную в язык гармонию, с каждым днём постигал её и познавал лучше, глубже, чем в предыдущий. Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский, Тургенев, Бунин, Куприн.Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк, Маркес, Набоков .XVIII век, XIX, XX. Классика, беллетристика, фантастика, детектив. Стивенсон, Твен, Конан Дойль, Шекли, Стругацкие, Вайнеры, Жапризо... Однажды, в среду, Максим не пришёл. Андрей Петрович всё утро промаялся в ожидании, уговаривая себя, что тот мог заболеть. Не мог, шептал внутренний голос, настырный и вздорный. Скрупулёзный педантичный Максим не мог. Он ни разу за полтора года ни на минуту не опоздал. А тут даже не позвонил. К вечеру Андрей Петрович уже не находил себе места, а ночью так и не сомкнул глаз. К 10 утра он окончательно извёлся, и когда стало ясно, что Максим не придёт опять, побрёл к видеофону.
- Номер отключён от обслуживания, - поведал механический голос.
Следующие несколько дней прошли как один скверный сон. Даже любимые книги не спасали от острой тоски и вновь появившегося чувства собственной никчемности, о котором Андрей Петрович полтора года не вспоминал. Обзвонить больницы, морги, навязчиво гудело в виске. И что спросить? Или о ком? Не поступал ли некий Максим, лет под 30, извините, фамилию не знаю? Андрей Петрович выбрался из дома наружу, когда находиться в 4-х стенах стало больше невмоготу.
- А, Петрович! - приветствовал старик Нефёдов, сосед снизу. - Давно не виделись. А чего не выходишь, стыдишься, что ли? Так ты же вроде ни при чём.
- В каком смысле стыжусь? - оторопел Андрей Петрович.
- Ну, что этого, твоего, - Нефёдов провёл ребром ладони по горлу. - Который к тебе ходил. Я всё думал, чего Петрович на старости лет с этой публикой связался.
- Вы о чём? - у Андрея Петровича похолодело внутри. - С какой публикой?
- Известно с какой. Я этих голубчиков сразу вижу. 30 лет, считай, с ними отработал.
- С кем с ними-то? - взмолился Андрей Петрович. - О чём вы вообще говорите?
- Ты что ж, в самом деле не знаешь? - всполошился Нефёдов. - Новости посмотри, об этом повсюду трубят.
Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на 14-й, трясущимися руками нашарил в кармане ключ. С пятой попытки отворил, просеменил к компьютеру, подключился к сети, пролистал ленту новостей. Сердце внезапно зашлось от боли. С фотографии смотрел Максим, строчки курсива под снимком расплывались перед глазами: «Уличён хозяевами, - с трудом сфокусировав зрение, считывал с экрана Андрей Петрович, - в хищении продуктов питания, предметов одежды и бытовой техники. Домашний робот-гувернёр, серия ДРГ-439К. Дефект управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришёл к выводу о детской бездуховности, с которой решил бороться. Самовольно обучал детей предметам вне школьной программы. От хозяев свою деятельность скрывал. Изъят из обращения. По факту утилизирован. Общественность обеспокоена проявлением… Выпускающая фирма готова понести… Специально созданный комитет постановил…».
Андрей Петрович поднялся. На негнущихся ногах прошагал на кухню. Открыл буфет, на нижней полке стояла принесённая Максимом в счёт оплаты за обучение початая бутылка коньяка. Андрей Петрович сорвал пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашёл и рванул из горла. Закашлялся, выронив бутылку, отшатнулся к стене. Колени подломились, Андрей Петрович тяжело опустился на пол. Коту под хвост, пришла итоговая мысль. Всё коту под хвост. Всё это время он обучал робота .Бездушную, дефективную железяку. Вложил в неё всё, что есть. Всё, ради чего только стоит жить. Всё, ради чего он жил.
Андрей Петрович, превозмогая ухватившую за сердце боль, поднялся. Протащился к окну, наглухо завернул фрамугу. Теперь газовая плита. Открыть конфорки и полчаса подождать. И всё. Звонок в дверь застал его на полпути к плите. Андрей Петрович, стиснув зубы, двинулся открывать. На пороге стояли двое детей. Мальчик лет 10-ти. И девочка на год-другой младше.
- Вы даёте уроки литературы? - глядя из-под падающей на глаза чёлки, спросила девочка.
- Что? - Андрей Петрович опешил. - Вы кто?
- Я Павлик, - сделал шаг вперёд мальчик. - Это Анечка, моя сестра. Мы от Макса.
- От… От кого?!
- От Макса, - упрямо повторил мальчик. - Он велел передать. Перед тем, как он… как его…
- Мело, мело по всей земле во все пределы! - звонко выкрикнула вдруг девочка.
Андрей Петрович схватился за сердце, судорожно глотая, запихал, затолкал его обратно в грудную клетку.
- Ты шутишь? - тихо, едва слышно выговорил он.
- Свеча горела на столе, свеча горела, - твёрдо произнёс мальчик. - Это он велел передать, Макс. Вы будете нас учить?
Андрей Петрович, цепляясь за дверной косяк, шагнул назад.
- Боже мой, - сказал он. - Входите. Входите, дети.
https://skazki.rustih.ru/majk-gelprin-svecha-gorela/

Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное для Васютки. Ещё бы! Мала ли честь для 13-летнего мальчишки - озеро, названное его именем! Пускай оно и невелико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашёл его и людям показал. Да, да, не удивляйтесь и не думайте, что все озёра уже известны и что у каждого есть своё название. Много ещё, очень много в нашей стране безымянных озёр и речек, потому что велика наша Родина, и сколько по ней ни броди, всё будешь находить что-нибудь новое, интересное.
Рыбаки из бригады Григория Афанасьевича Шадрина- Васюткиного отца - совсем было приуныли. Частые осенние дожди вспучили реку, вода в ней поднялась, и рыба стала плохо ловиться: ушла на глубину. Холодная изморозь и тёмные волны на реке нагоняли тоску. Не хотелось даже выходить на улицу, не то что выплывать на реку. Заспались рыбаки, рассолодели от безделья, даже шутить перестали. Но вот подул с юга тёплый ветер и точно разгладил лица людей. Заскользили по реке лодки с упругими парусами. Ниже и ниже по Енисею спускалась бригада. Но уловы по-прежнему были малы.
- Нету нам нынче фарту, оскудел батюшко Енисей. Раньше жили, как бог прикажет, и рыба тучами ходила. А теперь пароходы да моторки всю живность распугали. Придёт время - ерши да пескари и те переведутся, а об омуле, стерляди и осетре только в книжках будут читать. - ворчал Васюткин дедушка Афанасий. Спорить с дедушкой - дело бесполезное, потому никто с ним не связывался
Далеко ушли рыбаки в низовье Енисея и наконец остановились. Лодки вытащили на берег, багаж унесли в избушку, построенную несколько лет назад учёной экспедицией. Григорий Афанасьевич, в высоких резиновых сапогах с отвернутыми голенищами и в сером дождевике, ходил по берегу и отдавал распоряжения. Васютка всегда немного робел перед большим, неразговорчивым отцом, хотя тот никогда его не обижал.
- Шабаш, ребята! Больше кочевать не будем. Так, без толку, можно и до Карского моря дойти. - сказал Григорий Афанасьевич, когда разгрузка закончилась. Он обошёл вокруг избушки, зачем-то потрогал рукой углы и полез на чердак, подправил съехавшие в сторону пластушины корья на крыше. Спустившись по дряхлой лестнице, он тщательно отряхнул штаны, высморкался и разъяснил рыбакам, что избушка подходящая, что в ней можно спокойно ждать осеннюю путину, а пока вести промысел паромами и перемётами. Лодки же, невода, плавные сети и всю прочую снасть надобно как следует подготовить к большому ходу рыбы.
Потянулись однообразные дни. Рыбаки чинили невода, конопатили лодки, изготовляли якорницы, вязали, смолили. Раз в сутки они проверяли перемёты и спаренные сети - поромы, которые ставили вдали от берега. Рыба в эти ловушки попадала ценная: осётр, стерлядь, таймень, частенько налим, или, как его в шутку называли в Сибири, поселенец. Но это спокойный лов. Нет в нём азарта, лихости и того хорошего, трудового веселья, которое так и рвётся наружу из мужиков, когда они полукилометровым неводом за одну тоню вытаскивают рыбы по нескольку центнеров. Совсем скучное житьё началось у Васютки. Поиграть не с кем - нет товарищей, сходить некуда. Одно утешало: скоро начнётся учебный год, и мать с отцом отправят его в деревню. Дядя Коляда, старшина рыбо-сборочного бота, уже учебники новые из города привёз. Днём Васютка нет-нет да и заглянет в них от скуки. Вечерами в избушке становилось людно и шумно. Рыбаки ужинали, курили, щёлкали орехи, рассказывали были и небылицы. К ночи на полу лежал толстый слой ореховой скорлупы. Трещала она под ногами, как осенний ледок на лужах. Орехами рыбаков снабжал Васютка. Все ближние кедры он уже обколотил. С каждым днём приходилось забираться всё дальше и дальше в глубь леса, но эта работа была не в тягость. Мальчишке нравилось бродить. Ходит себе по лесу один, напевает, иногда из ружья пальнёт.
Васютка проснулся поздно. В избушке одна мать. Дедушка Афанасий ушёл куда-то. Васютка поел, полистал учебники, оборвал листок календаря и с радостью отметил, что до 1-го сентября осталось всего 10 дней. Потом засобирался по кедровые шишки. Мать недовольно сказала: - К ученью надо готовиться, а ты в лесу пропадаешь.
- Чего ты, мамка? Орехи кто-то должен добывать? Должен. Охота ведь рыбакам пощёлкать вечером.
- Охота, охота! Надо орехов, так пусть сами ходят. Привыкли парнишкой помыкать да сорить в избе.
Мать ворчит по привычке, потому что ей не на кого больше ворчать. Когда Васютка с ружьём на плече и с патронташем на поясе, похожий на коренастого, маленького мужичка, вышел из избы, мать привычно строго напоминала:
- Ты от затесей далеко не отходи - сгинешь. Хлеба взял ли с собой?
- Да зачем он мне? Каждый раз обратно приношу.
- Не разговаривай! На вот краюшку. Не задавит она тебя. Спокон веку так заведено, мал ещё таёжные законы переиначивать.
Тут уж с матерью не поспоришь. Таков старинный порядок: идёшь в лес - бери еду, бери спички. Васютка покорно сунул краюшку в мешок и поспешил исчезнуть с глаз матери, а то ещё придерётся к чему-нибудь. Весело насвистывая, шёл он по тайге, следил за пометками на деревьях и думал о том, что, наверное, всякая таёжная дорога начинается с затесей. Сделает человек зарубку на одном дереве, отойдёт немного, ещё топором тюкнет, потом ещё. За этим человеком пойдут другие люди; собьют каблуками мох с валежин, притопчут траву, ягодники, отпечатают следы в грязи, и получится тропинка. Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со временем, а уж морщинки-то на лице едва ли зарастут .Склонность к пространным рассуждениям, как у всякого таёжника, рано появилась у Васютки. Он ещё долго думал бы о дороге и о всяких таёжных разностях, если бы не скрипучее кряканье где-то над головой. «Кра-кра-кра!..» - неслось сверху, будто тупой пилой резали крепкий сук. Васютка поднял голову. На самой вершине старой взлохмаченной ели увидел кедровку. Птица держала в когтях кедровую шишку и орала во всё горло. Ей так же горласто откликались подруги.
Васютка не любил этих нахальных птиц. Он снял сплеча ружье, прицелился и щёлкнул языком, будто на спуск нажал. Стрелять он не стал. Ему ужо не paз драли уши за попусту сожженные патроны. Трепет перед драгоценным «припасом» (так называют сибирские охотники порох и дробь) крепко вбит в сибиряков отроду. - «Кра-кра»! - передразнил Васютка кедровку и запустил в нее палкой. Досадно было парню, что не может он долбануть птицу, даром что ружьё в руках. Кедровка перестала кричать, неторопливо ощипалась, задрала голову, и по лесу снова понеслось ее скрипучее «кра!».
- Тьфу, ведьма проклятая! - выругался Васютка и пошёл. Ноги мягко ступали по мху. На нём там и сям валялись шишки, попорченные кедровками. Они напоминали комочки сотов. В некоторых отверстиях шишек, как пчёлки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у кедровки: пустые орехи птица даже не вынимает из гнёздышка. Васютка поднял одну шишку, осмотрел её со всех сторон и покачал головой: - Эх и пакость же ты!
Бранился Васютка так, для солидности. Он ведь знал, что кедровка - птица полезная: она разносит по тайге семена кедра. Наконец Васютка облюбовал дерево и полез на него. Намётанным глазом он определил: там, в густой хвое, упрятались целые выводки смолистых шишек. Он принялся колотить ногами по разлапистым веткам кедра. Шишки так и посыпались вниз. Васютка слез с дерева, собрал их в мешок и, не торопясь, закурил. Попыхивая цигаркой, оглядел окружающий лес и облюбовал ещё один кедр.
- Обобью и этот, тяжеловато будет, пожалуй, да ничего, донесу.
Он тщательно заплевал цигарку, придавил ее каблуком и пошел. Вдруг впереди Васютки что-то сильно захлопало. Он вздрогнул от неожиданности и тут же увидел поднимающуюся с земли большую чёрную птицу.
«Глухарь!» - догадался Васютка, и сердце его замерло. Стрелял он и уток, и куликов, и куропаток, но глухаря подстрелить ему ещё не доводилось. Глухарь перелетел через мшистую поляну, вильнул между деревьями и сел на сухостоину. Попробуй подкрадись! Мальчик стоял неподвижно и не спускал глаз с огромной птицы. Вдруг он вспомнил, что глухаря часто берут с собакой. Охотники рассказывали, что глухарь, сидя на дереве, с любопытством смотрит вниз, на заливающуюся лаем собаку, а порой и подразнивает её. Охотник тем временем незаметно подходит с тыла и стреляет. Васютка же, как назло, не позвал с собою Дружка. Обругав себя шёпотом за оплошность, Васютка пал на четвереньки, затявкал, подражая собаке, и стал осторожно продвигаться вперёд. От волнения голос у него прерывался. Глухарь замер, с любопытством наблюдая эту интересную картину. Мальчик расцарапал себе лицо, порвал телогрейку, но ничего этого не замечал. Перед ним наяву глухарь! Пора! Васютка быстро встал на одно колено и попытался с маху посадить на мушку забеспокоившуюся птицу. Наконец унялась дрожь в руках, мушка перестала плясать, кончик её задел глухаря…
Тр-рах! - и чёрная птица, хлопая крыльями, полетела в глубь леса. «Ранил!» - встрепенулся Васютка и бросился за подбитым глухарём. Только теперь он догадался, в чём дело, и начал беспощадно корить себя: - Мелкой дробью грохнул. А что ему мелкой-то? Он чуть не с Дружка!
Птица уходила небольшими перелётами. Они становились всё короче и короче. Глухарь слабел. Вот он, уже не в силах поднять грузное тело, побежал. «Теперь всё - догоню!» - уверенно решил Васютка и припустил сильнее. До птицы оставалось совсем недалеко. Быстро скинув с плеча мешок, Васютка поднял ружьё и выстрелил. В несколько прыжков очутился возле глухаря и упал на него животом. - Стоп, голубчик, стоп! Не уйдёшь теперь! Ишь, какой прыткий! Я, брат, тоже бегаю - будь здоров!
Васютка с довольной улыбкой гладил глухаря, любуясь чёрными с голубоватым отливом перьями. Потом взвесил на руке. «Килограммов пять будет, а то и полпуда, - прикинул он и сунул птицу в мешок. - Побегу, а то мамка наподдаст по загривку». Думая о своей удаче, Васютка, счастливый щел по лесу, насвистывал, пел, что на ум приходило. Вдруг он спохватился: где же затеси? Пора уж им быть. Он посмотрел кругом. Деревья ничем не отличались от тех, на которых были сделаны зарубки. Лес стоял неподвижно, тихий в своей унылой задумчивости, такой же редкий, полуголый, сплошь хвойный. Лишь кое-где виднелись хилые берёзки с редкими жёлтыми листьями. Да, лес был такой же. И всё же от него веяло чем-то чужим… Васютка круто повернул назад. Шёл он быстро, внимательно присматриваясь к каждому дереву, но знакомых зарубок не было.
- Ффу-ты, чёрт! Где же затеси?
Сердце у Васютки сжалось, на лбу выступила испарина.
- Всё этот глухарина! Понёсся, как леший, теперь вот думай, куда идти, - заговорил Васютка вслух, чтобы отогнать подступающий страх.
- Ничего, сейчас посоображаю и найду дорогу. Та-ак… Почти голая сторона у ели - значит, в ту сторону север, а где ветвей больше - юг. Та-ак…
После этого Васютка пытался припомнить, на какой стороне деревьев сделаны зарубки старые и на какой - новые. Но этого-то он и не приметил. Затеси и затеси. - Эх, дубина!
Страх начал давить ещё сильнее. Мальчик снова заговорил вслух: - Ладно, не робей. Найдём избушку. Надо идти в одну сторону. На юг надо идти. У избушки Енисей поворот делает, мимо никак не пройдёшь. Ну вот, всё в порядке, а ты, чудак, боялся! - хохотнул Васютка и бодро скомандовал себе: - Шагом арш! Эть, два!
Но бодрости хватило ненадолго. Затесей всё не было и не было. Порой мальчику казалось, что он ясно видит их на тёмном стволе. С замирающим сердцем бежал он к дереву, чтобы пощупать рукой зарубку с капельками смолы, но вместо неё обнаруживал шершавую складку коры. Васютка уже несколько раз менял направление, высыпал из мешка шишки и шагал, шагал. В лесу сделалось совсем тихо. Васютка остановился и долго стоял прислушиваясь. Тук-тук-тук, тук-тук-тук… - билось сердце. Потом напряжённый до предела слух Васютки уловил какой-то странный звук. Где-то слышалось жужжание. Вот оно замерло и через секунду снова донеслось, как гудение далёкого самолёта. Васютка нагнулся и увидел у ног своих истлевшую тушку птицы. Опытный охотник - паук растянул над мёртвой птичкой паутину. Паука уже нет - убрался, должно быть, зимовать в какое-нибудь дупло, а ловушку бросил. Попалась в неё сытая, крупная муха-плевок и бьётся, бьётся, жужжит слабеющими крыльями. Что-то начало беспокоить Васютку при виде беспомощной мухи, влипшей в тенёта. И тут его будто стукнуло: да ведь он заблудился!
Открытие это было настолько простым и потрясающим, что Васютка не сразу пришёл в себя. Он много раз слышал от охотников страшные рассказы о том, как блуждают люди в лесу и погибают иногда, но представлял это совсем не так. Уж очень просто всё получилось. Васютка ещё не знал, что страшное в жизни часто начинается очень просто. Оцепенение длилось до тех пор, пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох к глубине потемневшего леса. Он вскрикнул и бросился бежать. Сколько paз oн спотыкался, падал, вставал и снова бежал, Васютка не знал. Наконец он заскочил в бурелом и начал с треском продираться сквозь сухие колючие ветви. Потом упал с валежин вниз лицом в сырой мох и замер. Отчаяние охватило его, и сразу не стало сил. «Будь что будет», - отрешённо подумал он. Влез бесшумно, как сова, прилетела ночь. А с нею и холод. Васютка почувствовал, как стынет взмокшая от пота одежда.
«Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» - вспомнились ему слова отца и дедушки. И он стал припоминать всё, чему его учили, что знал из рассказов рыбаков и охотников. Перво-наперво надо развести огонь. Ладно, что спички захватил из дому. Пригодились спички. Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил всё в кучку и поджёг. Огонёк, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Мох вспыхнул - вокруг посветлело. Васютка подбросил ещё веток. Между деревьями зашарахались тени, темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело несколько комаров - веселее с ними. Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, вздохнул и с тоской подумал: «Плачет, поди, мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он переборол себя и, ощипав глухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. Потом сгрёб костёр в сторону, на горячем месте выкопал ямку и положил туда птицу. Плотно закрыв её мхом, присыпал горячей землёй, золой, углями, сверху положил пылающие головни и подбросил дров. Через час примерно он раскопал глухаря. От птицы шёл пар и аппетитный запах: глухарь упрел в собственном соку - охотничье блюдо! Но без соли какой же вкус! Васютка через силу глотал пресное мясо.
- Эх, дурило, дурило! Сколько этой соли в бочках на берегу! Что стоило горсточку в карман сыпануть! - укорял он себя. Потом вспомнил, что мешок, который он взял для шишек, был из-под соли, и торопливо вывернул его. Из уголков мешка он выковырял щепотку грязных кристалл иков, раздавил их на прикладе ружья и через силу улыбнулся:-Живём! Поужинав, Васютка сложил остатки еды в мешок, повесил его на сук, чтобы мыши или кто-нибудь ещё не добрался до харчей, и принялся готовить место для ночлега. Он перенёс в сторону костёр, убрал все угольки, набросал веток с хвоей, мху и лёг, накрывшись телогрейкой. Снизу подогревало. Занятый хлопотами, Васютка не так остро чувствовал одиночество. Но стоило лечь и задуматься, как тревога начала одолевать с новой силой.
Заполярная тайга не страшна зверьём. Медведь здесь редкий житель. Волков нет. Змей - тоже. Бывает, встречаются рыси и блудливые песцы. Но осенью корма для них полно в лесу, и едва ли они могли бы позариться на Васюткины запасы. И всё-таки было жутко. Он зарядил одноствольную переломку, взвёл курок и положил ружьё рядом. Спать! Не прошло и пяти минут, как Васютка почувствовал, что к нему кто-то крадётся. Он открыл глаза и замер: да, крадётся! Шаг, второй, шорох, вздох… Кто-то медленно и осторожно идёт по мху. Васютка боязливо поворачивает голову и неподалёку от костра видит что-то темное, большое. Сейчас оно стоит, не шевелится. Мальчик напряжённо вглядывается и начинает различать вздетые к небу не то руки, не то лапы. Васютка не дышит: «Что это?» В глазах от напряжения рябит, нет больше сил сдерживать дыхание. Он вскакивает, направляет ружьё на это тёмное: - Кто такой? А ну подходи, не то садану картечью! В ответ ни звука. Васютка ещё некоторое время стоит неподвижно, потом медленно опускает ружьё и облизывает пересохшие губы.
- Ну, чего смотришь? Не узнала? - с улыбкой обратился к ней Васютка. Белка пошевелила пушистым хвостиком.
- А я вот заблудился. Понёсся сдуру за глухарём и заблудился. Теперь меня по всему лесу ищут, мамка ревёт. Не понимаешь ты ничего, толкуй с тобой! А то бы сбегала, сказала нашим, где я. Ты вон какая проворная! Он помолчал и махнул рукой: -Убирайся давай, рыжая, стрелять буду!
Васютка вскинул ружьё и выстрелил в воздух. Белка, будто пушинка, подхваченная ветром, метнулась и пошла считать деревья. Проводив её взглядом, Васютка выстрелил ещё раз и долго ждал ответа. Тайга не откликалась. По-прежнему надоедливо, вразнобой горланили кедровки, неподалёку трудился дятел да пощёлкивали капли росы, осыпаясь с деревьев. Патронов осталось 10 штук. Стрелять Васютка больше не решился. Он снял телогрейку, бросил на неё кепку и, поплевав на руки, полез на дерево. Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная. С высоты она казалась огромным тёмным морем. Небо не обрывалось сразу, как это бывает в горах, а тянулось далеко-далеко, всё ближе прижимаясь к вершинам леса. Облака над головой были редкие, но чем дальше смотрел Васютка, тем они делались гуще, и наконец голубые проёмы исчезли совсем. Облака спрессованной ватой ложились на тайгу, и она растворялась в них.
Долго Васютка отыскивал глазами жёлтую полоску лиственника среди неподвижного зелёного моря (лиственный лec обычно тянется по берегам реки), но кругом темнел сплошной хвойник. Видно, Енисей и тот затерялся в глухой, угрюмой тайге. Маленьким-маленьким почувствовал себя Васютка и закричал с тоской и отчаянием: - Э-эй, мамка! Папка! Дедушка!Заблудился я!..
Голос его пролетел немного над тайгой и упал невесомо - кедровой шишкой в мох. Медленно спустился Васютка с дерева, задумался, да так и просидел с полчаса. Потом встряхнулся, отрезал мяса и, стараясь не смотреть на маленькую краюшку хлеба, принялся жевать. Подкрепившись, он собрал кучу кедровых шишек, размял их и стал насыпать в карманы орехи. Руки делали своё дело, а в голове решался вопрос, один-единственный вопрос: «Куда идти?» Вот уж и карманы полны орехов, патроны проверены, к мешку вместо лямки приделан ремень, а вопрос всё ещё не решён. Наконец Васютка забросил мешок за плечо, постоял с минуту, как бы прощаясь с обжитым местом, и пошёл строго на север. Рассудил он просто: в южную сторону тайга тянется на тысячи километров, в ней вовсе затеряешься. А если идти на север, то километров через сто лес кончится, начнётся тундра. Васютка понимал, что выйти в тундру - это ещё не спасение. Поселения там очень редки, и едва ли скоро наткнёшься на людей. Но ему хотя бы выбраться из лесу, который загораживает свет и давит своей угрюмостью.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 17 Сен 2024, 08:43 | Сообщение # 53 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Погода держалась все ещё хорошая. Васютка боялся и подумать о том, что с ним будет, если разбушуется осень. По всем признакам ждать этого осталось недолго. Солнце пошло на закат, когда Васюткa заметил среди однообразного мха тощие стебли травы. Он прибавил шагу. Трава стала попадаться чаще и уже уже не отдельными былинками, а пучками. Васютка заволновался: трава растет обычно вблизи больших водоёмов. «Неужели впереди Енисей?» - с наплывающей радостью думал Васютка. Заметив меж хвойных деревьев берёзки, осинки, а дальше мелкий кустарник, он не сдержался, побежал и скоро ворвался в густые заросли черёмушника, ползучего тальника, смородинника. Лицо и руки жалила высокая крапива, но Васютка не обращал на это внимания и, защищая рукой глаза от гибких ветвей, с треском продирался вперёд. Меж кустов мелькнул просвет. Впереди берег… Вода! Не веря своим глазам, Васютка остановился. Так он простоял некоторое время и почувствовал, что ноги его вязнут. Болото! Болота чаще всего бывают у берегов озёр. Губы Васютки задрожали: «Нет, неправда!Бывают болота возле Енисея тоже».
Несколько прыжков через чащу, крапиву, кусты - и вот он на берегу. Нет, это не Енисей. Перед глазами Васютки небольшое унылое озеро, подёрнутое у берега ряской. Васютка лёг на живот, отгрёб рукою зелёную кашицу ряски и жадно припал губами к воде. Потом он сел, усталым движением снял мешок, начал было вытирать кепкой лицо и вдруг, вцепившись в неё зубами, навзрыд расплакался. Заночевать решил Васютка на берегу озера. Он выбрал посуше место, натаскал дров, развёл огонь. С огоньком всегда веселее, а в одиночестве - тем более. Обжарив в костре шишки, Васютка одну за другой выкатил их из золы палочкой, как печёную картошку. От орехов уже болел язык, но он решил: пока хватит терпения, не трогать хлеб, а питаться орехами, мясом, чем придётся.
Опускался вечер. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката, тянулись живыми струями в глубину и терялись там, не достигая дна. Прощаясь со днем, кое-где с грустью тинькали синички, плакала сойка, стонали гагары. И всё-таки у озера было куда веселее, чем в гуще тайги. Но здесь ещё сохранилось много комаров. Они начали донимать Васютку. Отмахиваясь от них, мальчик внимательно следил за ныряющими на озеро утками. Они были совсем не пуганы и плавали возле самого берега с хозяйским покрякиванием. Уток было множество. Стрелять по одной не было никакого расчёта. Васюткa, прихватив ружьё, отправился на мысок, вдававшийся в озеро, и сел на траву. Рядом с осокой, на гладкой поверхности воды, то и дело расплывались круги. Это привлекло внимание мальчика. Васютка взглянул в воду и замер: около травы, плотно, одна к другой, пошевеливая жабрами и хвостами, копошились рыбы. Рыбы было так много, что Васютку взяло сомнение: «Водоросли,наверно?»
Он потрогал траву палкой. Косяки рыбы подались от берега и снова остановились, лениво работая плавниками. Столько рыбы Васютка ещё никогда не видел. И не просто какой-нибудь озёрной рыбы: щуки там, сороги или окуня. Нет, по широким спинам и белым бокам он узнал пелядей, чиров, сигов. Это было удивительнее всего. В озере - белая рыба! Васютка сдвинул свои густые брови, силясь что-то припомнить. Но в этот момент табун уток-свиязей отвлёк его от размышлений. Он подождал, пока утки поравняются с мысом, выцелил пару и выстрелил. Две нарядные свиязи опрокинулись кверху брюшками и часто-часто задвигали лапками. Ещё одна утка, оттопырив крыло, боком уплывала от берега. Остальные всполошились и с шумом полетели на другую сторону озера. Минут десять над водой носились табуны перепуганных птиц. Пару подбитых уток мальчик достал\ длинной палкой, а третья успела уплыть далеко.
- Ладно, завтра достану, - махнул рукой Васютка. Небо уже потемнело, в лес опускались сумерки. Середина озера напоминала сейчас раскалённую печку. Казалось, положи на гладкую поверхность воды ломтики картошки, они мигом испекутся, запахнет горелым и вкусным. Васютка проглотил слюну, ещё раз поглядел на озеро, на кровянистое небо и с тревогой проговорил: - Ветер завтра будет. А вдруг ещё с дождём?
Он ощипал уток, зарыл их в горячие угли костра, лёг на пихтовые ветки и начал щёлкать орехи. Заря догорала. В потемневшем небе стыли редкие неподвижные облака. Начали прорезаться звёзды. Показался маленький, похожий на ноготок, месяц. Стало светлее. Васютка вспомнил слова дедушки: «Вызвездило- к холоду!» - и на душе у него сделалось ещё тревожнее. Чтобы отогнать худые мысли, Васютка старался думать сначала о доме, а потом ему вспомнилась школа, товарищи. Васютка дальше Енисея ещё никогда не бывал и видел только один город - Игарку. А много ли в жизни хотелось узнать и увидеть Васютке? Много. Узнает ли? Выберется ли из тайги? Затерялся в ней точно песчинка. А что теперь дома? Там, за тайгой, люди словно в другом мире: смотрят кино, едят хлеб, может, даже конфеты. Едят сколько угодно. В школе сейчас, наверное, готовятся встречать учеников. Над школьными дверями уже вывешен новый плакат, на котором крупно написано: «Добро пожаловать!» Совсем приуныл Васютка. Жалко ему самого себя стало, начало донимать раскаяние. Не слушал вот он на уроках и в перемену чуть не на голове ходил, покуривал тайком. B школу съезжаются ребята со всей округи: тут и эвенки, тут и ненцы, и нганасаны. У них свои привычки. Бывало, достанет кто-нибудь из них на уроке трубку и без лишних рассуждений закуривает.
Особенно грешат этим малыши - первоклассники. Они только что из тайги и никакой дисциплины не понимают. Станет учительница Ольга Фёдоровна толковать такому ученику насчёт вредности курева -а он обижается; трубку отберут - ревёт. Сам Васютка тоже покуривал и им табачок давал.
- Эх, сейчас бы Ольгу Фёдоровну увидеть. Весь бы табак вытряхнул.
Устал Васютка за день, но сон не шёл. Он подбросил в костёр дров, снова лёг на спину. Облака исчезли. Далёкие и таинственные, перемигивались звёзды, словно звали куда-то. Вот одна из них ринулась вниз, прочертила тёмное небо и тут же растаяла.
«Погасла звёздочка - значит, жизнь чья-то оборвалась», - вспомнил Васютка слова дедушки Афанасия. Совсем горько стало Васютке. «Может быть, увидели её наши?» - подумал он натягивая на лицо телогрейку, и вскоре забылся беспокойным сном.
Проснулся Васютка поздно, от холода, и не увидел ни озера, ни неба, ни кустов. Опять кругом был клейкий, неподвижный туман. Только слышались с озера громкие и частые шлепки: это играла и кормилась рыба. Васютка встал, поёжился, раскопал уток, раздул угольки. Когда костёр разгорелся, он погрел спину, потом отрезал кусочек хлеба, взял одну утку и принялся торопливо есть. Мысль, которая вчера вечером беспокоила Васютку, снова полезла в голову: «Откуда в озере столько белой рыбы?»
Он не раз слышал от рыбаков, что в некоторых озёрах будто бы водится белая рыба, но озёра эти должны быть или были когда-то проточными. «А что, если?..» Да, если озеро проточное и из него вытекает речка, она в конце концов приведёт его к Енисею. Нет, лучше не думать. Вчера вон обрадовался - Енисей, Енисей, - а увидел шиш болотный. Не-ет, уж лучше не думать. Покончив с уткой, Васютка ещё полежал у огня, пережидая, когда уляжется туман. Веки склеивались. Но и сквозь тягучую, унылую дремоту пробивалось: «Откуда всё же взялась в озере речная рыба? Тьфу, нечистая сила, привязалась как банный лист. Откуда, откуда! Ну,может, птицы икру на лапах принесли, ну, может, и мальков, ну, может… А, к лешакам всё!
Васютка вскочил и,сердито треща кустами, натыкаясь в тумане на валежины, начал пробираться вдоль берега. Вчерашней убитой утки на воде не обнаружил, удивился и решил, что её коршун утащил или съели водяные крысы. Васютке казалось, что в том месте, где смыкаются берега, и есть конец озера, но он ошибся. Там был лишь перешеек. Когда туман растворился, перед мальчиком открылось большое, мало заросшее озеро, а то, возле которого он ночевал, было всего-навсего заливом - отголоском озера. - Вот это да! -ахнул Васютка. - Вот где рыбищи-то, наверно… Уж здесь не пришлось бы зря сетями воду цедить. Выбраться бы, рассказать бы. И, подбадривая себя, он прибавил: - А что? И выйду! Вот пойду, пойду и…
Тут Васютка заметил небольшой комочек, плавающий у перешейка, подошёл ближе и увидел убитую утку. Он так и обомлел: «Неужели моя? Как же её принесло сюда?!»
Мальчик быстро выломал палку и подгрёб птицу к себе. Да, это была утка-свиязь с окрашенной в вишнёвый цвет головкой.
- Моя! Моя! - в волнении забормотал Васютка, бросая утку в мешок. - Моя уточка! Его даже лихорадить начало. - Раз ветра не было, аутку отнесло, значит, есть тягун, озеро проточное! И радостно, и как-то боязно было верить в это. Торопливо переступая с кочки на кочку, через бурелом, густые ягодники продирался Васютка. В одном месте почти из-под ног взметнулся здоровенный глухарь и сел неподалёку. Васютка показал ему кукиш: -А этого не хочешь? Провалиться мне, если я ещё свяжусь с вашим братом!
Поднимался ветер. Качнулись, заскрипели отжившие свой век сухие деревья. Над озером заполошной стаей закружились поднятые с земли и сорванные с деревьев листья. Застонали гагары, вещая непогоду. Озеро подёрнулось морщинами, тени на воде заколыхались, облака прикрыли солнце, вокруг стало хмуро, неуютно. Далеко впереди Васютка заметил уходящую в глубь тайги жёлтую бороздку лиственного леса. Значит, там речка. От волнения у него пересохло в горле.
«Опять какая-нибудь кишка озёрная. Мерещится, и всё», - засомневался Васютка, однако пошёл быстрее. Теперь он даже боялся остановиться попить: что, если наклонится к воде, поднимет голову и не увидит впереди яркой бороздки? Пробежав с километр по едва приметному бережку, заросшему камышом, осокой и мелким кустарником, Васютка остановился и перевёл дух. Заросли сошли на нет, а вместо них появились высокие обрывистые берега .- Вот она, речка! Теперь уж без обмана! - обрадовался Васютка. Правда, он понимал, что речушки могут впадать не только в Енисей, но и в какое-нибудь другое озеро, но он не хотел про это думать. Речка, которую он так долго искал, должна привести его к Енисею, иначе… он обессилеет и пропадёт. Вон, с чего-то уж тошнит… Чтобы заглушить тошноту, Васютка на ходу срывал гроздья красной смородины, совал их в рот вместе со стебельками. Рот сводило от кислятины и щипало язык, расцарапанный ореховой скорлупой. Пошёл дождь. Сначала капли были крупные, редкие, потом загустело кругом, полилось, полилось….
Васютка приметил пихту, широко разросшуюся среди мелкого осинника, и залёг под неё. Не было ни желания, ни сил шевелиться, разводить огонь. Хотелось есть и спать. Он отковырнул маленький кусочек от чёрствой краюшки и, чтобы продлить удовольствие, не проглотил его сразу, а начал сосать. Есть захотелось ещё сильнее. Васютка выхватил остатки горбушки из мешка, вцепился зубами и, плохо разжёвывая, съел всю. Дождь не унимался. От сильных порывов ветра качалась пихта, стряхивая за воротник Васютке холодные капли воды. Они ползли по спине. Васютка скорчился, втянул голову в плечи. Веки его сами собой начали смыкаться, будто повесили на них тяжёлые грузила, какие привязывают к рыболовным сетям. Когда он очнулся, на лес уж спускалась темнота, смешанная с дождём. Было всё так же тоскливо; сделалось ещё холоднее. - Ну и зарядил, окаянный! - обругал Васютка дождь.
Он засунул руки в рукава, прижался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяжёлым сном. На рассвете Васютка, стуча зубами от холода, вылез из-под пихты, подышал на озябшие руки и принялся искать сухие дрова. Осинник за ночь разделся почти донага. Будто тоненькие пластинки свёклы, на земле лежали тёмно-красные листья. Вода в речке заметно прибыла. Лесная жизнь примолкла. Даже кедровки и те не подавали голоса. Расправив полы ватника, Васютка защитил от ветра кучу веток и лоскуток берёсты. Спичек осталось четыре штуки. Не дыша, он чиркнул спичку о коробок, дал огоньку разгореться в ладонях и поднёс к берёсте. Она стала корчиться, свернулась в трубочку и занялась.
Потянулся хвостик чёрного дыма. Сучки, шипя и потрескивая, разгорались. Васютка снял прохудившиеся сапоги, размотал грязные портянки. Ноги издрябли и сморщились от сырости. Он погрел их. Высушил сапоги и портянки, оторвал от кальсон тесёмки и подвязал ими державшуюся на трёх гвоздях подошву правого сапога. Греясь возле костра, Васютка неожиданно уловил что-то похожее на комариный писк и замер. Через секунду звук повторился, вначале протяжно, потом несколько раз коротко.
«Гудок! - догадался Васютка. - Пароход гудит! Но почему же он слышится оттуда, с озера? А-а, понятно».
Мальчик знал эти фокусы тайги: гудок всегда откликается на ближнем водоёме. Но гудит-то пароход на Енисее! В этом Васютка был уверен. Скорей, скорей бежать туда! Он так заторопился, будто у него был билет на этот самый пароход. В полдень Васютка поднял с реки табун гусей, ударил по ним картечью и выбил двух. Он спешил, поэтому зажарил одного гуся на вертеле, а не в ямке, как это делал раньше. Осталось две спички, кончались и Васюткины силы. Хотелось лечь и не двигаться. Он мог бы отойти метров на 200-300 от речки. Там, по редколесью, было куда легче пробираться, но он боялся потерять речку из виду. Мальчик брёл, почти падая от усталости. Неожиданно лес расступился, открыв перед Васюткой отлогий берег Енисея. Мальчик застыл. У него даже дух захватило - так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой. Он бросился вперёд, упал на край берега и жадными глотками стал хватать воду, шлёпать по ней руками, окунать в неё лицо.
- Енисеюшко! Славный, хороший… - шмыгал Васютка носом и размазывал грязными, пропахшими дымом руками слезы по лицу. От радости Васютка совсем очумел. Принялся прыгать, подбрасывать горстями песок. С берега поднялись стаи белых чаек и с недовольными криками закружились над рекой.Так же неожиданно Васютка очнулся, перестал шуметь и даже несколько смутился, оглядываясь вокруг. Но никого нигде не было, и он стал решать, куда идти: вверх или вниз по Енисею? Место было незнакомое. Мальчик так ничего и не придумал. Обидно, конечно: может быть, дом близко, в нём мать, дедушка, отец, еды - сколько хочешь, а тут сиди и жди, пока кто-нибудь проплывёт, а плавают в низовьях Енисея не часто…Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу друг другу, хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вон там, в верховьях реки, появился дымок. Маленький, будто от папиросы. Дымок становится всё больше и больше… Вот уж под ним обозначилась тёмная точка. Идёт пароход. Долго ещё ждать его. Чтобы как-нибудь скоротать время, Васютка решил умыться. Из воды на него глянул парнишка с заострившимися скулами. От дыма, грязи и ветра брови стали у него ещё темнее, а губы потрескались. - Ну и дошёл же ты, дружище! - покачал головой Васютка. А что, если бы дольше пришлось бродить?
Пароход всё приближался и приближался. Васютка уже видел, что это не обыкновенный пароход, а двухпалубный пассажирский теплоход. Васютка силился разобрать надпись и, когда наконец это ему удалось, с наслаждением прочитал вслух:- «Серго Орджоникидзе». На теплоходе маячили тёмные фигурки пассажиров. Васютка заметался на берегу.
- Э-эй, пристаньте! Возьмите меня!Э-эй!.. Слушайте!..
Кто-то из пассажиров заметил его и помахал рукой. Растерянным взглядом проводил Васютка теплоход.
- Эх, вы-ы, ещё капитанами называетесь! «Серго Орджоникидзе», а человеку помочь не хотите…
Васютка понимал, конечно, что за долгий путь от Красноярска капитаны видели множество людей на берегу, около каждого не наостанавливаешься, - и всё-таки было обидно. Он начал собирать дрова на ночь. Эта ночь была особенно длинной и тревожной. Васютке всё казалось, что кто-то плывёт по Енисею. То он слышал шлёпанье вёсел, то стук моторки, то пароходные гудки. Под утро он и в самом деле уловил равномерно повторяющиеся звуки: бут-бут-бут-бут… Так могла стучать только выхлопная труба рыбо-сборочного катера-бота.
- Неужели дождался? - Васютка вскочил, протёр глаза и закричал: - Стучит! - и опять прислушался и начал, приплясывая,напевать: - Бот стучит, стучит, стучит!.
Тут же опомнился, схватил свои манатки и побежал поберегу навстречу боту. Потом кинулся назад и стал складывать в костёр все припасённые дрова: догадался, что у костра скорей его заметят. Взметнулись искры, высоко поднялось пламя. Наконец из предрассветной мглы выплыл высокий неуклюжий силуэт бота. Васютка отчаянно закричал:- На боте! Э-эй, наботе! Остановитесь! Заблудился я! Э-эй! Дяденьки! Кто там живой? Э-эй, штурвальный!.. Он вспомнил про ружьё, схватил его и начал палить вверх: бах! бах! бах!
- Кто стреляет? - раздался гулкий, придавленный голос, будто человек говорил, не разжимая губ. Это в рупор спрашивали с бота.- Да это я, Васька! Заблудился я! Пристаньте, пожалуйста! Пристаньте скорее!..
На боте послышались голоса, и мотор, будто ему сунули в горло паклю, заработал глуше. Раздался звонок, из выхлопной трубы вылетел клуб огня. Мотор затарахтел с прежней силой: бот подрабатывал к берегу. Но Васютка никак не мог этому поверить и выпалил последний патрон.-Дяденька, не уезжайте! - кричал он. - Возьмите меня! Возьмите!..
От бота отошла шлюпка. Васютка кинулся в воду, побрёл навстречу, глотая слезы и приговаривая: - За-заблудился-а, совсем заблудился-а
Потом, когда втащили его в шлюпку, заторопился:- Скорее, дяденьки, плывите скорее,а то уйдёт ещё бот-то! Вон вчера пароход только мелькну-ул…
- Ты, малый, що, сказывся?! - послышался густой бас с кормы шлюпки, и Васютка узнал по голосу и смешному украинскому выговору старшину бота «Игарец».
- Дяденька Коляда! Это вы? А это я, Васька!- перестав плакать, заговорил мальчик. - Який Васька?- Дашадринский. Григория Шадрина, рыбного бригадира, знаете?
- Тю-у! А як ты сюды попав?
И когда в тёмном кубрике, уплетая за обе щеки хлеб с вяленой осетриной, Васютка рассказывал о своих похождениях, Коляда хлопал себя по коленям и восклицал: - Ай, скажэнный хлопець! Тана що тоби той глухарь сдався? Во налякав ридну маты и батьку…- Ещё и дедушку…
Коляда затрясся от смеха:
: Ой, шо б тоби! Он и дида вспомнил! Ха-ха-ха! Ну и бисова душа! Да знаешьли ты, дэ тебя вынесло?
- Не-е-е.
- Шестьдесят километров ниже вашего стану.
- Ну-у?
- Оце тоби и ну! Лягай давай спать, горе ты мое гиркое.
Васютка уснул на койке старшины, закутанный в одеяло и в одежду, какая имелась в кубрике. А Коляда глядел на него, разводил руками и бормотал:- Во, герой глухариный спит соби, а батько с маткой с глузду зъихалы…
Не переставая бормотать, он поднялся к штурвальному и приказал:- На Песчаному острови и у Корасихи не будет остановки. Газуй прямо к Шадрину.
- Понятно, товарищ старшина, домчим хлопца мигом!
Подплывая к стоянке бригадира Шадрина,штурвальный покрутил ручку сирены. Над рекой понёсся пронзительный вой. Но Васютка не слышал сигнала .На берёг спустился дедушка Афанасий и принял чалку с бота.
- Что это ты сегодня один-одинёшенек? -спросил вахтенный матрос, сбрасывая трап.
- Не говори, паря, - уныло отозвался дед. - Беда у нас, ой беда! Васютка, внук-то мой, потерялся. Пятый день ищем. Ох-хо-хо, парнишка-то был какой, парнишка-то, шустрый, востроглазый!..
- Почему был? Рано ты собрался его хоронить! Ещё с правнуками понянчишься!
И, довольный тем, что озадачил старика, матрос с улыбкой добавил:
- Нашёлся ваш пацан, в кубрике спит себе и в ус не дует.
- Чего это? - встрепенулся дед и выронил кисет, из которого зачерпывал трубкой табак.
- Ты…ты, паря, над стариком не смейся. Откудова Васютка мог на боте взяться?
- Правду говорю, на берегу мы его подобрали! Он там такую полундру устроил - все черти в болото спрятались!
- Да не треплись ты! Где Васютка-то? Давай его скорей! Цел ли он!
- Це-ел.
Старшина пошёл его будить. Дед Афанасий бросился было к трапу, но тут же круто повернул и засеменил наверх, к избушке:-Анна! Анна! Нашёлся пескаришка-то! Анна! Где ты там? Скорее беги! Отыскался он…
В цветастом переднике, со сбившимся набок платком показалась Васюткина мать. Когда, она увидела спускавшегося по трапу оборванного Васютку, ноги её подкосились. Она со стоном осела на камни, протягивая руки навстречу сыну. И вот Васютка дома! В избушке натоплено так, что дышать нечем. Накрыли его двумя стёгаными одеялами, оленьей дохой да ещё пуховой шалью повязали. Лежит Васютка на топчане разомлевший, а мать и дедушка хлопочут около, простуду из него выгоняют. Мать натёрла его спиртом, дедушка напарил каких-то горьких, как полынь, корней и заставил пить это зелье.
- Может, ещё что-нибудь покушаешь, Васенька? - нежно, как у больного, спрашивала мать.
- Да мам, некуда уж…
- А если вареньица черничного? Ты ведь его любишь!
- Если черничного, ложки две, пожалуй, войдёт.
- Ешь, ешь!
- Эх ты, Васюха, Васюха! - гладил его по голове дедушка, - Как же ты сплоховал? Раз уж такое дело, не надо было метаться. Нашли бы тебя скоро. Ну да ладно, дело прошлое. Мука - вперёд наука. Да-а, глухаря-то, говоришь, завалил всё-таки? Дело! Купим тебе новое ружьё на будущий год. Ты ещё медведя ухлопаешь. Помяни моё слово!
- Ни боже мой! - возмутилась мать. - Близко к избе вас с ружьём не подпущу. Гармошку, приёмник покупайте, а ружья чтобы и духу не было!
- Пошли бабьи разговоры! - махнул рукой дедушка, - Ну, поблукал маленько парень. Так что теперь,по-твоему, и в лес не ходить?
Дед подмигнул Васютке: дескать, не обращай внимания, будет новое ружьё - и весь сказ! Мать хотела ещё что-то сказать, но на улице залаял Дружок, и она выбежала из избушки. Из лесу, устало опустив плечи, в мокром дождевике, шёл Григорий Афанасьевич. Глаза его ввалились, лицо, заросшее густой чёрной щетиной, было мрачно.
- Напрасно всё, - отрешённо махнул он рукой. - Нету, пропал парень…
- Нашёлся! Дома он…
Григорий Афанасьевич шагнул к жене, минуту стоял растерянный, потом заговорил, сдерживая волнение:
- Ну, а зачем реветь? Нашёлся - и хорошо. К чему мокреть-то разводить? Здоров он? - и, не дожидаясь ответа, направился к избушке. Мать остановила его:
- Ты уж, Гриша, не особенно строго с ним. Он и так лиха натерпелся. Порассказывал, так мурашки по коже…
- Ладно, не учи!
Григорий Афанасьевич зашёл в избу, поставил угол ружьё, снял дождевик .Васютка, высунув голову из-под одеяла, выжидательно и робко следил за отцом. Дед Афанасий, дымя трубкой, покашливал.
- Ну, где ты тут, бродяга? - повернулся к Васютке отец, и губы его тронула чуть заметная улыбка.
- Вот он я! - привскочил с топчана Васютка, заливаясь счастливым смехом. - Укутала меня мамка, как девчонку, а я вовсе не простыл. Вот пощупай, пап.
Он протянул руку отца к своему лбу. Григорий Афанасьевич прижал лицо сына к животу и легонько похлопал по спине:
- Затараторил, варнак! У-у-у, лихорадка болотная! Наделал ты нам хлопот,попортил крови!. Рассказывай, где тебя носило?
- Он всё про озеро какое-то толкует, -заговорил дед Афанасий. - Рыбы, говорит, в нём видимо-невидимо.
- Рыбных озёр мы и без него знаем много, да не вдруг на них попадёшь.
- А к этому, папка, можно проплыть, потому что речка из него вытекает.
- Речка, говоришь? - оживился Григорий Афанасьевич. - Интересно! Ну-ка, ну-ка, рассказывай, что ты там за озеро отыскал…
Через два дня Васютка, как заправский провожатый,шагал по берегу речки вверх, а бригада рыбаков на лодках поднималась следом за ним. Погода стояла самая осенняя. Мчались куда-то мохнатые тучи, чуть не задевая вершины деревьев; шумел и качался лес; в небе раздавались тревожные крики птиц, тронувшихся на юг. Васютке теперь любая непогода была нипочём. В резиновых сапогах и в брезентовой куртке, он держался рядом с отцом, приноравливаясь к его шагу, и наговаривал:- Они, гуси-то, как взлетя-ат сразу все, я ка-ак дам! Два на месте упали, а один ещё ковылял, ковылял и свалился в лесу, да я не пошёл за ним, побоялся от речки отходить.
На Васюткины сапоги налипли комья грязи, он устал, вспотел и нет-нет да и переходил на рысь, чтобы не отстать от отца.
- И ведь я их влёт саданул, гусей-то…
Отец не отзывался. Васютка посеменил молча и опять начал:
– А что? Влет еще лучше, оказывается, стрелять: сразу вон несколько ухлопал!– Не хвались! – заметил отец и покачал головой. – И в кого ты такой хвастун растешь? Беда!
– Да я и не хвастаюсь: раз правда, так что мне хвалиться, – сконфуженно пробормотал Васютка и перевел разговор на другое. – А скоро, пап, будет пихта, под которой я ночевал. Ох, и продрог я тогда!
– Зато сейчас, я вижу, весь сопрел. Ступай к дедушке в лодку и похвались насчет гусей. Он любитель байки слушать. Ступай, ступай!
Васютка отстал от отца, подождал лодку, которую тянули бечевой рыбаки. Они очень устали, намокли, и Васютка постеснялся катиться в лодке и тоже взялся за бечеву и стал помогать рыбакам.Когда впереди открылось широкое, затерявшееся среди глухой тайги озеро, кто-то из рыбаков сказал:– Вот и озеро Васюткино… С тех пор так и пошло: Васюткино озеро, Васюткино озеро.Рыбы в нем оказалось действительно очень много. Бригада Григория Шадрина, а вскоре и еще одна колхозная бригада переключились на озерный лов.Зимой у этого озера была построена избушка. По снегу колхозники забросили туда рыбную тару, соль, сети и открыли постоянный промысел.На районной карте появилось еще одно голубое пятнышко, с ноготь величиной, под словами «Васюткино оз.». На краевой карте это пятнышко, всего с булавочную головку, уже без названия. На карте же нашей страны озеро это сумеет найти разве сам Васютка.Может, видели вы на физической карте в низовьях Енисея пятнышки, будто небрежный ученик брызнул с пера голубыми чернилами? Вот где-то среди этих кляксочек есть та, которую именуют Васюткиным озером.
1952
https://azbyka.ru/fiction/vasjutkino-ozero-astafev/
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 26 Янв 2025, 15:11 | Сообщение # 54 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | К 81-годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

I
Я еще чувствовал себя прекрасно, только в глазах иногда рябило. Появлялись огненные зубчатые колеса и красно-золотые геометрические фигуры, которые крутились, дрожали и застилали поле зрения. Потом колеса бледнели, фигуры потухали, и я опять все видел, как прежде. Был и другой симптом: выпадение сознания; вдруг очнусь где-нибудь на лестничной площадке и не могу вспомнить, как сюда попал, куда иду. Некоторые думают, что голод - это желание есть. На самом деле так бывает только вначале, а потом остается лишь ощущение тянущей тоскливой пустоты внутри. К пустоте внутри я уже привык, а про все эти колеса и короткие обмороки мои подчиненные не должны были знать.
В бомбоубежище я спустился тоже только ради своих подчиненных. Я не мог бы заставить их пойти, если бы не пошел сам. Они считали, что если бомба попадет, все равно где находиться - на доме, в доме или под домом; и я так считал. Но не ходить в бомбоубежище по тревоге - непорядок. А непорядка я допустить не мог. В бомбоубежище было тепло и сыро. Электрического тока не давали уже вторые сутки, и подвал озарялся желтым светом керосиновой лампы без стекла. Копоть медленно оседала на лицах, желтый лепесток огня отражался во всех глазах. Когда где-то падала бомба, огонек вздрагивал и в лампе и в глазах. В жестяной радиотарелке тикал метроном, и это означало, что воздушная тревога продолжается. Я задремал бы под это тикание на скользких от сырости нарах, если бы не Ангелина Ивановна, которая без конца говорила одно и то же - как она похудела. Действительно, два месяца назад, когда я впервые увидел ее здесь, в подвале, она была полная белокурая женщина, а теперь казалось, что тело ее состоит из пустых мешков. Она повторяла, что все сваливается с нее, и заставляла женщин щупать себя. Она жаловалась, что скоро умрет, и светлые кудряшки тряслись над ее лбом. Потом она рассказывала, как умер наш дворник. Об этом все уже знали, а я даже видел его, мертвого, сидевшего на деревянной лавке в конторе домоуправления. Ноги его в больших, совсем новых валенках протянуты были к чугунной печурке. Прошлой ночью он зашел туда погреться, заснул и не проснулся.
В бомбоубежище было человек 50, и все, кроме Ангелины Ивановны, молчали. Всем им нестерпимо было слушать ее плачущую скороговорку, и всем им так же, как мне, некуда было деться от ее причитаний. Я ждал, когда она устанет и замолчит, хотя бы на минуту. И когда эта минута настала и Ангелина Ивановна замолкла, девичий звонкий голос сказал: - Бомбят не здесь, а за Невой. Что тут сидеть, пойдемте на крышу! Я поднял глаза и увидел стоявшую возле закрытой железной двери девушку в белом шерстяном платке. Собственно, я увидел только белевший в темноте платок, но мне и этого было достаточно. Я сразу вскочил.
II
Так как сознание мое по временам потухало, я жил в отрывочном, не совсем связном мире. В этом мире уже несколько дней существовала девушка в очень белом пушистом платке. Я встречал ее только в полутьме и всегда внезапно: она вдруг обгоняла меня где-нибудь во дворе или на лестнице. Я видел лишь платок, покрывавший голову и плечи, и платок этот двигался сквозь мглу легко, летуче. Мне всякий раз хотелось догнать ее и заглянуть ей в лицо, но я не успевал об этом подумать, как платок исчезал за углом или просто растворялся во тьме. Заметив ее теперь в бомбоубежище, я вскочил и шагнул к ней. Но она уже выскользнула за дверь. Я торопливо оглянулся. Наборщик Сумароков спал на нарах, раскинув ноги во флотских брюках; одна нога его была искривлена и не сгибалась в колене. Печатник Цветков спал тоже. И я вынырнул из бомбоубежища.
Едва железная дверь захлопнулась за мною, стал слышен дробный стук зениток. Четыре шестиэтажные стены с темными окнами окружали двор. Во дворе было темно, и только квадрат неба высоко вверху озарялся мигающими отсветами вспышек. Я озирался, вглядываясь в темноту, стараясь угадать, куда она побежала. Несколько лестничных дверей выходило во двор и я успел увидеть, как белый платок мелькнул и скрылся за дверью. Мы бежали по лестнице вверх; она на целый марш опередила меня. Сквозь стук зениток я слышал стук ее каблучков по ступенькам. Платок ее я видел только мгновениями, на поворотах. Вспышка озарила окно на лестничной площадке, и по огненному фону окна мелькнул ее темный узкий силуэт. Еще сегодня днем у меня начинала кружиться голова, едва я подымался на несколько ступенек. Но сейчас, догоняя ее, я перескакивал через ступени, и мне это ничего не стоило; я чувствовал себя легким, как бы бестелесным. Я бежал так быстро, что на третьем или четвертом этаже почти догнал ее.
- Я знаю, кто вы такой, - сказала она на бегу. - Вы редактор.
- Правильно, - ответил я. - Я редактор. А вы кто?
- Просто девочка.
По голосу, по детской легкости движений я уже и сам понял, что ей лет пятнадцать, не больше.
- А как вас зовут?
- Александра.
- Саша?
- Нет, Ася.
- Как славно!
- Что славно?
- Славно вас зовут - Ася!
Она промолчала, продолжая бежать вверх. Еще один лестничный марш. Не обернувшись, она спросила:
- У вас работает этот хромой мальчик во флотских брюках?
- Да, его фамилия - Сумароков. Он очень плох.
- Плох?
- Да. Он скоро умрет.
- Он не умрет, я с ним поговорю.- сказала она.
Я рассмеялся.
- Отсоветуете?
- Отсоветую, - сказала она без смеха. - Можно зайти к вам в типографию?
- Конечно.
- А Ангелина Ивановна к вам ходит?
- Ходит.
- Напрасно вы ее пускаете. Она мне всех убивает...
Тут огненные зубчатые колеса завертелись у меня перед глазами, и шум крови в ушах стал громок, как шум водопада.
III
Когда я очнулся, я стоял в темноте на площадке, прислонясь плечом к стене.
- Сейчас пройдет, - услышал я рядом ёе голос.
Огненные колеса, золотые зубцы и стрелы бледнели, и я уже почти не видел их. Шум в ушах отхлынул, умолк.
- Это пустяки, - сказал я.
Она подошла ближе и взяла меня за руку. Смутно белел платок; я слышал ее дыхание. Рука у нее была маленькая, теплая.
- Нет ли у вас фонарика? - спросила она.
У меня был фонарик, но я редко пользовался им, потому что берег батарею.
- Дайте.
Я сунул фонарик ей в руку. Вместо того, чтобы озарить стены, она озарила меня. Я стоял, жмурясь от яркого света, а она внимательно меня разглядывала с головы до ног.
- Ваш ватник не застегнут, - сказала она наконец.
Действительно, мой ватник был не застегнут, потому что на нем не было ни одной пуговицы. Три месяца назад, в конце августа, когда я пришел пешком в Ленинград из захваченного немцами городка, где я прежде редактировал районную газету, погода стояла еще теплая, и я явился в чем был, без пальто. В Ленинграде мне выдали ватник, но на нем не было пуговиц.
Она потушила фонарик и опустила его мне в карман.
- У меня есть английские булавки, — сказала она.
- Не надо.
- Нет, надо. Только стойте смирно, - прибавила она, не раскрывая рта, и я понял, что одна булавка у нее уже в губах. Руки ее потянулись к моей шее, к вороту. В это мгновение раздался протяжный рокот обрушившихся бомб, дом качнулся. Я боялся, что она уколет мне шею, но пальцы ее не дрогнули.
- Это за Невой, — сказала она громко, чтобы перекричать треск зениток, и застегнула булавку.
Второй булавкой она скрепила мой ватник на животе.
- Ну вот, мы пришли, — проговорила она и открыла низенькую дверь.
Я шагнул вслед за ней и увидел небо.
IV
Нет ничего торжественнее осеннего звездного неба, спокойного, холодного, неподвижного. Но не такое небо увидел я. Торжественность и стройность его была разрушена. Оно дрожало, металось и дергалось, все в грязных подпалинах зарев. Среди этих мечущихся огней крыша плыла и качалась, как корабль. Шагая по ее гремящему скату, я жадно озирался, стараясь как можно больше разглядеть при свете мгновенных вспышек. Эти вспышки взрывов вели между собой разговор, окликая друг друга через все громадное небо. Вспышка — и зарева пожаров гасли, гасли звезды, и на долю секунды выступали из тьмы крыши, шпили, мосты, провалы площадей осажденного города. Вспышка гасла — и все опять пропадало во тьме, и оставалось только черное небо в тускло светящихся пятнах. Пожары окружали город кольцом со всех сторон, но ярче всего пылали на юге и юге-западе — там, казалось, текла золотая река. Это горело Лигово, горела Стрельна. Это была та петля, которая душила нас. Днем она была невидима, хотя мы чувствовали ее каждую минуту, но ночью она становилась зримой. Я впервые с такой наглядностью видел весь этот медленно стягивавшийся смертельный круг и смотрел, смотрел, задыхаясь от ненависти.

Ася стояла за моей спиной, выше на скате. Я вспомнил о ней и обернулся. Прямая, туго затянутая платком, она смотрела вперед, через мою голову и все мечущиеся огни этого нестройного неба отражались в ее глазах. — Как им хочется нашей смерти, а мы должны им назло жить, жить, жить!.. - сказала она.
V
Когда я утром вошел в типографию, Сумароков не встал с табуретки. Я вовсе не требовал от своих типографских, чтобы они вставали, когда я входил, но до сих пор они вставали. Сумароков сидел на табуретке, протянув ноги во флотских брюках к железной печурке, в которой пылали бумажные обрезки. Одна нога у него была искривлена; из-за ноги его не взяли на военную службу. Еще не так давно он горевал об этом: ему было 19 лет, он вырос в городе моряков и мечтал служить во флоте. Но теперь он забыл о флоте, сделался молчалив и малоподвижен, и его исхудалое, грязное лицо — он давно уже не умывался — не выражало ничего, кроме постоянного страдания.
- Здравствуйте, — сказал мне Цветков, стоявший, прислонясь к машине.
Цветков был печатник средних лет, не попавший в армию потому, что страдал астмой. На прошлой неделе у него умерла жена.
- Ну как? — спросил я.
- Току нет, — ответил Цветков.
Наша типография состояла из 4-х наборных касс и плоской печатной машины, которая приводилась в движение электричеством. Тока не было и третьего дня, и вчера, и весь вчерашний день мы его ждали напрасно. Теперь я понял, что его уже и не будет.—
- Что станем делать? — спросил я.
Сумароков ничего не ответил, а Цветков сказал:
- Не знаю.
- Перемени дату в наборе, — приказал я Сумарокову.
Набор номера был готов у нас еще третьего дня вечером и вложен в машину. Я нарочно отдал приказание Сумарокову, чтобы посмотреть, встанет ли он с табуретки. Я боялся, что он не встанет. Но он встал и, хромая, побрел к машине. Его качнуло на ходу. Кажется, ему доставило удовольствие, что я это видел. Он склонился над набором.
- Здесь был кто-нибудь? - спросил я у Цветкова.
- Соседка, — сказал он.
- Какая?
- Ангелина.
- Интересно, кто раньше помрет - она или я? - сказал Сумароков.
И я понял, о чем они говорили с Ангелиной Ивановной. Сумароков вяло и долго возился в наборе, хотя нужно было переменить только одну литеру - вчерашнее число на сегодняшнее.
- Ты скоро?
- Сейчас.
У меня не хватило терпения.
- Отойди, - сказал я ему. - Я сам.
Он охотно отошел и снова сел на табуретку. Я переменил литеру и выпрямился. Они оба смотрели, что я буду делать дальше. Тока не было. Мне показалось, что они безучастны к моему горю, что им все равно, выйдет номер или нет, и я рассердился. А ведь еще так недавно они нравились мне именно тем, что относились к делу с азартом, и мы работали дружно. Я подошел к колесу и стал снимать с него приводной ремень. На лице Сумарокова не отразилось ничего, но по лицу Цветкова я увидел: он понял, что я затеял. Я решил крутить колесо вручную.
- Начнем, - сказал я Цветкову. Он подошел к машине, снял лист бумаги и положил на вал.
- Сумароков, - сказал я.
Он медленно поднялся с табуретки.
- Покрути колесо немного. Он посмотрел на меня с удивлением, однако не отказался. Постоял, потом все с тем же удивлением на лице подошел к колесу, взялся обеими руками за ручку и налег на нее. Он налег на нее всем телом, но колесо не двинулось. Я решил, что он притворяется.
- Давай, давай! — кричал я на него.
И вдруг по покрасневшей его шее я понял, что он напрягает все силы. Мне стало жаль его. По правде сказать, мне давно уже было жаль его, и я сердился на него только от сознания собственной беспомощности.
- Садись, - сказал я ему и сам подошел к колесу.
Мне случалось крутить колесо плоской машины, и я помнил, что идет оно, в сущности, очень легко. Я надавил на ручку и удивился, что она не двинулась. Тогда я налег на нее всем телом. Ручка медленно поползла, и мимо моего лица стала проходить спица за спицей. Колесо сделало полный оборот и остановилось. Один отпечатанный лист вяло выполз из машины. Пот выступил у меня на лбу, я жадно глотал воздух. Собрав все силы, я опять надавил на ручку, и она опять поддалась. Когда колесо сделало второй оборот, у меня в глазах замелькали огненные стрелы. Я выпрямился, чтобы перевести дух; стрелы погасли; я встретился глазами с Цветковым. В его глазах была жалость.
Я не люблю, когда меня жалеют, и опять налег на ручку. Колесо сделало еще один оборот. Я продолжал давить, ничего не видя, кроме огненных стрел и зубцов. Колесо сделало еще оборот. Я налегал на ручку, и колесо поворачивалось - еще один оборот, еще один. Я работал всем телом, и мне мешал только недостаток воздуха да внезапно возникший шум в ушах, который с каждым мгновением становился все громче. Я ничего не видел, кроме стрел, ничего не слышал, кроме шума. Я чувствовал, что рядом со мной стоит Цветков и кричит мне что-то, но слов его разобрать не мог. И только когда он оторвал меня от колеса и сам взялся за ручку, я понял, что он решил меня сменить. Я прислонился к стене и глотал воздух. Комната кружилась, я боялся, что сознание уйдет от меня, как уже не раз бывало. Хуже этого ничего не могло случиться, тогда всем стало бы ясно, что колесо крутить нельзя. Я пересилил себя, встал на место Цветкова, взял лист и положил его на вал. Колесо у Цветкова пошло сразу. Лист скользнул по валу и вылез отпечатанный. Еще один лист, еще...
Поднятое кверху небритое лицо Цветкова показалось мне слишком белым. Выпученные глаза были устремлены на меня. Он медленно вертел колесо, спицы двигались, и с каждым оборотом лицо его становилось белее. Еще оборот, еще оборот, еще...Он выпустил ручку и стал валиться на бок. Держа чистый лист в руках, я смотрел, как Цветков падает. Он сполз с ручки и лег ничком на пол, уткнувшись лицом в половицу. Так он лежал, и спина его от дыхания подымалась и опускалась. Я пересчитал отпечатанные листы. Их было 22. 22 раза повернули мы с Цветковым колесо. Нам нужно отпечатать не меньше 500 экз. Каждый лист с двух сторон. Два оборота колеса на каждый экземпляр. Тысяча оборотов! Тысяча! Койка Цветкова стояла в углу. Я подошел к ней и лег на нее.
VI
С начала осады Цветков и Сумароков были переведены на казарменное положение: это означало, что они не только работали в типографии, но и жили в ней. Цветков спал рядом с машиной, а Сумароков перенес свою койку в соседнюю комнатушку, крохотную, как чулан. Еще недавно в этой комнатке было чисто и опрятно, но с октября, когда голод усилился, стала она зарастать пылью, сажей, мусором.
- А это ваша карточка? - услышал я из-за двери тоненький голосок.
- Моя, - ответил голос Сумарокова.
- Когда вы снимались?
- В июле.
- Вот какой вы были!
- Был ничего, — сказал Сумароков не без самодовольства. - Что, похудел? Тут похудеешь...
- Похудели вы не особенно. Вот только лицо стало чернее...
- Это от печки, - хмуро объяснил Сумароков.
Лежа на койке Цветкова, я старался догадаться, с кем это Сумароков там разговаривает. Да ведь это та девочка Ася, с которой я был на крыше!
- Это что за корабли? - спросила она.
И я понял, что они рассматривают тетрадь Сумарокова - заветнейшую его драгоценность.
Когда мы начали выпускать здесь нашу многотиражку, Сумароков каждый вечер в свободное время вытаскивал свею прекрасно переплетенную тетрадь и подолгу с наслаждением возился над нею. В тетрадь были вклеены фотографии, прежде всего сам Сумароков в различных видах, затем военные корабли. О каждом корабле у Сумарокова было множество сведений, бог весть откуда собранных и малодостоверных. Вклеивал он в тетрадь и особенно поразившие его кадры разных фильмов и вписывал всякие стихи, вписывал удивительным почерком, каждая буква в завитушках, причем суть была именно в завитушках, а не в стихах. Больше месяца не видел я в руках Сумарокова этой тетради. Он, казалось, совсем забыл о ней. И я удивился, услышав, как он листает ее и показывает. Они рассматривали фотографии кораблей, и он рассказывал о каждом корабле. Она спрашивала его, и он отвечал обстоятельно, польщенный и обрадованный ее вниманием. Потом она вошла в типографию. И я впервые увидел ее - не в темноте, не в призрачном мелькании ночных огней. Неужели это та самая, за таинственным белым платком которой я вчера бежал вверх по лестнице, бежал из мрака в свет и из света в мрак среди ослепительных мгновенных вспышек? Теперь ровно ничего таинственного в ней не было, да и платок не такой уж белый. Крупная для своих лет, прямая, но на почти детском ее лице уже лежала та печать постарения, которую голод накладывал на все женские лица.
Мне стало неловко, что я валяюсь на койке в середине рабочего дня; однако я решил не вставать. Зачем притворяться, раз газета все равно не выходит! Она кивнула мне, подошла к нашей неподвижной машине и с любопытством ее оглядела. Увидела только что отпечатанные листы и взяла один в руки.
- «Боевой буксир», - прочла она громко.
Так называлась наша газета.
- Это что же, газета водников? - спросила она.
- Да, - сказал я.
- «Срочный ремонт судов - залог победы», - прочла она заголовок передовой, которую написал я. - Они сейчас ремонтируют свои суда?
- Да, должны ремонтировать.
- А они ремонтируют?
- Как это ни удивительно, ремонтируют.
- Почему удивительно?
- Потому что отремонтировать судно еще труднее, чем выпустить газету.
- Току нет, а вертеть вручную - сил нет. - проговорил Цветков
В типографию вошел Сумароков. Больше месяца не видел я его таким. Лицо только что умыто, волосы расчесаны и блестят, ботинки начищены, ватник расстегнут, и под ним — матросская тельняшка. Он даже почти не хромал, казалось, он только так, случайно, оступается.
- Никогда не видела, как печатают газеты, - сказала Ася. - Интересно поглядеть.
И взялась за ручку колеса. Колесо поддалось с трудом, и тонкая кожа у нее на лице покраснела от усилия. Спицы поползли медленно-медленно.
- Тяжело, - сказал Сумароков. - Давайте я вам помогу.
Он стал рядом с нею и тоже взялся за ручку. Они вдвоем вертели колесо, улыбаясь от удовольствия и натуги.
- А где же бумага? Как это печатают? - спросила она.
Цветков встал на свое место, лист прокатился по валу и, отпечатанный, выпал. Она засмеялась. Еще один лист, еще один...
- Вы устали, - сказал Сумароков с таким видом, словно уж он никак устать не может. - Давайте я один.
Она покачала головой.
- Вдвоем совсем нетрудно. Чем быстрее вертится колесо, тем легче оно идет. Раскрутим его вовсю.
Спицы бежали все быстрей и быстрей, и все быстрей и быстрей становились движения Цветкова, вставлявшего чистые листы. И действительно, чем быстрее вертелось колесо, тем меньше нужно было усилий, чтобы вертеть его. Это было открытие необычайной важности.
- Я сам, - решительно сказал Сумароков, и отпихнул ее от ручки.
Она отступила шага на два, а он, чувствуя, что она глядит на него, с сосредоточенным и важным лицом подталкивал ручку. Теперь он почти даже не нагибался, ручка подлетала к нему, и он ее слегка толкал. Тогда я встал с койки.
- Который лист? - спросил я Цветкова.
- Сто девятнадцатый, сто двадцатый, сто двадцать первый.
- Отойди! - крикнул я Сумарокову и поспешно встал на его место, чтобы не дать колесу замедлить ход.
Я небрежно швырял ручку легкими резкими движениями ладоней. Машина тяжко грохотала. Листы вылетали.
- Если бы настоящее питание, мы бы еще не так завертели, а то, того и гляди, помрем.- проговорил Сумароков у меня за спиной.
- Пока будет выходить газета, не помрете, - сказала Ася.
VII
Но газета скоро перестала выходить. И умер Сумароков. И умерло еще много-много людей. И в нашем 6-этажном промерзлом доме во всех квартирах лежали мертвые, которых некому было похоронить. Цветкова от меня затребовали в какую-то военную типографию, он ушел со своим чемоданчиком в метельный день, и я больше никогда его не видел. Я остался в типографии один; нельзя же бросить машину, шрифты, бумагу. У меня, разумеется, было начальство, и от начальства я ждал указаний, что делать дальше, но связаться с начальством по телефону я не мог: в городе они не работали. Да и зачем? Ведь начальству известно и положение типографии и мое. Нужно только немного подождать... Я теперь жил в комнатенке Сумарокова, лежал на его койке. Там были целы стекла в окне, там тоже стояла жестяная печурка, которую можно было топить старыми экземплярами нашей газеты и досками шкафов. Но установились сильные морозы, и печурка моя мало помогала. Дни и ночи лежал я на койке, в ватнике, в валенках, укрытый двумя одеялами - своим и Сумарокова. Окно закрывал большой лист плотной синей бумаги - для затемнения; по утрам его нужно было снимать, по вечерам укреплять на окне снова. В первые дни я его и снимал и укреплял; но потом мне стало скучно и трудно возиться с ним, я перестал его снимать по утрам, и днем у меня было так же темно, как ночью.
Выходил я только в булочную, за хлебом - раз в два дня. На улице блеск снега ослеплял меня, морозный ветер не давал дышать. Почти не видящий, почти не дышащий, я шел по узкой извилистой тропке между огромными сугробами, дымившимися на ветру. В булочной мне давали промерзлый кубик хлеба - мою порцию на два дня. Многие, получив хлеб, съедали его тут же, в булочной. Но я так не поступал. Я прятал хлеб под ватник, поближе к телу, и шел домой. На обратном пути у меня кружилась голова, все заволакивало туманом; и чувство это не было неприятным. Напротив, в искушении лечь в снег и больше не двигаться было что-то сладкое, заманчивое. Каждый раз по пути я видел мертвых, уже почти занесенных снегом, и участь их не казалась мне страшной.
«Нет, все-таки я раньше съем свой хлеб», - говорил я себе и продолжал идти. Возвратясь, я ложился на койку, закрывался с головой двумя одеялами и там, в темноте, отщипывал от хлеба маленькие кусочки и клал в рот. Каждый кусочек я долго держал во рту, прежде чем проглотить. Потом засыпал. Впрочем, я не знаю, спал ли я; в той тишине, которая меня окружала, трудно было понять, спал я или не спал.
Весь город был погружен в мертвую тишину, как на дно моря. Не было ни трамваев, ни автомобилей, ни голосов на улицах; с наступлением зимы воздушные налеты прекратились и замолчали наши зенитки. Немцы, окружив город со всех сторон, не хотели, казалось, тратить на него больше никаких усилий и просто ждали, когда он вымрет и вымерзнет. Ни один звук не долетал до моей комнаты, и в мертвой этой тишине мне постоянно чудилось, что я куда-то проваливаюсь вместе со своей койкой - все глубже, и глубже, и глубже. Весь мир с его светом, людьми, теплом остался где-то бесконечно далеко, наверху, а я все погружаюсь, все опускаюсь, и нет конца этому опусканию, потому что подо мною нет дна. Иногда сознание прояснялось, и я понимал, что умираю. Тогда я думал, что нужно встать, поискать щепок, разжечь печурку, принести воды. Но мысль о необходимости двигаться казалась такой ужасной, что я думал о смерти без всякого страха, и уже даже ждал ее, и погружался все глубже и глубже.
VIII
И вдруг в этой бездонной, безвыходной глубине я услышал сверху громкий звонкий голос:
- Вы живой, живой! Очнитесь!
Я перестал опускаться. Меня понесло вверх, вверх, вверх, я почувствовал, что одеяло сдернуто с моего лица и что свет кругом. Синий лист был снят с окна, и за расписанным морозными цветами стеклом сверкал день. Ася стояла надо мной и ликующим голосом восклицала:
- Вы живой! Ангелина Ивановна говорила, что в типографии никого нет, что вы лежите мертвый, а я пришла, потрогала - вы живой! Сейчас, сейчас! Я сейчас все устрою.
Я смотрел на нее и чувствовал, что улыбаюсь. Ну, конечно, я живой! Она так торжествовала, так радовалась, найдя меня живым, что оказаться мертвым было бы просто стыдно. Я смотрел на нее, улыбался и тоже радовался, что она живая. Она изменилась: те страшные знаки голодного постарения еще резче легли на ее детское лицо. Но она двигалась, говорила, радовалась. Мы оба были живы!
- Сейчас, сейчас!.. -- повторяла она и уже разжигала мою печурку. Я думал, что в типографии больше нечего жечь, кроме наборных касс, но она, обшарив углы, нашла чулан, куда Сумароков и Цветков когда-то натаскали разных досок, щепок, кусков угля. Печурка затрещала вовсю, и через несколько минут на черной коленчатой трубе выступили красные пятна.
- Надо принести воды, - сказала она, схватила большой медный чайник и выскользнула из комнаты. Едва она вышла, мне стало страшно, что она не вернется. На ногах у нее были валенки, и ходила она бесшумно; звук шагов ее исчез, чуть за ней закрылась дверь. «Вернись, девочка-жизнь», - думал я, поджидая ее. «Девочка-жизнь, вернись!»
Я знал, что в доме есть всего один кран, из которого еще капала вода, - в подвале, в бомбоубежище. Я представил себе, как она бежит с моим чайником вниз по ступенькам, перебегает через двор, спускается в подвал и там стоит в темноте перед краном. Конечно, надо много времени, чтобы: по капле набрать воды в такой большой чайник. И все же почему она не идет? Не случилось ли с ней чего-нибудь? «Вернись, девочка-жизнь!» И когда я уже почти перестал ждать, девочка-жизнь вернулась.
IX

Увидев, как тяжел этот чайник с водой, как он оттягивает ей руку, я смутился; мне стало стыдно валяться. Она ведь получает ровно столько хлеба, сколько я, и ей ничуть не легче, чем мне. Я скинул с себя оба одеяла, опустил ноги на пол и встал.
- Ну вот, я говорила! Вы можете стоять!
- Конечно, я могу стоять, - сказал я бодро и, чтобы показать ей, как я еще крепок, стал раскалывать ножом доску и швырять щепки в печурку. Она сняла варежки и грела руки над печкой, над чайником. У нее были очень маленькие руки, но пальцы распухли, не разгибались, потрескались, гноились возле ногтей. Я знал, что это значит, - у меня тоже трескались и гноились пальцы. На подоконнике она заметила тетрадь с фотографиями - ту, которую ей когда-то показывал Сумароков. Это было бесконечно давно, в другом мире. Сумароков тогда был жив, и мы еще могли вертеть колесо машины. Она раскрыла тетрадь, перелистала.
- Можно мне взять ее себе?
- Конечно.
В комнате становилось все теплее, я расстегнул английские булавки и распахнул свой ватник. Чайник запел песенку, пар потянул из носика, зазвенела, прыгая, крышка. Ася налила кипяток в две кружки, мы сели на койку, подобрав под себя ноги, и стали пить. Было блаженно жарко, пот выступил на лицах, мы, обжигаясь, отхлебывали кипяток маленькими глотками и поглядывали друг на друга все радостней и дружелюбней. Удивительная близость возникла между нами - близость живого к живому. Она даже с каким-то детским лукавством поглядывала на меня из-за своей горячей кружки: мы молодцы, мы хитрецы, мы оба живы!
Она рассказала мне, что хотела пойти в армию и стать снайпером, потому что у нее замечательное зрение. Сидела бы где-нибудь высоко на сосне, немец шевельнется в кустах, она дзвинь - и нет его. Осенью один знакомый сержант уверял, что ее непременно взяли бы в снайперы.
- Что ж вы не пошли?
- Мама.
Я понял, что живет она с мамой, которую нельзя оставить.
- Мама лежит?
- Третий месяц. Пухнет. Уже вот какая стала.
Я знал, что от голода не только худеют, но и пухнут, и больше не стал спрашивать.
- А вы почему не в армии?
- Забракован. Мне должны были делать операцию, но война помешала.
- Что ж у вас было?
- Язва двенадцатиперстной кишки
- Это самая важная кишка в человеке, я знаю.
- Может быть, и не самая важная. Но самая длинная.
- Вот почему вы были такой тощий и желтый, когда я вас в первый раз увидела.
- А когда вы меня увидели в первый раз?
- В сентябре, когда типографию привезли в наш дом. Я вас часто встречала на лестнице. А вы меня не заметили?
- Нет, тогда не заметил.
- Мне очень интересно было, как печатают газету. Я хотела хоть в щелку заглянуть. Я всех типографских в лицо знала и того хромого мальчика и вас. Вы были худой и желтый, а тогда все еще были толстые. У вас и теперь язва?
- Теперь это все равно.
Я рассказал ей, как огорчился, когда меня вместо армии направили редактировать газету. И вот газета перестала выходить.
- Чего ж вы ждете?
- Жду приказания.
- И давно?
Я старался вспомнить, когда ушел Цветков. Сколько дней провел я один на этой койке? Сначала мне казалось, что дней шесть, но потом, когда я стал считать, получилось больше...
- Приказания не будет, - сказала она.
Я сам уже так думал в последние дни, но ее убежденность удивила меня.
- Почему?
- Ваши начальники лежат. Они столько же хлеба получают...
Она была права. Все равны перед голодом.
- Если бы можно было позвонить, но позвонить нельзя.. - сказал я.
- А вы пойдите.
Тут я рассмеялся.
- Вы знаете, куда мне надо идти? В порт!
- Далеко!
- Я упаду и замерзну.
- Очень может быть. Это уж от вас зависит. - сказала она спокойно и серьезно.
- Это не зависит от меня, - возразил я. - Я просто знаю, что у меня не хватит силы.
Она внимательно посмотрела на меня из-за кружки и промолчала. Я тоже замолчал. Мне было слишком хорошо от обжигающего губы кипятка, от тепла в комнате, от ее соседства, чтобы спорить, волноваться. Она налила мне еще кружку и вдруг спросила:
- А вы давно не мылись?
Я смущенно старался припомнить, когда я мылся в последний раз. Очень давно. В городе с осени не работала ни одна баня, а раздеваться в холодной типографии было так трудно и неприятно. Я уже много недель не снимал с себя ватника...
- Почти полный чайник горячей воды. Вот я пойду, а вы мойтесь. Мойтесь, пока комната не остыла...- сказала она.
Она встала, прижав к себе тетрадь Сумарокова.
- А вам уже нужно уйти?
- Там мама, - ответила она мягко, понимая, что мне без нее будет жутко и тоскливо; она вполне сознавала свое душевное превосходство надо мной и обращалась со мной, как с ребенком, хотя я был старше ее вдвое.
- Вымоетесь, уснете, а завтра утром пойдете в порт.
Заметив неуверенность в моих глазах, она прибавила:
- Вы дойдете. В человеке гораздо больше силы, чем он думает.
- Откуда вы это знаете? По себе?
- И по себе и по другим. Надо дойти, и вы дойдете.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 26 Янв 2025, 16:33 | Сообщение # 55 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | X

Я дошел. Едва я вышел за ворота и морозный ветер ударил в меня снежной крупой, мне стало ясно, что дойти нет никакой надежды. Ноги меня не держали; меня качало, как прут на ветру. Лечь в снег и закрыть глаза - вот все, чего мне хотелось. Дойду до угла и лягу. Но, дойдя до угла, я не лег, а побрел дальше, к следующему углу. В конце концов все равно, у какого угла лечь. Так я вышел на мост, перешел через Неву, свернул в длинную улицу и пошел все прямо, прямо, мимо разбитых бомбами домов, мимо домов сгоревших, мимо домов вымороженных. Узкая тропка вела меня между сугробами, где лежали запорошенные снегом трупы тех, кто шел здесь до меня. Я знал, что сам скоро буду лежать вот так, засыпанный, выставив темно-коричневый заледенелый кулак из снежной кучи, и это вовсе меня не пугало. Но если я могу пройти еще пять шагов, я их раньше пройду. К сумеркам я прошел всю длинную улицу до конца и дошел. Во мне оказалось больше силы, чем я думал. Когда я явился, меня не узнали, а когда узнали, удивились: здесь все считали, что я умер. Меня поселили на вмерзшей в лед барже вместе с рабочими, ремонтировавшими суда. Там было тепло; там был даже тусклый электрический свет от собственного маленького движка. Еще месяц назад в деревянном брюхе баржи, между ее исполинских ребер жило более 100 чел. Но за этот месяц многие умерли, и найти для меня свободную койку было нетрудно.Тут же, в соседнем отсеке, находилась столовая.
Над столами висело кумачовое полотнище с лозунгом «Цех питания - в центр внимания». Этот лозунг сочинили и вывесили еще осенью, когда верили, что если внимательно следить за расходованием продуктов, их хватит для жизни. Инженеры принесли из лаборатории весы необычайной точности и поставили на стойку. Каждый мог проверить на этих весах, что ему выдали 3 гр. сахарного песку, а не 2,99. Не знаю, был в этом толк или не был, но обитатели баржи умирали так же, как обитатели домов. При мне на работу выходило человек сорок; остальные лежали на койках и не могли встать. Через день я тоже вышел на работу. Ноги не держали меня, но я уже знал, что во мне больше силы, чем я думаю; раз я мог дойти до порта, значит, я могу работать. Когда-то в ранней молодости я работал подручным слесаря в ж/д мастерских; в то время я еще только мечтал стать журналистом. Слесарь я был плохой, но здесь от меня большой квалификации и не потребовалось. Мы ремонтировали старый транспортник, развороченный осенью авиационной бомбой. Вмерзший в лед борт его возвышался громадной стеной рядом с нашей баржей, и, пожалуй, самым трудным было подняться по трапу на эту стену. Бригада, в которую я попал, пробивала в железных листах отверстия для заклепок, сваривала трубы автогеном. Мы, как тени, двигались внутри осевшего на левый бок корабля; вся наша работа была похожа на замедленную съемку. Если нам нужно было поднять или передвинуть что-нибудь, мы наваливались вдесятером и потом долго сидели в полуобмороке. Всякий раз, когда мы присаживались, нам было ясно, что мы никогда больше не встанем. Но я уже этому не верил. Я говорил себе, что, пока мы будем ремонтировать, мы будем жить. Я говорил, что это фашисты хотят, чтобы мы умерли, и потому нам нельзя умирать. Я знал, что повторяю чужие слова, и помнил, от кого эти слова услышал. И мы вставали.
Переселившись на баржу, я спустя некоторое время, кажется, действительно стал немного крепче. Не знаю, чему это приписать; во вторую половину зимы хлеба прибавили, но прибавка эта была так ничтожна, что люди вокруг умирали по-прежнему. Может быть, тому, что в столовой дважды в день выдавали суп - теплую воду с еле приметной мутью. Или тому, что наш врач, веривший в витамины, готовил для нас настой из еловых игл. Не знаю; вернее всего, тому, что я жил с людьми и попал в упряжку; в упряжке всегда легче. Я стал лучше ходить, меньше лежать и не так выбивался из сил, когда подымался по трапу. Удивительнее всего, что у меня в глазах опять стали по временам вертеться огненные колеса с зубцами, которые почему-то совсем оставили меня как раз тогда, когда мне было особенно плохо. И еще одно полузабытое свойство вернулось ко мне: я стал очень хотеть есть.Я теперь так же мучительно и нетерпеливо хотел есть, как в те первые дни, когда я еще только начинал голодать. Съев суп, я теперь был готов лизать языком дно тарелки. Я съедал свой хлеб не маленькими кусочками под одеялом, как раньше, а сразу, в два откуса. Бумага, штукатурка, кирпич стали казаться мне съедобными. Это заново проснувшееся острое желание есть привело меня к участию в одном преступлении.
Рабочие нашли на корабле десяток больших жестяных банок с каким-то жидким маслом. Впрочем, об этом масле знали и раньше: особое тех. масло, предназначенное для того, чтобы в нем растворяли какую-то особую краску. Всем было ясно, что оно несъедобно, и его не трогали. Но тут вдруг открыли, что масло это цветом и прозрачностью напоминает подсолнечное. Внезапное возбуждение овладело нами, даже самыми благоразумными из нас; голоса стали громче, движения торопливее, глаза блестели, руки и губы дрожали. Мы глотали масло, соперничая друг с другом в жадности и бесстрашии. Сознание того, что это может кончиться ужасно, у нас было, но мы гнали его от себя, заражая друг друга беспечностью. Мы опьянели от сытой еды; мы шумели, кричали. Наевшись, мы отнесли оставшиеся банки на баржу и накормили наших лежачих товарищей. В первую же ночь у нас умерло 9 чел. Умирали в муках, крича и корчась от боли, Мы cмотрели на них, подавленные страхом, - каждый ждал, что и с ним вот-вот начнется то же самое. Говорили, что масло склеило им кишки. В ближайшие двое суток умерло еще шестеро, и все это время я терзался страхом, раскаянием, потому что участвовал в пире наравне со всеми и съел не меньше других. Но мой больной кишечник, когда-то не выдерживавший малейшего отклонения от диеты, не склеился. Почему так случилось, не знаю. Это масло не принесло мне ничего дурного, кроме душевного потрясения. Нас теперь на работу выходило человек 25, и я был в их числе.
XI
Я жил на барже, работал, но об Асе не забывал. Стоило мне опустить веки, и она вставала у меня перед глазами. Она застегнула на мне ватник, принесла мне воды, заставила меня встать, когда я думал, что уже не встану, заставила меня жить, когда я готов был умереть. В первые недели мне казалось немыслимым пройти весь долгий путь обратно и навестить ее. Но время шло, и меня стало тревожить чувство вины. Я жил в тепле, при электрическом свете, а она осталась в том промерзлом, темном доме. Жива ли она еще? А если жива, так может ли еще ходить? Кто приносит ей хлеб из булочной, воду из подвала, кто топит ей печку? Я обязан навестить ее. Меня останавливало только одно: я не хотел прийти с пустыми руками. Какой будет толк в моем приходе, если я не накормлю ее. Сначала я хотел откладывать хлеб - по кусочку от моего ежедневного ломтя, - засушить эти кусочки и принести ей. Но скоро оставил эту затею. Нужна целая неделя, чтобы из кусочков накопить граммов 300. А за неделю она умрет, если сейчас еще жива. Да и я, если целую неделю буду сидеть на уменьшенном пайке, так ослабею, что не дойду. Но тут мне повезло: нам выдали по пакетику концентрата, который назывался «Гречневая каша». Из такого пакетика могла выйти целая тарелка каши. Я решил идти, не откладывая. Отпроситься мне было нетрудно: оборудование типографии все еще лежало на моей ответственности, и я должен был приглядеть за ним. Съев свою обеденную тарелку супа и положив концентрат в карман ватника, я отправился в путь.
Та бесконечная зима все еще тянулась, но дни уже стали заметно длиннее. Однако уже чуть-чуть смеркалось, когда я наконец перешел через мост, свернул сначала за один угол, потом за другой и снова увидел тот дом, те ворота. Ни одного свежего следа на запорошенной ночной поземкой тропинке к воротам. Из многих окон торчали черные трубы печурок, но ни над одной из них ни дымка. Под аркой ворот меня знакомо прохватил сквозной ветер. Вот и двор. Никого. В узких провалах между сугробами, достигавшими окон 1-го этажа, ни одного следа. Неужели даже в подвал за водой никто не ходил сегодня? Я открыл своим ключом дверь типографии и вошел. Внутри все было цело, ничего не изменилось; только сквозь дырку в стекле налетело много снежной пыли, которая мягко скопилась по углам. Кристаллики снега поблескивали на металлических частях машины. Я заглянул в комнатку Сумарокова. Там тоже все по-прежнему: неприбранная моя постель лежала так, как я ее оставил. Мне здесь больше нечего было делать, я вышел и запер дверь. Теперь я мог бы пойти к Асе, если бы знал, где она живет. Я никогда у нее не был; у меня сложилось смутное представление, что живет она где-то наверху, потому что когда-то она часто пробегала мимо типографии вверх по лестнице. Но там, наверху, столько этажей и квартир! В нерешительности я вышел во двор, надеясь встретить кого-нибудь и расспросить, если в доме остался хоть один живой человек. На этот раз мне повезло: маленькая сгорбленная старуха, обмотанная множеством платков, вынырнула из-за высокого сугроба и довольно бойко засеменила прямо ко мне.
- Здравствуйте. Так вы, оказывается, живы. А я считала, что вы еще в декабре померли.- сказала она.
- Нет, я жив. Здравствуйте.
- Не узнаете? Что, похудела?
По этим словам я узнал ее. Ангелина Ивановна! Если бы она не заговорила, я не узнал бы ни за что. Осенью она была пышной молодой женщиной с круглыми щеками, с громким голосом. Когда она начала худеть, все ее выпуклости постепенно превращались в пустые мешки. Но теперь и пустых мешков не было. Она стала гораздо меньше ростом, и было ясно, что под всеми этими платками нет ничего, кроме костей и сморщенной кожи.
- Все умерли, все! - сказала она, когда я спросил ее, жива ли еще та девочка Ася, которая бегала в белом шерстяном платке. - Все умерли, во всех квартирах.
- Она, кажется, торжествовала, что все умерли, потому что это подтверждало ее правоту.
- Я еще жива, но мне уже недолго осталось... Ася? Ася все не верила, все бегала, всем воду носила, заставляла вставать, ходить, но тут не переспоришь. Сначала мама ее умерла, потом и сама...
Теперь мне оставалось только вернуться в порт, на баржу, но я медлил. Я не совсем верил словам Ангелины Ивановны. Она когда-то сказала Асе, что я умер, а я был жив. Я не мог уйти, не убедившись.
- Ее квартира 39-я, - сказала Ангелина Ивановна, оскорбленная моим недоверием. - На 5-м этаже. Подымитесь, если вы еще можете подняться на 5-й...
И я поднялся на 5-й этаж.
XII
- Это вы?
- Я! Я!
- Правда, вы?
- Я!
- Странно!
- Как?
Она говорила почти беззвучно, и мне показалось, что я не расслышал ее.
- Странно!
Я нашел ее в самом конце огромной многокомнатной коммунальной квартиры. Входя, я хотел постучать, но заметил, что дверь не заперта, и сам отворил ее. В ту зиму двери квартир часто не запирали: слишком трудно было идти отворять. В передней ничуть не теплее, чем на лестнице. Окна в комнатах плотно занавешены. Тьма окружила меня. Я несколько раз подал голос, но никто не откликнулся. Я вытащил свой фонарик; батарейка в нем была почти израсходована, и круг света, который он бросал, был мутен и слаб. Я отворял двери одну за другой, и мутный этот круг скользил по стенам. Мебель сожжена; холодные черные трубы печурок перегораживали комнаты. Железные остовы кроватей; матрацы сожжены. Мертвые лежали на полу. Я спотыкался о них, затвердевших от мороза. Я освещал фонариком каждое лицо. Старухи, мальчики... Нет, не она. Где же она, где?.. Что-то бесшумно двинулось в углу. Я приподнял фонарик. Мое собственное отражение в зеркале...Узенькая полоска дневного света возле самого пола. Свет проникал из-под двери, и я толкнул дверь.
Зимние сумерки вливались в комнату сквозь незавешенное окно. Часы-ходики висели на стене, раскачивая маятником, и мерный стук их казался в тишине неправдоподобно громким. Часы идут, значит, кто-то время от времени подтягивает их гири. Две кровати стояли вдоль стен: одна пустая, на другой груда тряпья. Слегка сдвинув край этой груды, я увидел лицо Аси. Неподвижное, оно смутно белело в сумерках. Упав на колени, я приблизил ухо к ее губам. Она дышала. Она спала. Я не хотел будить ее; я хотел сначала растопить печурку, сварить кашу. Я нашел дрова и воду - к моему удивлению, все у нее было припасено. Почему же тогда она не топит, почему такой мороз в комнате? Вода в ведре покрыта ледяной коркой в два пальца толщиной. Пока я растапливал печурку, грел воду, сильно стемнело. Я сидел на корточках перед раскрытой печной дверцей, когда вдруг почувствовал, что она смотрит на меня. Я встал, она меня узнала, и все повторяла: «Как странно!», - и я долго не мог понять, что именно ей кажется странным.
- Как странно, правда? Как странно, что я опять проснулась. Как странно, что вы тут. Вы дошли до порта! Я знала, что вы дойдете, но не верила, что еще увижу вас... Как странно все... Как странно, что я умираю...
Она говорила очень тихо, но я слышал каждое слово.
- Вы не умрете.
- Я тоже всем так говорила. И все они умерли.
- Вы и мне так говорили. И я не умер.
- Я знала, что вы не умрете. Я ведь ошибалась только вначале. Когда я нашла вас одного в типографии, я уже не ошибалась. Столько людей умерло к тому времени, и я видела, как они умирали. Я все знаю о смерти и ничего не знаю о жизни. Странно, правда?
- Сейчас будет тепло, - сказал я, ковыряя кочергой в печурке. - Уже тепло. Вы разве не чувствуете?
- Нет, не чувствую. Я больше не чувствую ни тепла, ни холода. Я рада, что вам тепло. А я ничего не чувствую, ни рук, ни ног, будто их нет. Меня нет, а голова светлая, не потухает. И я жду, когда она потухнет.
Я молчал, следя за паром, который уже начал виться над кастрюлькой. Когда вода в кастрюльке закипит, я выну концентрат из кармана и всыплю в кастрюльку, и будет каша. Она перестанет говорить о смерти, когда увидит, что я принес ей кашу.
- Пока мама была жива, я все могла. Ходила за хлебом, носила воду, топила печки. И не только для мамы - для всех. Я все печурки во всем доме знала. Я не хотела, чтобы умирали, я хотела, чтобы жили, жили, жили... Мама перед смертью кричала и плакала. Ничего не понимала, меня не узнавала, и все-таки ей было больно... Может быть больно, если ничего не сознаешь? Как это страшно, когда ничего не сознаешь, а больно!.. Мне, например, совсем не больно... Когда мама перестала кричать и заледенела, я перенесла ее в ту комнату и положила на пол. И упала. Ноги совсем перестали держать. Я приползла оттуда. Я ползла целый час...
- Когда это было?
- Не знаю. Давно.
- Вчера?
- Нет, не вчера. Гораздо раньше. Прошла неделя. Нет, дня три или четыре. Если бы прошла неделя, остановились бы часы...
Я посмотрел на ходики. Одна гиря поднялась к самому верху, другая опустилась почти до пола. Я подтянул опустившуюся гирю.
- Вот я умру, а часы будут идти. Как странно!
- Вы не умрете! - оборвал я ее. - Смотрите, что я принес!
Вода в кастрюльке уже булькала. Я вынул из кармана концентрат и показал Асе.
- Что это?
- Каша! - воскликнул я с торжеством.
- А, - сказала она безразлично.
- Каша! Каша! - повторял я, вытряхивая концентрат в кастрюльку. - Сейчас у вас будет каша! Много каши!
Она молчала, и я думал, что она не понимает или не верит. Но она отлично понимала.
- Вы не съели сами и принесли мне, а мне не нужно. Вы ешьте, a я посмотрю, как вы будете есть. - сказала она.
- Вы, вы будете есть!
- Я не могу. Вот. Поглядите.
Я не сразу понял, на что она просит меня поглядеть, потому что было уже темно, и я смутно видел ее.
- Вот, - повторяла она. - Протяните руку. Вот. Под подушкой.
Я сунул руку ей под подушку и один за другим вытащил несколько ломтей хлеба.
- У вас есть хлеб!
- Скушайте, - попросила она.
- А вы? Почему вы не съели?
- Не могу. Не глотается. Проглочу - все назад. А я знаю, что это значит.
Я замолчал. Я тоже знал, что это значит.
- И давно это у вас началось? - спросил я тихонько.
- Давно. Еще мама была живая.
- И с тех пор вы ничего не ели?
- Ничего. Мне так лучше. Я это много раз видела. Мне уже есть нельзя.
Я тоже это видел много раз и знал, что если у человека не осталось желудочного сока, он больше никогда не будет есть. И все-таки я продолжал настаивать.
- Каша! - повторял я. - Не сухой хлеб, а мягкая горячая каша!..
- Не надо, - сказала она умоляюще.
И я замолчал. Совсем стемнело, и только печка швыряла красные прыгающие пятна на пол, на стены. Ася утихла, а я сидел и поглядывал на нее, стараясь отгадать, открыты у нее глаза или закрыты. Но лица ее в темноте не видел. Сквозь гудение печки и тиканье часов я не мог расслышать ее дыхания. Иногда мне казалось, что она уже не дышит... И вдруг она что-то сказала. Я переспросил. Я не расслышал. Она повторила, но я не расслышал опять. Я сел на край ее кровати и склонился над нею.
- Капли падали. Сегодня солнце светило в окно, и я видела, как падали капли. Тени капель, сверху вниз. На солнце уже тает. - выговорила она еле слышно
- Чуть-чуть. Совсем еще мало.
- Придет весна, а я ее не увижу. Как странно! Когда я умру, мне станет все равно, ведь правда? Кого нет, тому все равно. Правда?
- Правда, - сказал я. - Вот это страннее всего.
Мне никогда не было все равно, и я не могу понять, как это станет все равно.
- Да, вам будет все равно. Но тем, которые останутся в живых, никогда не будет все равно. И мы всех тех злых дураков, которые сидят вокруг города в снегу и сторожат нас...
- Про кого вы говорите?
- Про них! - сказал я.
Мы в осаде не называли немцев немцами. Мы называли их просто - «они».
- Не надо. Не надо про них. Я не хочу сейчас про них думать.
И я замолчал. Я понял, что тяжело умирать, ненавидя.
- Я хочу думать про вас, вы последний, кого я вижу.
Голос ее совсем ослабел, и я, чтобы слышать, пригнулся к ее лицу.
- Вы пришли ко мне, и я не одна. Я думала: неужели ко мне никто не придет? Это было бы слишком несправедливо. И вы пришли... Скажите, вы когда-нибудь любили? И вас уже любил кто-нибудь? Как это, наверно, хорошо, когда тебя любят и ты любишь. Скажите мне..
.Но я ничего ей не сказал. К моим 30-ти годам уже и я любил и меня любили, и не раз. Это бывало запутанно и больно, и я бывал виноват и те, кого я любил. Но я не мог объяснить это ей, еще никогда не любившей.
- Я один день любила мальчика, с которым качалась во дворе на качелях. Мы так раскачали доску, что чуть не влетели в окно 3-го этажа. Когда он летел вверх, он нагибался ко мне, и я видела, что он хочет меня поцеловать. Больше я никогда не буду качаться на качелях. Как странно!
Она замолчала. Потом я услышал:
- Поцелуйте меня вместо него.
Я нагнулся и осторожно тронул губами ее губы, не сразу найдя их в темноте.
- Вот так, - сказала она.
XIII
Утром я пошел в порт, а еще через день отправился на мед. освидетельствование. Меня просветили рентгеном и язвы не нашли. Голод вылечил меня. Я ушел в армию, и следующей зимой мы пробили брешь в осаде. А еще через два года я видел, как мы осадили Берлин, который не продержался и двух недель.
1963.
https://litmir.club/br/?b=572067&p=7
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 13 Июн 2025, 19:59 | Сообщение # 56 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
Вспоминаю, как встречал маму в 1947 г. Мы были в разлуке 10 лет. Расставалась она с 12летним мальчиком, а тут был уже 22-летний молодой человек, студент университета, уже отвоевавший, раненый, многое хлебнувший, хотя, как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивало во мне, как ни странно. Мы были в разлуке 10 лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук - теперь все это хорошо известно, теперь мы все это хорошо понимаем, объясняем, смотрим на это как на исторический факт, иногда даже забывая, что сами во всем этом варились, что сами были участниками тех событий, что нас самих это задевало, даже ударяло и ранило. Тогда 10 лет были для меня громадным сроком, не то что теперь: годы мелькают, что-то пощелкивает, словно в автомате, так что к вечеру, глядишь, и еще нескольких как не бывало, а тогда почти вся жизнь укладывалась в этот срок и казалась бесконечной, и я думал, что если я успел столько прожить и стать взрослым, то уж мама моя - вовсе седая, сухонькая старушка и становилось страшно.
Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта, и поступил в Тбилисский университет, и жил в комнате 1-го этажа, которую мне оставила моя тетя, переехавшая в другой город. Учился я на филфаке, писал подражательные стихи, жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы - не загадывая на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде, и думал, бодрясь: жив-здоров, чего же больше? Лишь тайну черного цвета, горькую тайну моей разлуки хранил в глубине души, вспоминая о маме. Было несколько фотографий, на которых она молодая, с большими карими глазами; гладко зачесанные волосы с пучком на затылке, темное платье с белым воротником, строгое лицо, но губы вот-вот должны дрогнуть в улыбке. Ну, еще запомнились интонации, манера смеяться, какие-то ускользающие ласковые слова, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный.
За стеной моей комнаты жил сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть, неряшливый, насупленный, неразговорчивый, особенно со мной, словно боялся, что я попрошу взаймы. Возвращался с работы неизвестным образом, никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку и вылетал из нее вместе со своим потертым коричневым портфелем. Кем он был, чем занимался - теперь я этого не помню, да и тогда, наверное, не знал. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал? Мы были одиноки - и он, и я.
Думаю, что ему несладко жилось по соседству со мной. Ко мне иногда вваливались компании таких же, как я, голодных, торопливых, возбужденных, и девочки приходили, и мы пекли на сковороде сухие лепешки из кукурузной муки, откупоривали бутылки дешевого вина, и сквозь тонкую стену к Меладзе проникали крики и смех и звон стаканов, шепот и поцелуи, и он, как видно по всему, с отвращением терпел нашу возню и презирал меня. Тогда я не умел оценить меру его терпения и высокое благородство: ни слова упрека не сорвалось с его уст. Он просто не замечал меня, не разговаривал со мной, и, если я иногда по-соседски просил у него соли, или спичек, или иголку с ниткой, он не отказывал мне, но, вручая, молчал и смотрел в сторону. В тот знаменательный день я возвратился домой поздно. Уж и не помню, где я шлялся. Он встретил меня в кухне-прихожей и протянул сложенный листок
.
- Телеграмма, - сказал он шепотом.
Телеграмма была из Караганды. Она обожгла руки. "Встречай пятьсот 501 целую мама". Меладзе топтался рядом, сопел и наблюдал за мной. Я ни с того ни с сего зажег керосинку, потом погасил ее и поставил чайник. Затем принялся подметать у своего кухонного столика, но не домел и принялся скрести клеенку. Вот и свершилось самое неправдоподобное, да как внезапно! Привычный символ приобрел четкие очертания. То, о чем я безнадежно мечтал, что оплакивал тайком по ночам в одиночестве, стало почти осязаемым.
- Караганда? - прошелестел Меладзе.
- Да, - сказал я печально.
Он горестно поцокал языком и шумно вздохнул.
- Какой-то 501 поезд, наверное, ошибка. Разве поезда имеют такие номера?- сказал я,
- Нэт, нэ ошибка. Пиатсот первый - значит пиатсот веселий.- шепнул он
- Почему веселый? - не понял я.
- Товарные вагоны, кацо. Дольго идет - всем весело. - и снова поцокал.
Ночью заснуть я не мог. Меладзе покашливал за стеной. Утром я отправился на вокзал.
Ужасная мысль, что я не узнаю маму, преследовала меня, пока я стремительно преодолевал Верийскии спуск и летел дальше по ул. Жореса к вокзалу, и я старался представить себя среди вагонов и толпы, и там, в самом бурном ее водовороте, мелькала седенькая старушка, и мы бросались друг к другу. Потом мы ехали домой на 10-ом трамвае, мы ужинали, и я отчетливо видел, как приятны ей цивилизация, и покой, и новые времена, и новые окрестности, и все, что я буду ей рассказывать, и все, что я покажу, о чем она забыла, успела забыть, отвыкнуть, плача над моими редкими письмами.
Поезд под странным номером действительно существовал. Он двигался вне расписания, и точное время его прибытия было тайной даже для диспетчеров дороги. Но его тем не менее ждали и даже надеялись, что к вечеру он прибудет в Тбилиси. Я вернулся домой. Мыл полы, выстирал единственную свою скатерть и единственное свое полотенце, а сам все время пытался себе представить этот миг, то есть как мы встретимся с мамой и смогу ли я сразу узнать ее нынешнюю, постаревшую, сгорбленную, седую, а если не узнаю, ну не узнаю и пробегу мимо, и она будет меня высматривать в вокзальной толпе и сокрушаться, или она поймет по моим глазам, что я не узнал ее, и как это все усугубит ее рану...
К 4-м часам я снова был на вокзале, но пятьсот веселый затерялся в пространстве. Теперь его ждали в полночь. Я воротился домой и, чтоб несколько унять лихорадку, которая меня охватила, принялся гладить скатерть и полотенце, подмел комнату, вытряс коврик, снова подмел комнату. За окнами был май. И вновь я полетел на вокзал в 10-ом номере трамвая, в окружении чужих матерей и их сыновей, не подозревающих о моем празднике, и вновь с пламенной надеждой возвращаться обратно уже не в одиночестве, обнимая худенькие плечи. Я знал, что, когда подойдет к перрону этот бесконечный состав, мне предстоит не раз пробежаться вдоль него, и я должен буду в тысячной толпе найти свою маму, узнать, и обнять, и прижаться к ней, узнать ее среди тысяч других пассажиров и встречающих, маленькую, седенькую, хрупкую, изможденную.
И вот я встречу ее. Мы поужинаем дома. Вдвоем. Она будет рассказывать о своей жизни, а я - о своей. Мы не будем углубляться, искать причины и тех, кто виновен. Ну случилось, ну произошло, а теперь мы снова вместе. А потом я поведу ее в кино, и пусть она отдохнет там душою. И фильм я выбрал. То есть даже не выбрал, а был он один-единственный в Тбилиси, по которому все сходили с ума. Это был трофейный фильм "Девушка моей мечты" с потрясающей, неотразимой Марикой Рёкк в главной роли. Нормальная жизнь в городе приостановилась: все говорили о фильме, бегали на него каждую свободную минуту, по улицам насвистывали мелодии из этого фильма, и из распахнутых окон доносились звуки фортепиано все с теми же мотивчиками, завораживавшими слух тбилисцев. Фильм этот был цветной, с танцами и пением, с любовными приключениями, с комическими ситуациями. Яркое, шумное шоу, поражающее воображение зрителей в трудные послевоенные годы. Я лично умудрился побывать на нем около 15-ти раз, и был тайно влюблен в роскошную, ослепительно улыбающуюся Марику, и, хотя знал этот фильм наизусть, всякий раз будто заново видел его и переживал за главных героев.
И я не случайно подумал тогда, что с помощью его моя мама могла бы вернуться к жизни после 10 лет пустыни страданий и безнадежности. Она увидит все это, думал я, и хоть на время отвлечется от своих скорбных мыслей, и насладится лицезрением прекрасного, и напитается миром, спокойствием, благополучием, музыкой, и это все вернет ее к жизни, к любви и ко мне. А героиня? Молодая женщина, источающая счастье. Природа была щедра и наделила ее упругим и здоровым телом, золотистой кожей, длинными, безукоризненными ногами, завораживающим бюстом. Она распахивала синие смеющиеся глаза, в которых с наслаждением тонули чувственные тбилисцы, и улыбалась, демонстрируя совершенный рот, и танцевала, окруженная крепкими, горячими, беспечными красавцами. Она сопровождала меня повсюду и даже усаживалась на старенький мой топчан, положив ногу на ногу, уставившись в меня синими глазами, благоухая неведомыми ароматами и австрийским здоровьем. Я, конечно, и думать не смел унизить ее грубым моим бытом, или послевоенными печалями, или намеками на горькую карагандинскую пустыню, перерезанную колючей проволокой. Она тем и была хороша, что даже и не подозревала о существовании этих перенаселенных пустынь, столь несовместимых с ее прекрасным голубым Дунаем, на берегах которого она танцевала в счастливом неведенье. Несправедливость и горечь не касались ее. Пусть мы... нам... но не она... не ей.
Я хранил ее как драгоценный камень и время от времени вытаскивал из тайника, чтобы полюбоваться, впиваясь в экраны кинотеатров, пропахших карболкой. На привокзальной площади стоял оглушительный гомон. Все пространство перед вокзалом было запружено толпой. Чемоданы и узлы громоздились на асфальте, смех, и плач, и крики, и острые слова. Я понял, что опоздал, но, видимо, ненадолго, и еще была надежда. Я спросил сидящих на вещах людей, не 501 они прибыли. Но они оказались из Батуми. От сердца отлегло. Я пробился в справочное сквозь толпу и крикнул о пятьсот проклятом, но та, в окошке, задерганная и оглушенная, долго ничего не понимала, отвечая сразу нескольким, а когда поняла наконец, крикнула мне с ожесточением, покрываясь розовыми пятнами, что 501 пришел час назад, давно пришел этот сумасшедший поезд, уже никого нету, все вышли час назад, и уже давно никого нету.
На привокзальной площади, похожей на воскресный базар, на груде чемоданов и тюков сидела сгорбленная старуха и беспомощно озиралась по сторонам. Я направился к ней. Что-то знакомое показалось мне в чертах ее лица. Я медленно переставлял одеревеневшие ноги. Она заметила меня, подозрительно оглядела и маленькую ручку опустила на ближайший тюк. Я отправился пешком к дому в надежде догнать маму по пути. Но так и дошел до самых дверей своего дома, а ее не встретил. В комнате было пусто и тихо. За стеной кашлянул Меладзе. Надо было снова бежать по дороге к вокзалу, и я вышел и на ближайшем углу увидел маму! Она медленно подходила к дому. В руке у нее был фанерный сундучок. Все та же, высокая и стройная, какой помнилась, в сером ситцевом платьице, помятом и нелепом. Сильная, загорелая, молодая. Помню, как я был счастлив, видя ее такой, а не сгорбленной и старой.
Были ранние сумерки. Она обнимала меня, терлась щекой о мою щеку. Сундучок стоял на тротуаре. Прохожие не обращали на нас внимания: в Тбилиси, где все целуются при встречах по многу раз на дню, ничего необычного не было в наших объятиях.
- Вот ты какой! Вот ты какой, мой мальчик, мой мальчик, - и это было как раньше, как когда-то. - приговаривала она
Мы медленно направились к дому. Я обнял ее плечи, и мне захотелось спросить, ну как спрашивают у только что приехавшего: "Ну как ты? Как там жилось?.." - но спохватился и промолчал. Мы вошли в дом. В комнату. Я усадил ее на старенький диван. За стеной кашлянул Меладзе. Я усадил ее и заглянул ей в глаза. Эти большие, карие, миндалевидные глаза были теперь совсем рядом. Я заглянул в них. Готовясь к встрече, я думал, что будет много слез и горьких причитаний, и я приготовил такую фразу, чтобы утешить ее: "Мамочка, ты же видишь - я здоров, все хорошо у меня, и ты здоровая и такая же красивая, и все теперь будет хорошо, ты вернулась, и мы снова вместе..."
Я повторял про себя эти слова многократно, готовясь к первым объятиям, к первым слезам, к тому, что бывает после 10-летней разлуки. И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешенными, она смотрела на меня, но меня не видела, лицо застыло, окаменело, губы слегка приоткрылись, сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованиям о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице... "Уж лучше бы она рыдала", - подумал я. Она закурила дешевую папиросу. Провела ладонью по моей голове...
- Сейчас мы поедим, ты хочешь есть? - сказал я бодро
- Что? - спросила она.
- Хочешь есть? Ты ведь с дороги.
- Я? - не поняла она.
- Ты, конечно, ты - засмеялся я, -
- Да, а ты? -- сказала она покорно.
И, кажется, даже улыбнулась, но продолжала сидеть все так же - руки на коленях...
Я выскочил на кухню, зажег керосинку, замесил остатки кукурузной муки. Нарезал небольшой кусочек имеретинского сыра, чудом сохранившийся среди моих ничтожных запасов. Я разложил все на столе перед мамой, чтобы она порадовалась, встрепенулась: вот какой у нее сын, и какой у него дом, и как у него все получается, и что мы сильнее обстоятельств, мы их вот так пересиливаем мужеством и любовью. Я метался перед ней, но она оставалась безучастна и только курила одну папиросу за другой. Затем закипел чайник, и я пристроил его на столе. Я впервые управлялся так ловко, так быстро, так аккуратно с посудой, с керосинкой, с нехитрой снедью: пусть она видит, что со мной не пропадешь. Жизнь продолжается, продолжается. Конечно, после всего, что она перенесла, вдали от дома, от меня... сразу ведь ничего не восстановить, но постепенно, терпеливо...
Когда я снимал с огня лепешки, скрипнула дверь, и Меладзе засопел у меня за спиной. Он протягивал мне миску с лобио.
- Что вы, у нас все есть - сказал я.
- Дэржи, кацо, - я знаю... - сказал он угрюмо,
Я взял у него миску, но он не уходил.
- Пойдемте. я познакомлю вас с моей мамой, - и распахнул дверь.
Мама все так же сидела, положив руки на колени. Я думал - при виде гостя она встанет и улыбнется, как это принято: очень приятно, очень приятно и назовет себя, но она молча протянула загорелую ладонь и снова опустила ее на колени.
- Присаживайтесь, - сказал я и подставил ему стул.
Он уселся напротив. Он тоже положил руки на свои колени. Сумерки густели. На фоне окна они казались неподвижными статуями, застыв в одинаковых позах, и профили их казались мне сходными. О чем они говорили и говорили ли, пока я выбегал в кухню, не знаю. Из комнаты не доносилось ни звука. Когда я вернулся, я заметил, что руки мамы уже не покоились на коленях и вся она подалась немного вперед, словно прислушиваясь.
- Батык? - произнес в тишине Меладзе. Мама посмотрела на меня, потом сказала:
- Жарык... - и смущенно улыбнулась.
Пока я носился из кухни в комнату и обратно, они продолжали обмениваться короткими непонятными словами, при этом почти шепотом, одними губами. Меладзе цокал языком и качал головой. Я вспомнил, что Жарык - это станция, возле которой находилась мама, откуда иногда долетали до меня ее письма, из которых я узнавал, что она здорова, бодра и все у нее замечательно, только ты учись, учись хорошенько, я тебя очень прошу, сыночек и туда я отправлял известия о себе самом, о том, что я здоров и бодр, и все у меня хорошо, и я работаю над статьей о Пушкине, меня все хвалят, ты за меня не беспокойся, и уверен, что все в конце концов образуется и мы встретимся... И вот мы встретились, и сейчас она спросит о статье и о других безответственных баснях. Меладзе отказался от чая и исчез. Мама впервые посмотрела на меня осознанно.
- Он что, тоже там был? - спросил я шепотом,
- Кто? - спросила она.
- Ну кто, кто... Меладзе...
- Меладзе? Кто такой Меладзе? - удивилась она и посмотрела в окно.
- Ну как кто? Мама, ты меня слышишь? Меладзе - мой сосед, с которым я тебя сейчас познакомил... Он тоже был там?
- Тише, тише. Не надо об этом, сыночек...
О Меладзе, сопящий и топчущийся в одиночестве, ты тоже ведь когда-то был строен, как кизиловая ветвь, и твое юношеское лицо с горячими и жгучими усиками озарялось миллионами желаний. Губы поблекли, усы поникли, вдохновенные щечки опали. Я смеялся над тобой и исподтишка показывал тебя своим друзьям: вот, мол, дети, если не будете есть манную кашу, будете похожи на этого дядю. И мы, пока еще пухлогубые и остроглазые, диву давались и закатывались, видя, как ты неуклюже топчешься, как настороженно высовываешься из дверей. Чего ты боялся, Меладзе?
Мы пили чай. Я хотел спросить, как ей там жилось, но испугался. И стал торопливо врать о своем житье. Она как будто слушала, кивала, изображала на лице интерес, и улыбалась, и медленно жевала. Провела ладонью по горячему чайнику, посмотрела на выпачканную ладонь...
- Да ничего, я вымою чайник, это чепуха. На керосинке, знаешь, всегда коптится - принялся я утешать ее.
- Бедный мой сыночек, - сказала в пространство и вдруг заплакала.
Я ее успокаивал, утешал: подумаешь, чайник. Она отерла слезы, отодвинула пустую чашку, смущенно улыбнулась.
- Все, все, не обращай внимания, - и закурила.
Каково-то ей там было, подумал я, там, среди солончаков, в разлуке? Меладзе кашлянул за стеной. Ничего, подумал я, все наладится. Допьем чай, и я поведу ее в кино. Она еще не знает, что предстоит ей увидеть. Вдруг после всего, что было, голубые волны, музыка, радость, солнце и Марика Рёкк, подумал я, зажмурившись, и это после всего, что было. Вот возьми самое яркое, самое восхитительное. Самое драгоценное из того, что у меня есть, я дарю тебе это, подумал я, задыхаясь под тяжестью собственной щедрости. И тут я сказал ей:
- А знаешь, у меня есть для тебя сюрприз, но для этого мы должны выйти из дому и немного пройтись. Выйти из дому? - и она поморщилась.
- Не бойся теперь ничего не бойся. Ты увидишь чудо, честное слово! Это такое чудо, которое можно прописать вместо лекарства. Ты меня слышишь? Пойдем, пойдем, пожалуйста.
Она покорно поднялась.
Мы шли но вечернему Тбилиси. Мне снова захотелось спросить у нее, как она там жила, но не спросил: так все хорошо складывалось, такой был мягкий, медовый вечер, и я был счастлив идти рядом с ней и поддерживать ее под локоть. Она была стройна и красива, моя мама, даже в этом сером помятом ситцевом, таком не тбилисском платье, даже в стоптанных сандалиях неизвестной формы. Прямо оттуда, подумал я, и - сюда, в это ласковое тепло, в свет сквозь листву платанов, в шум благополучной толпы. И еще я подумал, что, конечно, нужно было заставить ее переодеться, как-то ее прихорошить, потому что, ну что она так, в том же, в чем была там. Пора позабывать.
Я вел ее по проспекту Руставели, и она покорно шла рядом, ни о чем не спрашивая. Пока я покупал билеты, она неподвижно стояла у стены, глядя в пол. Я кивнул ей от кассы - она, кажется, улыбнулась. Мы сидели в душном зале, и я сказал ей:
- Сейчас ты увидишь чудо, это так красиво, что нельзя передать словами. Послушай, а там вам что-нибудь показывали?
- Что? - спросила она.
- Ну, какие-нибудь фильмы, хотя бы изредка - и понял, что говорю глупость.
- Нам? - спросила она и засмеялась тихонечко.
- Мама, ну что с тобой? Ну, я спросил. Там, там, где ты был - зашептал я с раздражением.
- Ну, конечно, - проговорила она отрешенно.
- Хорошо, что мы снова вместе, - сказал я, словно опытный миротворец, предвкушая наслаждение.
- Да, да, - шепнула она о чем-то своем.
Я смотрел то на экран, то на маму, я делился с мамой своим богатством, я дарил ей самое лучшее, что у меня было, зал заходился в восторге и хохоте, он стонал, рукоплескал, подмурлыкивал песенки. Мама моя сидела, опустив голову. Руки ее лежали на коленях.
- Правда, здорово! Ты смотри, смотри, сейчас будет самое интересное. Смотри же, мама! - шепнул я.
Впрочем, в который уже раз закопошилась в моем скользящем и шатком сознании неправдоподобная мысль, что невозможно совместить те обстоятельства с этим ослепительным австрийским карнавалом на берегах прекрасного голубого Дуная, закопошилась и тут же погасла.
Мама услышала мое восклицание, подняла голову, ничего не увидела и поникла вновь. Прекрасная обнаженная Марика сидела в бочке, наполненной мыльной пеной. Она мылась как ни в чем не бывало. Зал благоговел и гудел от восторга. Я хохотал и с надеждой заглядывал в глаза маме. Она даже попыталась вежливо улыбнуться мне в ответ, но у нее ничего не получилось.
- Давай уйдем отсюда, - внезапно шепнула она.
- Сейчас же самое интересное, - сказал я с досадой.
- Пожалуйста, давай уйдем...
Мы медленно двигались к дому. Молчали. Она ни о чем не расспрашивала, даже об университете, как следовало бы матери этого мира. После пышных и ярких нарядов несравненной Марики мамино платье казалось еще серей и оскорбительней.
- Ты такая загорелая, такая красивая. Я думал увидеть старушку, а ты такая красивая.- сказал я,
- Вот как, - сказала она без интереса и погладила меня по руке. В комнате она устроилась на прежнем стуле, сидела, уставившись перед собой, положив ладони на колени, пока я лихорадочно устраивал ночлег. Себе - на топчане, ей - на единственной кровати. Она попыталась сопротивляться, она хотела, чтобы я спал на кровати, потому что она любит на топчане, да, да, нет, нет, я тебя очень прошу, ты должен меня слушаться, я мама... ты должен слушаться... я мама... - и затем, ни к кому не обращаясь, в пространство, - ма-ма... ма-ма...
Я вышел в кухню. Меладзе в нарушение своих привычек сидел на табурете. Он смотрел на меня вопросительно.
- Повел ее в кино, а она ушла с середины, не захотела.- шепотом пожаловался я,
- В кино? Какое кино, кацо? Ей отдихать надо.- удивился он. .
- Она стала какая-то совсем другая. Может быть, я чего-то не понимаю. Когда спрашиваю, она переспрашивает, как будто не слышит.
Он поцокал языком.
- Когда человек нэ хочит гаварить лишнее, он гаварит мэдлэнно, долго, он думаэт, панимаешь? Ду-ма-эт... Ему нужна врэмя, у нэго тэперь привичка. - сказал он шепотом.
- Она мне боится сказать лишнее? - спросил я. Он рассердился:
- Нэ тэбэ, нэ тэбэ, генацвале, там, - он поднял вверх указательный палец, - там тэбя нэ било, там другие спрашивали, зачэм, почэму, панимаэшь?
- Понимаю, - сказал я.
Я надеюсь на завтрашний день. Завтра все будет по-другому. Ей нужно сбросить с себя тяжелую ношу минувшего. Да, мамочка? Все забудется, все забудется, все забудется. Мы снова отправимся к берегам голубого Дуная, сливаясь с толпами, уже неотличимые от них, наслаждаясь красотой, молодостью, музыкой, да, мамочка?..
- Купи ей фрукты. - сказал Меладзе.
- Какие фрукты? - не понял я.
- Черешня купи, черешня...
Меж тем и сером платьице своем, ничем не покрывшись, свернувшись калачиком, мама устроилась на топчане. Она смотрела на меня, когда я вошел, и слегка улыбалась, так знакомо, просто, по-вечернему.
- Мама, на топчане буду спать я.- сказал я с укоризной
- Нет, нет, - сказала она с детским упрямством и засмеялась...
- Ты любишь черешню? - спросил я.
- Что? - не поняла она.
- Черешню ты любишь? Любишь черешню?
- Я? - спросила она.
Декабрь, 1985
https://litlife.club/books/64538/read?page=1
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 13 Июл 2025, 20:29 | Сообщение # 57 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек. Мелькнул ярко, сильно, совсем близко…
-Ну, слава богу! Близко ночлег! – сказал я с радостью.
Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.
– Далече!
Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы, но гребец был прав: оказалось, действительно далеко. Свойство этих ночных огней – приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще 2-3 удара веслом – и путь кончен, а между тем – далеко! И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, – все так же близко, и все так же далеко…
Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла, но все-таки… все-таки впереди – огни!
1900
https://www.livelib.ru/book/137550/read-ogonki-vladimir-korolenko
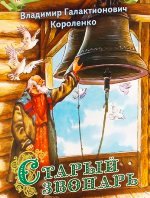
Что-то будет с ним через год? Взберется ли он опять сюда, на вышку, под медный колокол, чтобы гулким ударом разбудить чутко дремлющую ночь, или будет лежать… вон там, в темном уголке кладбища, под крестом? Бог знает… Он готов, а пока привел Бог еще раз встретить праздник.
Стемнело. Небольшое селение, приютившееся над дальнею речкой, в бору, тонуло в том особенном сумраке, которым полны весенние звездные ночи, когда тонкий туман, подымаясь с земли, сгущает тени лесов и застилает открытые пространства серебристо-лазурною дымкой… Все тихо, задумчиво, грустно.
Село тихо дремлет. Убогие хаты чуть выделяются темными очертаниями; кое-где мерцают огни; изредка скрипнут ворота; залает чуткая собака и смолкнет; порой из темной массы тихо шумящего леса выделяются фигуры пешеходов, проедет всадник, проскрипит телега. То жители одиноких лесных поселков собираются в свою церковь встречать весенний праздник.
Церковь стоит на холмике, в самой середине поселка. Окна ее светят огнями. Колокольня — старая, высокая, темная — тонет вершиной в лазури. Скрипят ступени лестницы. Старый звонарь Михеич поднимается на колокольню, и скоро его фонарик, точно взлетевшая в воздухе звезда, виснет в пространстве.
Тяжело старику взбираться по крутой лестнице, не служат уже старые ноги, поизносился он сам, плохо видят глаза. Пора уж, пора старику на покой, да Бог не шлет смерти. Хоронил сыновей, хоронил внуков, провожал в домовину старых, провожал молодых, а сам все еще жив. Тяжело! Много уж раз встречал он весенний праздник, потерял счет и тому, сколько раз ждал урочного часа на этой самой колокольне. И вот привел Бог опять…
Старик подошел к пролету колокольни и облокотился на перила. Внизу вокруг церкви маячили в темноте могилы сельского кладбища; старые кресты как будто охраняли их распростертыми руками. Кое-где склонялись над ними березы, еще не покрытые листьями. Оттуда, снизу, несся к Михеичу ароматный запах молодых почек и веяло грустным спокойствием вечного сна… Что-то будет с ним через год? Взберется ли он опять сюда, на вышку, под медный колокол, чтобы гулким ударом разбудить чутко дремлющую ночь, или будет лежать вон там, в темном уголке кладбища, под крестом? Бог знает… Он готов, а пока привел Бог еще раз встретить праздник.
«Слава Те, Господи!» -шепчут старческие уста привычную формулу, и Михеич смотрит вверх на горящее миллионами огней звездное небо и крестится…
— Михеич, а Михеич! — зовет его снизу дребезжащий, тоже старческий голос. Древний годами дьячок смотрит вверх на колокольню, даже приставляет ладонь к моргающим и слезящимся глазам, но все же не видит Михеича.
— Что тебе? Здесь я! Аль не видишь? — отвечает звонарь, склоняясь с своей колокольни.
— Не вижу. А не пора ли и вдарить? По-твоему как?
Оба смотрят на звезды. Тысячи Божьих огней мигают на них с высоты. Пламенный «Воз» поднялся уже высоко… Михеич соображает.
— Нет еще, погоди мало… Знаю ведь…
Он знает. Ему не нужно часов: Божьи звезды скажут ему, когда придет время. Земля и небо, и белое облако, тихо плывущее в лазури, и темный бор, невнятно шепчущий внизу, и плеск невидной во мраке речки - все это ему знакомо, все это ему родное… Недаром здесь прожита целая жизнь…
Перед ним оживает далекое прошлое… Он вспоминает, как в первый раз он с тятькой взобрался на эту колокольню. Господи Боже, как это давно и… как недавно! Он видит себя белокурым мальчонком; глаза его разгорелись; ветер, — но не тот, что подымает уличную пыль, а какой-то особенный, высоко над землей машущий своими бесшумными крыльями, — развевает его волосенки… Внизу далеко-далеко ходят какие-то маленькие люди, и домишки деревни тоже маленькие, и лес отодвинулся вдаль, и круглая поляна, на которой стоит поселок, кажется такою громадною, почти безграничною.
— Ан вон она, вся тут! — улыбнулся седой старик, взглянув на небольшую полянку.
Так вот и жизнь… Смолоду конца ей не видишь и краю. Ан вот она вся, как на ладони, с начала и до самой вон той могилки, что облюбовал он себе в углу кладбища. И что ж, — слава Те, Господи! — пора на покой. Тяжелая дорога пройдена честно, а сырая земля — ему мать… Скоро, уж скоро!
Однако пора. Взглянув еще раз на звезды, Михеич поднялся, снял шапку, перекрестился и стал подбирать веревки от колокольни. Через минуту ночной воздух дрогнул от гулкого удара. Другой, третий, четвертый… один за другим наполняя чутко дремавшую предпраздничную ночь, полились властные, тягучие, звонкие и певучие тоны…
Звон смолк. В церкви началась служба. В прежние годы Михеич всегда спускался по лестнице вниз и становился в углу, у дверей, чтобы молиться и слушать пение. Но теперь он остался на своей вышке. Трудно ему; притом же он чувствовал какую-то истому. Он присел на скамейку и, слушая стихающий гул расколыхавшейся меди, глубоко задумался. О чем? Он сам едва ли мог бы ответить на этот вопрос. Колокольная вышка слабо освещалась его фонарем. Глухо гудящие колокола тонули во мраке; снизу, из церкви, по временам слабым рокотом доносилось пение, и ночной ветер шевелил веревки, привязанные к железным колокольным сердцам…
Старик опустил на грудь свою седую голову, в которой роились бессвязные представления. «Тропарь поют!» — думает он и видит себя тоже в церкви. На клиросе заливаются десятки детских голосов; старенький священник, покойный отец Наум, возглашает дрожащим голосом возгласы; сотни мужичьих голов, как спелые колосья от ветру, нагибаются и вновь подымаются. Мужики крестятся. Все знакомые лица и все-то покойники…
Вот строгий облик отца; вот и старший брат истово крестится и вздыхает, стоя рядом с отцом. Вот и он сам, цветущий здоровьем и силой, полный бессознательной надежды на счастие, на радости жизни. Где оно, это счастие? Старческая мысль вспыхивает, как угасающее пламя, скользя ярким, быстрым лучом, освещающим все закоулки прожитой жизни. Непосильный труд, горе, забота… Где оно, это счастие? Тяжелая доля проведет морщины по молодому лицу, согнет могучую спину, научит вздыхать, как и старшего брата. Но вот налево, среди деревенских баб, смиренно склонив голову, стоит его молодица. Добрая была баба, царствие небесное! И много же приняла муки, сердешная. Нужда, да работа, да неисходное бабье горе иссушат красивую молодицу; потускнеют глаза и выражение вечного тупого испуга перед неожиданными ударами жизни заменит величавую красоту. Да где ее счастье? Один остался у них сын, надежда и радость, и того осилила людская неправда…
А вот и он, богатый ворог, бьет земные поклоны, замаливая кровавые сиротские слезы; торопливо взмахивает он на себя крестное знамение и падает на колени, и стукает лбом. И кипит-разгорается у Михеича сердце, а темные лики икон сурово глядят со стены на людское горе и на людскую неправду…
Все это прошло, все это там, назади, а теперь весь мир для него — это темная вышка, где ветер гудит в темноте, шевеля колокольными веревками… «Бог вас суди, Бог суди!» — шепчет старик и поникает седою головой, и слезы тихо льются по старым щекам звонаря.
— Михеич, а Михеич! Что ж ты, али заснул? — кричат ему снизу.
— Ась? Господи! Неужто и вправду заснул? Не было еще экого сраму! — откликнулся старик и быстро вскочил на ноги. И Михеич быстро, привычною рукой хватает веревки. Внизу, точно муравейник, движется мужичья толпа: хоругви бьются в воздухе, поблескивая золотистою парчой… Вот обошли крестным ходом вокруг церкви, и до Михеича доносится радостный клич:
— Христо-о-с Воскресе из мерт-вых…
И отдается этот клич волною в старческом сердце и кажется Михеичу, что ярче вспыхнули в темноте огни восковых свечей, и сильней заволновалась толпа, и забились хоругви, и проснувшийся ветер подхватил волны звуков и широкими взмахами понес их ввысь, сливаясь с громким торжественным звоном…
Никогда еще так не звонил старый Михеич.
Казалось, его переполненное старческое сердце перешло в мертвую медь, и звуки точно пели, трепетали, смеялись и плакали и, сплетаясь чудною вереницей, неслись вверх, к самому звездному небу. И звезды вспыхивали ярче, разгорались, и звуки дрожали и лились, и вновь припадали к земле с любовною лаской…
Большой бас громко вскрикивал и кидал властные, могучие тоны, оглашавшие небо и землю: «Христос Воскресе!» И два тенора, вздрагивая от поочередных ударов железных сердец, подпевали ему радостно и звонко: «Христос Воскресе!» А два самые маленькие дисканта, точно торопясь, чтобы не отстать, вплетались между больших и радостно, точно малые ребята, пели вперегонку: «Христос Воскресе!».
И казалось, старая колокольня дрожит и колеблется, и ветер, обвевающий лицо звонаря, трепещет могучими крыльями и вторит: «Христос Воскресе!»
И старое сердце забыло про жизнь, полную забот и обиды. Забыл старый звонарь, что жизнь для него сомкнулась в угрюмую и тесную вышку, что он в мире один, как старый пень, разбитый злою непогодой. Он слушает, как эти звуки поют и плачут, летят к горнему небу и припадают к бедной земле, и кажется ему, что он окружен сыновьями и внуками, что это их радостные голоса, голоса больших и малых, сливаются в один хор и поют ему про счастие и радость, которых он не видал в своей жизни. И дергает веревки старый звонарь, и слезы бегут по лицу, и сердце усиленно бьется иллюзией счастья. А внизу люди слушали и говорили друг другу, что никогда еще не звонил так чудно старый Михеич…
Но вдруг большой колокол неуверенно дрогнул и смолк. Смущенные подголоски прозвенели неоконченною трелью и тоже оборвали ее, как будто- вслушиваясь в печально гудящую долгую ноту, которая дрожит, и льется и плачет, постепенно стихая в воздухе. Старый звонарь изнеможенно опустился на скамейку, и две последние слезы тихо катятся по бледным щекам. Эй, посылайте на смену! Старый звонарь отзвонил…
https://www.pravmir.ru/staryj-zvonar/
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 15 Ноя 2025, 16:46 | Сообщение # 58 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
Это было давно, лет, может, 40 назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу. Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже заваливаясь набок. От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать - непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа!
Я догнал птицу в борозде и, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилищем, взял ее в руку с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана. Я узнал птицу - это был коростель. Дергач по-нашему. Все его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края - зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки - в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его. И худое, почти невесомое тельце птицы ли, нехитрая ли окраска, а может, и то, что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность.
Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей.У же черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни. Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли.И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке. И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая того несмышленого, азартного парнишку. Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете.Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «…где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косой не тронут, где васильковые глаза…». Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от гибельной зимы. Не приспособленная к полету, но быстрая на бегу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути и особенно при перелете через море. Как идет коростель, где, какими путями - мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц - небольшой древний город на юге Франции. На его гербе изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает. Все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас, на Руси, пекут жаворонков к их прилету. Коростель во франц. старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти. Но я живу далеко от Франции, много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?
https://nukadeti.ru/rasskazy/zachem-ya-ubil-korostelya

Лето 1933 г. У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания, за вылущенным заборчиком, сквозной березовый скверик. В нем прямо на утоптанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми. Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться если не утерян - замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого не заботило, что он, имярек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего не ест. Он выпал из числа людей. Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло и южное словечко «куркуль». Куркули даже внешне не походили на людей.Одни из них - скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами. Другие, наоборот, туго раздуты - вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, телеса колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти. И вели они себя сейчас тоже не как люди. Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьи широкими глазами. Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу. Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан. А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли…
Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали - спали, но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал - вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, «бунтарь» сползал вниз по стволу и затихал насовсем. Такие и после смерти не походили на людей- -по-обезьяньи сжимали деревья. Взрослые обходили скверик, только по перрону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал. Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный парень с застывшей миной - «смотри ты у меня!».- Никто не выполз? - спрашивал он у начальника станции. А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы. Ваня Душной следил, чтоб куркули не расползались из скверика - ни на перрон, ни на пути. Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства.
Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрятанной панической жалости, мы наблюдали за короедами, за вспышками «бунтарей», кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз. Начальник станции - «красная шапочка» - однажды повернулся в нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу:- Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?..Долго выдержать сквера мы не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души, бежали в поселок. Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню: Не спи, вставай, кудрявая!В цехах звеня,страна встает со славоюна встречу дня…Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах. Наверное, потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то попривыкнуть, обмозолиться..
Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая. Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки па дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно. А. я стоял в стороне и - нет, не ревел вместе с ней - боялся, надо мной засмеются прохожие. Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре. На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул:- Кто хочет?! - Мне шматочек, - отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы.- И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.- Всем не хватит! Пашка старался оттолкнуть напиравших, но никто не отступал.- Мне! Мне! Корочку!..Я отламывал всем по кусочку.
Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошлось по кускам, раздавило их.- Пахорукий! - выругал меня Пашка и отошел. За ним все поползли в разные стороны.На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное. Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял - она голодна тоже.- Это кто ж такой сытый? И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили:- Володька Тенков сытый! Он это!..
Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленым яйцом! Ольга Станиславна начала урок.- В прошлый раз мы проходили правописание… - И замолчала. - В прошлый раз мы… - Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб. - Володя Тенков, встань, подбери за собой! Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой. После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки. Вскоре я увидел истощенных людей с громадными кротко-печальными глазами восточных красавиц и больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами. Истощенных - кожа и кости - у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой - слонами .И вот березовый сквер возле вокзала. Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума. Не сходил еще и потому, что знал: те, кто в нашем привокзальном березнячке умирал среди бела дня, - враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Они не сдавались. Что ж… попали в березняк. Вместе с другими ребятами я был свидетелем нечаянного разговора Дыбакова с одним шкилетником. Дыбаков - первый секретарь партии в нашем районе, высокий, в полувоенном кителе с рублено прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами.
В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым кирпичом дорожке. Мы, ребятишки, за неимением других зрелищ тоже сопровождали Дыбакова. Неожиданно он остановился. Поперек дорожки, под его хромовыми сапогами, лежал оборванец — костяк в изношенной, слишком просторной коже. Он лежал на толченом кирпиче, положив коричневый череп па грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду — с кроткой скорбью в неестественно громадных глазах. Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, сипяще и внятно произнесли:- Поговорим, начальник.
Обвалилась тишина, стало слышно, как далеко за пустырем возле бараков кто-то от безделья тенорит под балалайку._ - Аль боишься меня, начальник? Из-за спины Дыбакова вынырнул, райкомовский работник товарищ Губанов, как всегда с незастегивающимся портфелем под мышкой: — Мал-чать! Мал-чать. Лежащий кротко глядел на него снизу вверх и жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки отмахнул в сторону товарища Губанова.— Поговорим. Спрашивай — отвечу.— Перед смертью скажи… за что, за что меня?. Неужель всерьез за то, что две лошади имел? — шелестящий голос. — За это, — спокойно и холодно ответил Дыбаков.— И признаешься! Ну-у, заверюга… — Мал-чать! — подскочил опять товарищ Губанов.И снова Дыбаков небрежно отмахнул его в сторону.— Дал бы ты рабочему хлеб за чугун? — Что мне ваш чугун, с кашей есть?— То-то и оно, а вот колхозу он нужен, колхоз готов за чугун рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно!— Не хотел.— Почему?— Всяк за свою свободушку стоит.— Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил — и вдруг отдай. Собственности своей жаль! Разве не так
Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться.— Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать? А ты простишь нам, если мы отымем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!— Кто знает.— Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал — мы на тебя нож острый готовим?. Молчишь, сказать нечего?.. Тогда до свидания.Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним, брезгливо обогнув доходягу, двинулись и остальные. Он лежал перед нами, мальчишками, — плоский костяк и тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы осуждающе его разглядывали. Две лошади имел, кровопиец! Ради этих лошадей стал бы точить нож на нас. «Если враг не сдается…» Здорово же его отделал Дыбаков. И все-таки было жаль злого врага. Наверное, не только мне. Никто из ребятишек не заплясал над ним, не стал дразнить: враг-вражина, куркуль-кулачина кору жрет. Вошсй бьет, С куркулихой гуляе. Ветром шатает.
Я садился дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины: направленные вдаль, тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена и под горло подкатывала тошнота. Раньше мать про меня говорила: «На этого не пожалуюсь, что ни поставь — уминает, за ушами трещит». Сейчас она подымала крик:- Заелись! С жиру беситесь! «С жиру бесился я один, но если мать начинала ругаться, то всегда ругала сразу двоих - меня и брата. Брат был моложе на 3 года, в свои 7 лет умел переживать только за самого себя, а потому ел - за ушами трещит..- Беситесь! Супу не хотим, картошки не хотим! Кругом люди черствому сухарю рады-радехоньки. Вам хоть рябчиков подавай.
О рябчиках я только читал стишки: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Объявить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой, картинки картинками, а есть-то мне все-таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой, я расправлялся с ободом, вставал из-за стола отяжелевший. Вот тут-то все и начиналось. Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании для себя хлеба насущного, само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большей частью из числа сытых выходили идейные борцы с кастовой сытостью - Гракхи всех времен.
Я вставал из-за стола не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много? Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?. «Если враг не сдается, его уничтожают!» А это «уничтожают» вот так, наверное, и должно выглядеть черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из черного рта. Ты просто боишься смотреть правде в глаза. Отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого - взрослые, старики, дети. Даже грудные дети. Про них-то уж никак не скажешь: «Если враг не сдается…» Я сыт, очень сыт - до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только чью - врагов или не врагов? А кто враг?. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был, но сейчас ему не до вражды, нет мяса па его костях, нет силы даже в его голосе.
Я съел весь свой обед сам и ни с кем но поделился. Есть мне приходится по три раза в день. Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза, увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, за окном серенький, уютный рассвет. Далеко на пристанционных путях заносчиво прокричала маневровая «овечка». Ранние синицы попискивали на старой липе. Скворец-папаша прочищал горло, пробовал петь по-соловьиному - бездарь! С болот па задах нежно, убеждающе закуковала кукушка. «Кукушка! Кукушка! Сколько мне жить?» И она роняет и роняет свое «ку-ку», как серебряные яички. И все это происходит в удивительно покойных сереньких сумерках, в тесном, притушенном, уютном мире. В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь очевиднейшему факту - существует на белом свете некий Володька Тенков, человек 10 лет от роду. Существует - как это прекрасно! «Кукушка! Кукушка! Сколько мне?..» «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..» Щедра без устали. В это время далеко, где-то в самом конце нашей улицы загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега, сминая серебряный голос кукушки, писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито спешит в такую рань?..И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих ранних поездках говорит весь поселок. Комхозовскнй конюх Абрам едет собирать падалицу.
Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в привокзальный березняк, начинает шевелить лежащих - жив или нет? Живых не трогает, мертвых складывает в телегу, как дровяные чурки.Гремит расхлябанная телега, будит спящий поселок. Громит и стихает. После нее не слышно птиц. Какую-то минуту просто никого и ничего не слышно. Ничего… Но странно - нет и тишины. «Кукушка! Кукушка!..» Ах, не надо! Не все ли равно, сколько лет проживу на свете? Да так ли уж мне хочется долго жить? Но словно ливень из-под крыши, обрушились проснувшиеся воробьи. Зазвенели ведра, раздались женские голоса, заскрипел ворот колодца.- Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! Любая работа! - Сильный, с вызовом баритон.- Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! - повторил мальчишеский альт.Э то тоже высланные куркули - отец и сын. Отец - высокий, костлявоплечистый, бородатый, сурово-важный, сын - жилисто-худенький, веснушчатый, очень серьезный, постарше меня года на два, на три. Каждый наш день начинается с того, что они громко, в два голоса, почти высокомерно предлагают поселку чистить помойки. Я не должен есть свои обеды один. Я обязан с кем-то делиться.С кем?
Я обязан с кем-то делиться.С кем?..Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг.Кто — самый?.. Как узнать?Не трудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя, там все - самые, самые, иных нет. Одному протянуть руку, а других не заметить? Одного осчастливить, а десятки обидеть отказом? И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом. Могут ли обойденные согласиться с тобой? Не опасно ли открыто протягивать руку помощи? Конечно же, я тогда думал не так, не такими словами, какими пишу сейчас, 36 лет спустя. Скорей всего я тогда вовсе не думал, а остро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущие осложнения. Не разумом, а чутьем тогда я осознал: благородное намерение - разломи пополам свой хлеб насущный, поделись с ближним - можно свершить только тайком от других, только воровски! Украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные 3 куска хлеба, завернутый в газету комок пшенной каши величиной с кулак и чистый, совершенный, как кристалл, кусочек сахара-рафинада. Среди бела дня я вышел на воровское дело - на тайную охоту на самого, самого голодного. Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голоден всегда - днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых - 7 человек, все семеро живут на рабочие карточки отца, который работает сцепщиком на ж/д. Но я не поделился с Пашкой хлебом - не самый. Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травки и корешки, сушила, варила, парила их. Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабкой - еще не самая. Мимо меня протрусил Б.И. Зильбербрунер в галошках, привязанных веревочками к грязным лодыжкам. Если б я встретил его раньше, то, как знать, возможно, решил - тот самый. Недавно он был одним из шкилетников, торчащих возле столовки, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки, за них платили даже куриными яйцами. Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке - грачиное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани. Может, и он был еще не тот самый… Продолжи я свою охоту, наверное, наскочил бы на более несчастного, но остатки обеда жгли меня сквозь карманы, требовали: делись немедля!
- Дяденька…Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты глаза-щелки. Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом - какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щеки, низвергающийся на грудь подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широченная, натянутая до труппой синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности, - подушка. Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба. Разглаженная физиономия дрогнула, туго надутая, с короткими, грязными, несгибающимися пальцами кисть протянулась, взяла кусок нежно, настойчиво, нетерпеливо. Так берет из руки хлеб теленок с теплым носом и мягкими губами.
- Спасибо, хлопчик, — сказал фистулой слон.Я выложил ему все, что у меня было.
- Завтра, на пустыре, возле штабелей… Что-нибудь еще… - пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью. Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо. На пустыре, возле штабелей… Да этот раз я нес 8 кусков хлеба, 2 ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась мать. Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая обеими руками оттопыривающуюся на животе рубаху. Чья-то тень упала мне под ноги.
- Молодой человек! Молодой человек! Молю! Уделите минутку!..Ко мне ли обращаются столь почтительно?..Ко мне.Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по прозвищу Отрыжка. Она была не слонихой и не шкилетницсй, просто инвалидкой, изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно измято, скрючено, вывернуто - плечики перекошены, спина откинута, маленькая птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирается лихо воскликнуть: «Эх! И спляшу вам!» Но Отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой.Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом:
- Молодой человек, поглядите на меня! Не стесняйтесь, не стесняйтесь, внимательней! Вы когда-нибудь видели обиженное богом существо?. Она подмигивала и наступала на меня, я пятился. - Я больна, я беспомощна, но у меня дома сын. Я - мать, я люблю его всей душой, я готова на все, чтоб его накормить. Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький кусочек, прошу вас. Веселое до жути подмигивание всей щекой, черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промокнуть глаза. Откуда она узнала, что у меня под рубахой хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет меня на пустыре. Слону выгодно молчать.— Готова встать перед вами па колени. У вас такое доброе… у вас ангельское лицо!..Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. Я не понимал тогда, что не я один пытался подкормить ссыльных куркулей, что у всех простодушных спасителей было красноречиво воровское, виноватое выражение лица. Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной тряпицей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок.. Это я обещал, но Отрыжка пожирала сорочьими глазами консервную банку, трясла пыльной шляпкой с перышком, стонала:— Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын - мы гибнем!..Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блеснула глазом на оставшийся в моей руке последний ломоть хлеба, дернула головой эх, спляшу! - еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрененная набок, как тонущая лодка.
Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам позвал - приходи на пустырь, я заставил голодного ждать целые сутки, сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться и с досады - да и с голода тоже, не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным: как я мог - вырвал изо рта у голодного! Как я мог!. А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял, облаченный в свой необъятный кафтан цвета свежевспаханного поля, сложив жабьи мягкие руки на тучном животе, ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке, - недвижим и башнеподобен. Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным в нору собакой. Он может простоять до вечера, может так стоять и завтра и послезавтра, спешить ему некуда, а стояние обещает хлеб. Я дождался, пока мать ушла из дому, забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофелин и выскочил…
У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли бы исчезнуть все наши семейные запасы хлеба.
- Сынку, нэ вирь подлой бабе. Немае у нэй никого. Ни сына нэма, ни дочкы .Я и без него об этом догадывался - Отрыжка обманывала, но попробуй отказать ей, когда стоит перед тобой изломанная, подмигивает щекой и держит в руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть глаза.Ой, лыхо, сынку, лыхо. Смэрть и та грэбуе. Ой, лыхо, лыхо. - Сипло вздыхая, он медленно отчалил, с натугой волоча пышные ноги по занозистым доскам поселкового тротуара, обширный, как стог, величественный, как обветшалый ветряк. - Ой, лыхо мни, лыхо…Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной стоял отец, на гладко выбритой голове играет солнечный зайчик, тучновато-плотный, в парусиновой гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками, лицо не хмурое и глаза не завешаны бровями - спокойное, усталое лицо. Шагнул на меня, положил па мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся куда-то в сторону, наконец спросил:- Ты дал ему хлеба?- Дал. И он снова вглядывался в даль. Я люблю своего отца и горжусь им .О великой революции, о гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки! Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров. Он слышал Ленина на Финском вокзале, он видел его стоящим на броневике, живым - не на памятнике. Он был в гражданскую комиссаром 416 ревнолка.У него на шее рубец от колчаковского осколка.
Он получил в награду именные серебряные часы, их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на крышке: «За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией»…Я люблю отца и горжусь им.и всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: «Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?» Но он тихо спросил:- Почему этому? Почему не другому?- Этот подвернулся…- Подвернется другой - дашь?- Н-не знаю, наверное, дам.- А хватит ли у нас хлеба накормить всех? Я молчал и смотрел в землю.- У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпаешь, сынок Отец легонько подтолкнул меня в плечо. - Иди играй. Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под наше окно и стоял, стоял, стоял, застывший, неряшливый, лишенный лица. Я старался не глядеть на него, терпел, и слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и медлительно удалялся. Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной траве валяется еще один слон, укрытый извоженной, когда-то черной железнодорожной шинелью. Он лишь приподнял навстречу мне нечесаную, в колтунах и болячках голову, прохрипел:- Ма-а-льчик! По-ми-раю!..И я увидел, что это правда, отдал ему кусок вареной трески.
На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкилетника. Я попадал уже в полную осаду, я теперь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятерых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери на всех недостанет. Брат бегал смотреть на гостей, возвращался возбужденно-радостный:- Еще один шкилетник к Володьке приполз! Мать ругалась:- Лежку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов, ироды! Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был не виновен ни сном ни духом. Мать ругалась, но выйти и отогнать голодных куркулей не решалась. Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек ни единого слова. Мать приказала:- Вот кувшин - за квасом в столовку сбегай. И быстро мне!
Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный кувшин. Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно, не вялым слонам и не еле ползающим шкилетиикам перехватить меня. Я долго толкался в столовке-чайной, покупал квас. Квас был настоящий, хлебный - никак не витаминный морс, потому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи не торчи, а возвращаться надо.
Они меня ждали. Все лежачие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заискивающих улыбок, знойные глаза, безглазые физиономии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шершавые голоса:- Хлопчик, хлебца по крошечке Помираю, ма-а-альчик. Перед смертью куснуть. Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.- Хле-ебца-а, корочку Хошь, руку свою?..И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела Отрыжка:- Молодой человек! Молю! На коленях молю!
Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, господу богу. И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах, из меня рыдающим галопом вырвался чужой, дикий голос:- Ухо-ди-те! Уходи-тс!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите
Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор с юбки. Остальные, разом потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расползаться без спешки, вяло, а я не мог остановиться, кричал рыдающе:- Уходи-те!! С инструментом на плечах подошли работяги - бородатый, степенный отец с конопатым, очень серьезным сыном, который был старше меня только на два года. Сын небрежно двинул подбородком в сторону разбредавшихся куркулей:- Шакалы. Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба с откровенным презрением посмотрели на меня, встрепанного, заплаканного, нежно прижимающего к груди кувшин с квасом. Я для них был не жертва, которой нужно сочувствовать, а один из участников шакальей игры.Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу, и та гнулась под солнцем широким полотнищем, выплескивала беззвучные молнии, шаг - и вспышка, шаг и вспышка. Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто уже больше не выстаивал возле нашей калитки. Я излечился? Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стой тот перед моим окном хоть до самой зимы. Мать ахала и охала - ничего не ем, худею, синячищи под глазами. Она трижды на день устраивала мне пытку:- Опять уставился в тарелку? Опять не угодила? Ешь! Ешь! На молоке сварена, масла положила, посмей только отвернуться !Из муки, хранившейся к праздникам, она пекла мне пироги с капустой и рубленым яйцом. Я очень любил эти пироги, я их ел и страдал. Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверику.
Гремела утренняя телега…
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня…
Гремела телега - знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества. Я слушал ее и сознавал: я дурной, неисправимый мальчишка, ничего не могу с собой поделать - жалею своих врагов! Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке. У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке. Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.
- Что это у нес шерсть так растет? — спросил я.
Отец помолчал, нехотя пояснил:
- Выпадает от голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.
И меня словно обдало банным паром. Я нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет- нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака… Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина - «с голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал - не появится ли та самая…В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.
https://skazki.rustih.ru/vladimir-tendryakov-xleb-dlya-sobaki/
|
| |
| |