|
НЕ ТОЛЬКО О ПОЭЗИИ...*
|
|
| Анастасия | Дата: Среда, 16 Дек 2009, 11:47 | Сообщение # 1 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 236
Статус: Offline | Однажды приходит Ученик к своему Учителю и говорит: - Учитель, я устал, у меня такая тяжёлая жизнь, такие трудности и проблемы, я всё время плыву против течения, у меня нет больше сил … Что мне делать? Учитель вместо ответа поставил на огонь три одинаковые кастрюли с водой. В одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал зёрна кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей кастрюли.
- Что изменилось? – спросил он Ученика.
Яйцо и морковь сварились, а зёрна кофе растворились в воде, - ответил он.
- Нет, - сказал Учитель, - это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри – твёрдая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твёрдым. Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств – кипятка. Так и люди – сильные внешне могут расклеится с тать слабаками , там, где хрупкие и нежные лишь затвердевают и окрепнут …
- А кофе? – спросил ученик?
- О! Это самое интересное! Зёрна кофе полностью растворились в новой враждебной среде и изменили её – превратив кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств – они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации.

- А что это у тебя в руке?
- Счастье...
- А почему такое маленькое?
- Оно только моё. Зато какое лучистое и красивое...
- Да, восхитительно!
- Хочешь кусочек?
- Наверное...
- Давай ладошку, я поделюсь с тобой.
- Ой, оно такое тёплое!
- Нравится?
- Очень...спасибо! Знаешь, мне намного лучше, когда счастье в руке...
- Так всегда бывает.
- А если я с кем-то поделюсь?
- Тогда у тебя прибавится своего!
- Почему?
- Сама не знаю. Только потом оно станет ещё более тёплым.
- А руки об него обжечь можно?
- Руки обжигают об боль...Об счастье их обжечь нельзя! Поделись своим кусочком счастья, со всеми, кому ты его желаешь! и не важно сколько вернется, ведь счастье не продается...

Женщина вышла из своего дома и увидела на уличном дворике троих стариков с длинными белыми бородами. Она не узнала их. Она сказала : - Наверное, вы мне не знакомы, но вы должно быть, голодны. Пожалуйста, входите в дом и поешьте.
- А муж дома ? - спросили они.
- Нет. - ответила она. - Его нет.
- Тогда мы не можем войти. - ответили они.
Вечером, когда её муж вернулся домой, она рассказала ему о случившемся.
- Иди и скажи им, что я дома и пригласи их в дом! - сказал муж.
Женщина вышла и пригласила стариков.
- Мы не можем пойти в дом вместе - ответили они. "
- Почему же? - удивилась она. Один из стариков объяснил:
- Его зовут Богатство. - сказал он, указывая на одного из своих друзей, и сказал, указывая на другого - А его зовут Удача. А меня зовут Любовь.
После чего добавил:
- Сейчас иди домой и поговори со своим мужем о том, кого из нас вы хотите видеть в своем доме.
Женщина пошла и рассказала мужу о том, что услышала. Ее муж был очень обрадован.
- Как хорошо! - сказал он. - Если уж надо сделать выбор, давай пригласим Богатство. Пусть войдет и наполнит наш дом богатством!
Его жена возразила:
- Дорогой, а почему бы нам не пригласить Удачу?
Их дочь слушала все сидя в углу.Она подбежала к ним со своим предложением:
- А почему бы нам лучше не пригласить Любовь? Ведь тогда в нашем доме воцарит любовь!"
- Давай-ка согласимся с нашей девочкой. - сказал муж жене. - Иди и попроси Любовь стать нашим гостем.
Женщина вышла и спросила и троих стариков:
- Кто из вас Любовь? Заходи в дом и будь нашим гостем.
Старик по имени Любовь пошёл в направлении дома. Другие два старика последовали за ним. Удивлённая, леди спросила Богатство и Удачу:
- Я же пригласила только Любовь, почему вы идёте?
Старики ответили:
- Если бы вы пригласили Богатство или Удачу, другие два из нас остались бы на улице, но так как вы пригласили Любовь, куда она идёт, мы всегда идём за нею. Там, где есть Любовь, всегда есть и Богатство и Удача!
ПРИТЧА О ЖЕНЩИНЕ
Когда Бог создавал женщину, он заработался допоздна на шестой день. Ангел, проходя мимо, сказал: Почему ты так долго над ней работаешь?
Господь ответил: А ты видел все те параметры, в соответствии с которыми я должен ее создать? Она должна быть моющейся, но быть сделана не из пластмассы, иметь более 200 подвижных деталей, и все они должны быть заменяемыми, она должна функционировать на любой еде, быть в состоянии обнять нескольких детей одновременно, своим объятием исцелять все - от ушибленного колена до разбитого сердца, и все это она должна делать, имея всего лишь одну пару рук.
Ангел был поражен: Всего лишь одну пару рук это невозможно! И это стандартная модель?! Слишком много работы на один день, оставь, доделаешь ее завтра.
- Нет, - сказал Господь. - Я так близок к завершению этого творения, которое станет моим самым любимым.
Ангел подошел ближе и потрогал женщину: Но, Господь, ты ее сделал такой нежной.
- Да, она нежна, - сказал Господь, но я также сделал ее сильной. Ты даже представить себе не можешь, что она способна вынести и преодолеть.
- А думать она умеет? - спросил ангел. Господь ответил: Она умеет не только думать, но и убеждать и договариваться. Ангел коснулся женской щеки: Господь, похоже это создание протекает! Ты возложил слишком много тягот на нее.
- Она не протекает, это слеза", - поправил ангела Господь.
- А это для чего?" - спросил ангел. И сказал Господь: Слезами она выражает свое горе, сомнения, любовь, одиночество, страдания и радость.
Это необычайно впечатлило ангела: "Господь, ты гений. Ты все продумал. Женщина и вправду изумительное творение!"
И это действительно так! В женщине есть сила, которая изумляет мужчину. Она может справиться с бедой и вынести тяготы жизни. Она несет счастье, любовь и понимание. Она улыбается, когда ей хочется кричать, поет, когда хочется плакать. Плачет, когда счастлива, и смеется, когда боится. Она борется за то, во что верует. Восстает против несправедливости. Не принимает отказа, когда видит лучшее решение. Она отдает всю себя на благо семьи. Ведет подругу к врачу, если та боится. Любовь ее безусловна. Она плачет от радости за своих детей. Радуется успеху друзей. Умиляется рождению ребенка и свадьбе. Сердце ее разрывается от горя, когда умирают родные или друзья. Но она находит в себе силы продолжать жить. Она знает, что поцелуй и объятие могут исцелить разбитое сердце. У нее лишь один недостаток: Она забывает о своих достоинствах.
Владимир Богомолов
"КРУГОМ ЛЮДИ"
Она дремлет в электричке, лежа на лавке и подложив руку под голову. Одета бедно, в порыжелое кургузое пальтишко и теплые не по сезону коты; на голове - серый обтерханный платок. Неожиданно подхватывается: "Это еще не Рамень?"- садится и, увидев, что за окном дождь, огорченно, с сердитой озабоченностью восклицает: Вот враг! Ну надо же! Грибной дождик - чем он вам помешал?
Она смотрит недоуменно и, сообразив, что перед ней горожане, поясняет: - Для хлебов он теперь не нужон. Совсем не нужон. - И с мягкой укоризной, весело: Чай, хлебом кормимся-то, а не грибами!
Невысокая, загорелая, морщинистая. Старенькая-старенькая - лет восьмидесяти, но еще довольно живая. И руки заскорузлые, крепкие. Во рту спереди торчат два желтых зуба, тонкие и длинные. Поправляет платок и, приветливо улыбаясь, охотно разговаривает и рассказывает о себе. Сама из-под Иркутска. Сын погиб, а дочь умерла, и родных - никого. Ездила в Москву насчет "пензии", причем, как выясняется, и туда и обратно - без билета. И ни багажа, ни хотя бы крохотного узелка.
- Как же так, без билета? И не ссадили? - удивляются вокруг. - А контроль? Контроль-то был?
- Два раза приходил. А что контроль? - слабо улыбается она. - Контроль тоже ведь люди. Кругом люди! - убежденно и радостно сообщает она и, словно оправдываясь, добавляет: Я ведь не так, я по делу. В этом ее "Кругом люди!" столько веры в человека и оптимизма, что всем становится как-то лучше, светлее...
Проехать без билета и без денег половину России, более пяти тысяч километров, и точно так же возвращаться - уму непостижимо. Но ей верят. Есть в ней что-то очень хорошее, душевное, мудрое; лицо, глаза и улыбка так и светятся приветливостью, и столь чистосердечна - вся наружу, - ей просто нельзя не верить. Кто-то из пассажиров угостил ее пирожком, она взяла, с достоинством поблагодарив, и охотно сосет и жамкает, легонько жамкает своими двумя зубами. Меж тем за окном после дождя проглянуло солнышко и сверкает ослепительно миллионами росинок на траве, на листьях и на крышах. И, оставив пирожок, она, радостная, сияющая, щуря блеклые старческие глаза, смотрит как завороженная в окно и восторженно произносит: Батюшки, красота-то какая! Нет, вы поглядите...
1963
Дина Рубина
"БЕССОНИЦА"
Давид сам приехал в аэропорт встретить Мишу, и тому это было приятно и лестно. Давид Гудиани возглавлял созданный им много лет назад Музей современного искусства, в котором висели и несколько Мишиных картин из цикла «На крышах Тбилиси». Они не виделись больше 20 лет. Когда в 70-х Миша уехал в Америку, сгинув в Зазеркалье навсегда, – никто из них не надеялся, что однажды обнимет другого. И вот они обнялись – тесно, крепко, обхлопывая спину и плечи друг друга, чуть не плача от радости. Давид, конечно, постарел, поседел, – все мы не мальчики, – но был по-прежнему горяч, поджар и чертовски остроумен. Не человек, а бенгальский огонь. Миша знал, что 10 лет назад у Давида произошла трагедия – в авиакатастрофе погибли жена и сын. Он читал некролог в «Советской культуре», привезенной в Нью-Йорк одним общим знакомым несколько месяцев спустя после их гибели, – Нина Гудиани была известной балериной… Говорили, Давид чуть не умер, год валялся по психушкам, пил горькую, но выкарабкался. Единственно, не летал, и аэропорты объезжал за много верст. Именно поэтому Миша был удивлен и растроган, что Давид приехал встретить его сам, хотя мог послать любого из своих подчиненных. И вот, энергичный и подтянутый, он уже с места в карьер везет старого приятеля смотреть свое детище, Музей современного искусства. – Мы еще с тобой ого-го, старик! – повторял он, хохоча и кося коричневым глазом из-под полей элегантной шляпы. – Мы еще дадим бабам пороху! Я тебя познакомлю здесь с такими девочками! Ты останешься, поверь мне, останешься!!!
…Весь тот первый день они мотались по мастерским и выставкам, а вечером, прихватив двух молодых художников и трех неизвестно откуда возникших девиц, поехали за город – обедать в какую-то модную таверну, потом успели на презентацию новой книги известного прозаика и в конце концов завалились до глубокой ночи к одной знаменитой актрисе, приятельнице Давида… Часу в 5-м утра оказались дома, и Миша – в чем стоял – рухнул на диван в кабинете хозяина, мгновенно уснув. Но Давид вошел, растормошил его, приговаривая: «Хватит спать, дома спать будешь!» – сварил кофе, и они проболтали до утра – о друзьях, разбросанных по странам, об искусстве, о современной живописи, которой оба по-разному служили всю жизнь. А наутро повторилось все то же – явились художники и два поэта, все поехали в театр на прогон новой пьесы, потом очутились на открытии конференции, посвященной бог знает чему, затем оказались в мастерской какого-то скульптора… А вечером Давид пригласил к себе целую компанию, которая гуляла всю ночь и разошлась только под утро. На третьи сутки ошалевший от буйных и бессонных празднеств Миша взмолился:
– Давид, дай хоть эту ночь поспать по-человечески. Ну нет же сил!
Тот сник, опустил плечи, пробормотал:
– Да… Да, конечно, отдыхай… Отдыхай, дорогой…
Вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Мише показалось, что друг обиделся, он вскочил и пошел за ним на кухню. Давид обрадовался, засуетился:
– Хочешь, кофе тебе сварю?
– Да я уже весь трясусь от твоего кофе! – воскликнул Миша. – Давид, Давид!.. Неужели ты не видишь, что болен?! Что с тобой творится? Ты страшно возбужден, ты совсем не спишь!
– Не сплю, – согласился тот. – Совсем не сплю. Никогда.
– Почему?!
Давид отвернулся и, помолчав, обронил тихо:
– Боюсь…
Он всегда был любимцем женщин и всегда изменял жене, и это не значило ровным счетом ничего: семья составляла для него стержень жизни, и день был хорош или не очень в зависимости от того, в каком настроении Нина просыпалась. Дочь знаменитого тбилисского адвоката, прима-балерина гос. театра оперы и балета, маленькая, с царственно прямой спиной и тихим властным голосом, – когда она появлялась перед людьми, Давид переставал быть центром внимания и становился просто – мужем Нины. Тем августом они собирались всей семьей погостить у друзей в Ленинграде. Билеты были куплены задолго – 12-летний сын и сама Нина давно мечтали об этой поездке. Но за день до полета позвонили из музея: в одном из центральных залов прорвало батарею, и, хотя картины вовремя эвакуированы, надо срочно что-то решать с ремонтом. Нина расстроилась, хотела сдать билеты, но Давид уговорил ее лететь, – он догонит их в Питере дня через 3-4, как только наладит здесь работу ремонтной бригады.
Было еще одно обстоятельство, из-за которого он втайне желал остаться один на пару дней: ему предстояло отремонтировать кое-что еще, вернее, наоборот, разрушить до основания. Всегда осторожный и осмотрительный в отношениях с женщинами, он, похоже, на этот раз заигрался. Очередная пассия, хорошенькая аспирантка местного университета, заявила, что претендует на большее в его жизни, чем мимолетный роман, закатывала истерики, грозилась позвонить Нине. Взбешенный Давид, разумеется, оборвал эту связь, но девица оказалась опытным тактиком: глубокой ночью или ранним утром в квартире раздавались звонки… Он бросался к телефону… Трубка молчала. Совершенно истерзанный Давид не знал, что делать – то ли убить мерзавку, то ли молить ее о пощаде. На сей раз звонок раздался буквально за 5 мин. до выхода из дома – такси в аэропорт уже ждало их у подъезда. Как он мог прозевать момент, как мог допустить, чтобы Нина подошла к телефону?! Она стояла к нему спиной – он так любил ее гордую спину, маленькую аккуратную голову, склонившуюся к трубке! Молча слушала, не прерывая. Наконец сказала:
– Вы ошиблись номером. Вычеркните его из записной книжки. Здесь живет семья Давида Гудиани и собирается жить еще много лет в том же составе.
– Кто это?! – крикнул он, обмирая от страха. – Кто?!
– Никто, – ответила она спокойно, не глядя на него. – Ты же слышал – ошиблись номером… Резо, не забудь куртку. Твоя кепка у меня в сумочке…
И до самолета не проронила ни слова, что было для него самым страшным. Он проводил их до трапа, расцеловал сына, повернулся к жене и сказал хрипло и умоляюще:
– Нина, душа моя…
Она молча пошла вверх по трапу. Он смотрел вслед, бессознательно, сквозь сжимающий сердце страх любуясь ее великолепной осанкой. На последней ступени она обернулась и сказала спокойно и властно: – Давид! Я жду тебя…
– …Понимаешь, – говорил он, – днем еще ничего. Друзья, суета, дела всякие… А ночи боюсь. Боюсь уснуть. Стоит мне закрыть глаза – она уходит от меня по трапу самолета. Ее царственная спина, прекрасней которой я не видел в жизни. И каждую ночь она оборачивается… Она оборачивается и говорит мне:
– Давид! Я жду тебя…

Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и задёрганный, и увидел, что в дверях его ждёт 5-летний сын.
- Папа, можно у тебя кое-что спросить?
- Конечно, что случилось?
- Пап, а сколько ты получаешь?
- Это не твоё дело! - возмутился отец. - И потом, зачем это тебе?
- Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?
- Ну, вообще-то, 500. А что?
- Пап, - сын посмотрел на него снизу вверх очень серьёзными глазами. - Пап, ты можешь дать мне в долг 300?
- Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую игрушку? - закричал тот. -Немедленно марш к себе в комнату и ложись спать!.. Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю целый день, страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь.
Малыш тихо ушёл к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбу сына. Да как он смеет спрашивать меня о зарплате, чтобы потом попросить денег? Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво: Может, ему действительно что-то очень важное нужно купить. Да чёрт с ними, с тремя сотнями, он ведь ещё вообще ни разу у меня не просил денег. Когда он вошёл в детскую, его сын уже был в постели.
- Ты не спишь, сынок? - спросил он.
- Нет, папа. Просто лежу, - ответил мальчик.
- Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, - сказал отец. - У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил.
Мальчик сел в кровати и улыбнулся.
- Ой, папка, спасибо! - радостно воскликнул он.
Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе и тщательно пересчитал купюры, а затем снова посмотрел на отца.
- Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? - проворчал тот.
- Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, - ответил ребенок. - Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего времени? Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше, я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами.
Мораль: Морали нет. Просто хотелось напомнить, что наша жизнь слишком коротка, чтобы проводить её целиком на работе. Мы не должны позволять ей утекать сквозь пальцы и не уделять хотя бы крохотную её толику тем, кто действительно нас любит, самым близким нашим людям. Если нас завтра не станет, наша компания очень быстро заменит нас кем-то другим. И только для семьи и друзей это будет действительно большая потеря, о которой они будут помнить всю свою жизнь. Подумай об этом, ведь мы уделяем работе гораздо больше времени, чем семье.
http://strokisosmislom.ru/
|
| |
| |
| Lada | Дата: Суббота, 09 Янв 2010, 17:46 | Сообщение # 2 |
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Статус: Offline | НЕЛЬЗЯ УКРАСТЬ ЛУНУ
Рёнан, дзенский мастер, жил самой простой жизнью в маленькой хижине у подножья горы. Однажды вечером в хижину забрался вор и обнаружил, что там нечего украсть. В этот момент Рёнан вернулся и застал у себя вора. "Ты прошел долгий путь, чтобы навестить меня, - сказал он бродяге, - и ты не должен вернуться с пустыми руками. Пожалуйста, возьми в подарок мою одежду". Вор был ошарашен. Он взял одежду и тихонько ушел. ...Рёнан сидел нагой на пороге своего дома, любуясь луной. "Бедный парень, - задумчиво сказал он. - Мне бы так хотелось подарить ему эту прекрасную Луну..."
Вот ещё одна притча. Перечитывала этот рассказ и всё время перед глазами стоял Олег... Вот кто действительно умеет быть тем, кем является на самом деле...
Нил Дональд Уолш
МАЛЕНЬКАЯ ДУША И СОЛНЦЕ
Жила-была вне времени одна Маленькая Душа, которая сказала однажды Богу:
- Я знаю, кто я есть!
- Замечательно, - ответил Бог, - и кто же ты?
И Маленькая Душа прокричала:
- Я есть Свет!
Бог улыбнулся своей большой улыбкой и сказал:
- Верно! Ты есть Свет!
Маленькая Душа была очень счастлива, так как поняла то, что рано или поздно понимают все души в Царстве Бога. - Ух, ты! - сказала Маленькая Душа, - а ведь это действительно круто!
Но скоро ей стало недостаточно одного знания того, кто она есть. Маленькая Душа почувствовала, как в ней начинается новый водоворот желания. Теперь она хотела быть тем, чем она являлась. И тогда Маленькая Душа вернулась к Богу (что само по себе, совсем не плохая идея для всех душ, которые хотят быть тем, Кто Они Есть на Самом Деле) и сказала:
- Привет, Бог! Теперь, когда я знаю, Кто Я Есть, можно ли мне быть этим?
И Бог ответил: - Ты хочешь сказать, что ты желаешь быть тем, Кем Ты Уже Являешься?
- Видишь ли, - ответила Маленькая Душа, - одно дело знать, Кто Я Есть, и совсем другое на самом деле быть этим. Я хочу ощутить и почувствовать, каково это быть Светом!
- Но ты и так уже являешься Светом, - повторил Бог, снова улыбаясь.
- Да, но я хочу узнать это, почувствовав! - крикнула Маленькая Душа.
- Ну что ж, - сказал Бог посмеиваясь, - Я должен был бы догадаться об этом. Ты всегда отличалась страстью к приключениям, - но затем выражение Бога изменилось, - Только вот, есть тут одна вещь...
- Какая такая вещь? - спросила Маленькая Душа.
- Не существует ничего иного, кроме как Свет. Видишь ли, я создал только то, чем ты и являешься; и получается, что простого пути познать себя как то, Кто Ты Есть у тебя не предвидится. Понимаешь, не существует ничего, чем бы ты ни была.
- Э-э-э... , - сказала Маленькая Душа, которая была теперь несколько озадачена.
- Подумай об этом вот как, - сказал Бог, - Ты подобна свече в лучах Солнца. Ты светишь вместе с миллионами, триллионами и триллиардами других свечей, которые и составляют Солнце. И солнце не было бы Солнцем без тебя. Попробовало бы оно стать солнцем без одной из своих свеч... оно бы просто не смогло бы быть нормальным Солнцем, потому что сияло бы уже не так ярко. И вот задача, как познать себя как свет, когда ты находишься в самом центре Света? Ничего себе задачка?
- Ну, ты же Бог, - прищурилась Маленькая Душа, - придумай же что-нибудь!
И тогда Бог улыбнулся еще раз и сказал:
- Я уже придумал. Коль скоро ты не можешь увидеть себя как Свет, когда ты находишься в Свете, мы окружим тебя темнотой.
- А что такое темнота? - спросила маленькая душа.
- Это то, чем ты не являешься, - ответил Бог.
- А станет ли мне страшно от этой темноты? - заплакала Маленькая Душа.
- Только, если ты выберешь испугаться, - ответил Бог, - На самом деле, не существует ничего, чего стоило бы бояться. И только, если ты решишь, что есть, ты станешь бояться. Видишь ли, мы всё равно придумываем всё это. Мы притворяемся.
- О, - сказала Маленькая Душа, и после этого сразу почувствовала себя значительно лучше.
После этого Бог объяснил, что для того, чтобы познать в ощущениях или почувствовать вообще что-либо, должно появиться нечто прямо противоположное. Или, другими словами, если ты хочешь почувствовать что-то - ты рождаешь появление чего-то прямо противоположного.
- И это великий дар, - сказал Бог, - ибо без него ты бы не смогла ничего познать или почувствовать. Ты не можешь узнать, что такое Тепло без Холода, Верх без Низа, Быстро без Медленно. Ты никогда бы не смогла узнать, что такое Лево без Право, Здесь без Там, Теперь без Тогда. Таким образом, - продолжил Бог, - когда ты будешь окружена темнотой, не возноси кулак к небесам и не доводи свой голос до крика, и не проклинай темноту. Но вместо этого будь Светом в этой темноте и не сходи с ума по этому поводу. Тогда Ты и познаешь, Кто Ты Есть на Самом Деле, и все остальные ощутят это также. Позволь своему Свету сиять так ярко, что все и каждый смогут узнать, насколько ты необыкновенна!
- Ты хочешь сказать, что это нормально - позволить другим увидеть то, насколько я необыкновенна? - спросила Маленькая Душа.
- Ну, разумеется! - засмеялся Бог, - это очень даже в порядке! Но помни, что "необыкновенный" не означает "лучше". Каждый является необыкновенным и особенным по-своему! При этом многие успели забыть об этом. И они поймут, что это нормально - быть особенным и необыкновенным, только когда ты увидишь, что это в порядке вещей для тебя - быть особенной.
- Ух, ты! - сказала Маленькая Душа, принявшись танцевать, смеяться и прыгать от радости, - Я могу быть такой особенной и необыкновенной, какой захочу!
- Да, и ты можешь начать прямо сейчас, - сказал Бог, который принялся танцевать и смеяться, и прыгать вместе с Маленькой Душой, - Какой частью особенного и необыкновенного ты хочешь быть?
- Как это, какой частью особенного и необыкновенного? - повторила Маленькая Душа, - я не понимаю.
- Понимаешь, - начал Бог, - быть Светом - значит быть особенным, а быть особенным, включает в себя много разных частей. Быть добрым - значит быть особенным. Быть нежным - значит быть особенным. Быть особенным - также значит быть творческим, изобретательным. Быть терпеливым - это тоже значит быть особенным. Можешь ли ты придумать какие-то иные способы быть особенным?
Маленькая Душа посидела немного в молчании.
- Я могу придумать множество способов быть особенной! - воскликнула она, наконец, - Быть поддерживающим - значит быть особенным. Быть отдающим - это быть особенным. Быть особенным - это и быть дружелюбным. И быть заботливым - это тоже значит быть особенным.
- Да! - согласился Бог, - и ты можешь быть всем этим или любой другой частью особенного, какой пожелаешь в любой момент. Это и есть то, что означает быть Светом.
- Я знаю, чем я хочу быть, я знаю, чем я хочу быть! - радостно объявила Маленькая Душа, - Я хочу быть той частью особенного, которая называется "прощающий". Правда ведь, что быть прощающей - это значит быть особенной?
- О, да, - с уверенностью сказал Бог, - это очень особенно.
- Хорошо, - сказала Маленькая Душа, - именно этим я и хочу быть. Я хочу быть прощающей. Я хочу познать себя как прощающая.
- Хорошо, - сказал Бог, - но есть одна вещь, о которой тебе следует знать.
Маленькая Душа становилась немного нетерпеливой. Теперь ей казалось, что на каждом шагу её ожидают новые осложнения.
- Что же это такое? - спросила она со вздохом.
- Не существует никого, кого можно было бы простить.
- Никого? - она едва могла поверить тому, что только что услышала.
- Никого! - ответил Бог, - всё, что я создал - совершенно. Нет ни одной другой души во всём, что Я создал, которая была бы менее совершенна, чем ты. Оглянись.
И именно тогда Маленькая Душа осознала, что вокруг собралась большая толпа других душ. Эти души собрались издалека и отовсюду и из самых разных уголков Царства, ибо все узнали, что Маленькая Душа ведёт необычайный разговор с Богом, и все и каждый желали знать, о чём идёт речь. Глядя на бесчисленное множество собравшихся душ, Маленькая Душа была вынуждена согласиться. Ни одна из душ не выглядела менее замечательно, менее великолепно или менее совершенно, чем она сама. Это было так удивительно, и настолько ярок был свет, исходящий от собравшихся душ, что Маленькой Душе приходилось даже немного прищуриваться, чтобы смотреть на них.
- Так кого же прощать? - спросил Бог.
- Ммм-да, - сказала Маленькая Душа, - повеселиться, похоже, не удастся. А я-то хотела познать себя как То, Что Прощает. Я хотела узнать, как это чувствуется, когда ты такой вот особенный.
И Маленькая Душа задумалась над тем, каково было бы ощущать себя, когда тебе грустно. Но именно тогда к ней подошла другая Дружелюбная Душа.
- Не стоит беспокоиться, Маленькая Душа, - сказала ей Дружелюбная Душа, - я помогу тебе.
- Правда? - засветилась Маленькая Душа, - но что же мне нужно сделать для этого?
- Да ничего - я просто создам для тебя кого-то, кого ты сможешь простить!
- Ты так можешь?
- Конечно! - улыбнулась Дружественная Душа, - в следующем своём рождении, в следующей жизни я сделаю что-то, за что ты сможешь простить меня.
- Но зачем? Зачем тебе вдруг делать это? - спросила Маленькая Душа, - Тебе, самому совершенному Творению! Тебе, которая вибрирует с такой скоростью, что рождается Свет, настолько яркий, что даже трудно смотреть на тебя! Что может заставить тебя захотеть так понизить свои вибрации, что твой яркий свет станет тёмным и тяжелым? Что может послужить причиной того, что ты, которая есть Свет; ты, которая танцует со звёздами и движется через Царство со скоростью мысли, захотела бы придти в мою жизнь и сделать себя настолько тяжёлой, что ты смогла бы сделать что-то плохое?
- Ответ очень прост, - сказала Дружелюбная Душа, - я сделаю это, потому что я люблю тебя.
Маленькая Душа была удивлена, услышав такой ответ.
- Не стоит так удивляться, - сказала Дружелюбная Душа, - ты уже делала то же самое и для меня. Неужели же ты не помнишь этого? О, мы же столько раз уже танцевали вместе, ты и я. На протяжении эонов и сквозь века мы танцевали с тобой этот танец. На протяжении всего времени и во многих местах мы играли вдвоём с тобой. Мы обе были уже Всем Этим. Мы были и Верхом и Низом, и Левым и Правым. Мы уже были и Там и Здесь, Теперь и Тогда. Мы уже были Всем Этим. Мы были и мужчинами и женщинами, хорошим и плохим; мы обе уже бывали и жертвами и злодеями. Так мы и поступали прежде множество раз друг для друга, ты и я; и каждая создавала для другой точную и совершенную возможность для того, чтобы Проявить и Познать, то Кем Мы Являемся На Самом Деле.
- Таким образом, - стала объяснять Дружелюбная Душа дальше, - в этот раз в нашей следующей жизни я предстану перед тобой как "плохая". И я сделаю что-то действительно ужасное и тогда ты сможешь познать себя как Та, Которая Прощает.
- Но что же ты сделаешь? - спросила Маленькая Душа, немного нервничая, - что будет этим действительно ужасным, что ты сделаешь?
- О, - сказала Дружелюбная Душа, улыбаясь, - мы непременно придумаем что-нибудь.
Но после этого Дружелюбная Душа стала как-то серьёзнее и сказала тихим голосом:
- Знаешь, в одном ты определённо права.
- В чём? - захотела узнать Маленькая Душа.
- Мне действительно понадобится замедлить мои вибрации и стать очень тяжёлой для того, чтобы сделать эту не очень приятную вещь для тебя. Мне придётся притворяться быть чем-то совершенно на меня не похожим. И теперь я хочу попросить тебя об одной ответной услуге.
- Да всё что хочешь! Всё, что ты пожелаешь! - воскликнула Маленькая Душа, начав петь и плясать, - Я буду прощающей! Я буду прощающей! - и тут Маленькая Душа заметила, что Дружелюбная Душа продолжала оставаться молчаливой.
- Так что ты хочешь? - спросила Маленькая Душа, - Что я могу сделать для тебя? Ты просто ангел, согласившись сделать это для меня.
- Ну, разумеется, эта Дружелюбная Душа и есть ангел! - прервал их беседу Бог, - Каждый и есть ангел. Помни всегда: Я посылаю вам только ангелов и никого кроме них.
И Маленькая Душа сгорала от нетерпения сделать что-нибудь для того, чтобы удовлетворить просьбу Дружелюбной Души:
- Так что же я могу сделать для тебя? - спросила она снова.
- Когда я стану бить тебя и причинять тебе боль, - начала Дружелюбная Душа, - в тот момент, когда я сделаю тебе худшее изо всего того, что ты только можешь себе представить... В этот самый момент...
- Да? - прервала её Маленькая Душа, - так что же...?
Дружелюбная Душа молча взглянула на Маленькую Душу и затем молвила:
- Помни, Кто Я Есть На Самом Деле.
- О, ну конечно! - воскликнула Маленькая Душа, - Я обещаю! Я всегда буду помнить тебя такой, какой вижу тебя здесь и сейчас.
- Хорошо, - сказала Дружелюбная Душа, - потому что, видишь ли, в чём тут дело: Я буду очень сильно стараться притворяться, и я, скорее всего, забуду, кто я есть на самом деле. И если ты не будешь помнить то, Кто Я Есть На Самом Деле, я могу забыть об этом на очень долгое время. И если я забуду, Кто Я Есть, - ты можешь даже забыть Кто Ты Есть и мы обе потеряемся. И тогда нам потребуется еще одна душа, которая придёт и напомнит нам о том, Кто Мы Есть.
- Нет! Нам этого не потребуется! - снова пообещала маленькая Душа, - Я буду помнить, кто ты есть! И я буду благодарна тебе за тот дар, который ты принесёшь мне - шанс познать и почувствовать то, Кто Я Есть.
И соглашение было заключено, и Маленькая Душа отправилась в свою новую жизнь, радостная оттого, что будет Светом, что само по себе было очень особенным; и вдвойне радостная оттого, что сможет быть той частью этого особенного, которая называется Прощение. И Маленькая Душа с нетерпением ждала, когда ей представится возможность ощутить и познать себя, как Прощение и принести благодарность той душе, которая сделает это возможным. И в каждый новый момент этой новой жизни, когда новая душа появлялась на сцене, чтобы эта новая душа не приносила в жизнь Маленькой Души - радость или печаль, и в особенности, если это была печаль, Маленькая Душа думала о том, что сказал ей Бог:
- Всегда помни: Я всегда посылаю вам только ангелов, и никого кроме них...
Сообщение отредактировал Lada - Четверг, 07 Янв 2010, 20:40 |
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 24 Май 2010, 19:02 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | КЛОУН С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ
Леонид Енгибаров

Грустный клоун с осенью в сердце, как говорили о нем. Это не была маска, а свойство души, отношение к миру. Он оставил множество рассказов, миниатюр, эссе.
Л.Енгибаров – клоун, литератор, боксер – относится к блистательной плеяде молодой творческой интеллигенции, заявившей о себе в начале 60-х, в недолгие годы первой оттепели. Среди друзей Енгибарова и единомышленников – Г.Шпаликов, Е.Камбурова, В.Высоцкий.
Вот свидетельство М.Влади, также одной из поклонниц творчества Енгибарова. Предлагаемая цитата взята из книги «Владимир, или Прерванный полет». В этой книге Влади мысленно обращается к Высоцкому: «Среди твоих любимых артистов есть один, нежность к которому у тебя безгранична. Его зовут Енгибаров. Он молод, в нем все прекрасно. Он тоже своего рода поэт, он заставляет смеяться и плакать публику – и детей, и взрослых. Этот волшебник украл пальму первенства у стареющего О.Попова и других традиционных ковровых клоунов. Он работает в минорных тонах. Никаких тортов с кремом в лицо, красных носов, полосатых штанов, огромных ботинок, Разбивая тарелки, он переключает публику с бешеного хохота на полную тишину, а потом удивляешься, что у тебя стоит ком в горле, – и вот уже люди вынимают носовые платки, чтобы украдкой вытереть слезы. Этот удивительный атлет творит чудеса на арене, и если тебе удается на несколько секунд сделать « крокодила на одной лапе», то он без видимого усилия может больше минуты оставаться в таком положении. Мы часто встречаемся в цирке в компании добряка Никулина, который так любит детей, что десятками катает их на своей машине по Москве. В ваших отношениях чувствуется взаимное восхищение. Однажды тебе звонят, и я вижу, как у тебя чернеет лицо. Ты кладешь трубку и начинаешь рыдать, как мальчишка, взахлеб. Я обнимаю тебя, ты кричишь:« Енгибаров умер!»
М.Влади не ошиблась. Енгибаров был поэтом. Грустный клоун. «Клоун с осенью в сердце» - как говорили о нем. Это была не маска, а свойство души, отношение к миру. Может быть, поэтому подававший большие надежды боксер Енгибаров – ученик знаменитого маэстро бокса Льва Сегаловича и не достиг всего, что мог, на ринге. Л.Енгибаров оставил немало рассказов, миниатюр, эссе…
http://engibarov.ucoz.ru/load/2-1-0-6
ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ...
На гибких ветвях человеческих жизней - узорчатые зеленые листочки. Листья Добра - их больше всего, нежные листья Любви и листья Страха - они обычно растут где-то внизу, их мало. Листья Верности, может быть, не самые красивые, но наверняка самые необходимые... Есть листья не похожие на другие, ни в каких гербариях не описанные, они встречаются редко, и их надо особенно беречь. Качаются под ветром живучие гибкие ветви, но рано или поздно приходит осень, облетают пожелтевшие от времени листья, и очень важно, чтобы узор ковра, который они выстелют на земле, был светлым, звонким и чистым. Это очень важно для будущей Весны.
ЗВЕЗДЫ
Безлунной ночью окна больших городов похожи на звёзды. Звёзды вспыхивают и гаснут. Жизнь на них то разгорается, то замирает на какое-то время, чтобы возродиться опять, и даже если кто-нибудь умирает - это, к сожалению, может случиться,- то приходят другие люди и снова зажигают звёзды...
Созвездия - этажи, галактика - кварталы, тысячи обитаемых миров. Только не надо путать звёзды-окна со звёздами уличных фонарей: фонари необитаемые, они только освещают путь от одной звезды до другой. Бывают звёзды, вокруг которых живёт помногу людей: бывает, что около звёздочки живет только один человек, и это всегда грустно, потому что ему некому рассказать про звёзды в лунную ночь, что похожи на окна в большом городе. Но я хочу ему сказать: "Не нужно отчаиваться, потому что на одной из звёзд, вполне возможно, кто-то тоже одинок и ждет тебя. И ещё нужно обязательно верить, что звёзды над вашей головой - это, может быть, всего-навсего окна ночного города, а переехать из города в город - это ведь совсем просто".
НА СТАНЦИИ ДЕТСТВО
Занимая на станции Детство место в поезде Жизни, не пытайтесь обязательно протиснуться к окну. Слишком поверхностное будет впечатление. И совсем неважно, какой у вас вагон, хотя некоторые считают чуть ли не трагедией, если они едут не в мягком. В конце концов каждому, у кого есть билет - свидетельство о рождении, - место обеспечено. Важно другое: чтобы на многочисленных остановках - Юность, Зрелость, Творчество, Неудача и, может быть, Счастье и многих других, радостных, но, к сожалению, коротких, все сделали бы всё возможное, чтобы после, когда придет время для вас, прощаться на тихом полустанке...
СКАЗОЧНИК
Всю ночь в огромном доме светилось одно окно. За окном жил сказочник (некоторые называли его поэтом); он писал сказки и дарил их людям, потому что без сказок людям живется трудно. У него на столе лежало много разноцветных карандашей. Страшные сказки он писал черными карандашами, а веселые - красными, желтыми, зелеными, белыми. Но однажды какой-то злой и неумный человек взял и похитил все эти карандаши. Он оставил сказочнику только черные и белые и, уходя, сказал: «Вот теперь он будет писать так, как надо!» Долго стоял опечаленный художник у своего опустевшего стола, потом поднял воротник куртки, погасил лампу и вышел. Он шел, не зная куда. Он медленно шел под дождем по своему городу. Когда он устал и остановился, к его щеке прилип мокрый березовый листок и он увидел, что листок темно-зеленый, затем он увидел, что асфальт серебристо-серый, горизонт уже светло-голубой, а крыши чистые, черепично-красные. Он улыбнулся, собрал все эти краски и вернулся домой. Он снова пишет. Он снова счастлив.
ЛУЧИК
Как одиноко фонарю ночью на улице. Как далеко ему до другого такого же фонарика, на том же улице. Уже холодно, и в городе ноябрь. Подойди к желтому лучику, согрей его, прислонившись плечом - ему будет не так одиноко. Помоги фонарю на пустой улице ночью. Ты думаешь, это легко - всю ночь стоять одному, покачивать желтый блик на талом снегу и замирать от страха, как бы ветер не оборвал провода-нервы? Не бойся! Подойди к фонарю. Вдвоем будет легче.
ТОЙ, КОТОРАЯ ВПЕРВЫЕ УЗНАЛА, ЧТО ТАКОЕ ДОЖДЬ
Дождь - это значит мы дома, одни, дома, на нашей маленькой земле, плотно закрытой мягкими тучами. Нам ничего не страшно, мы вместе у огня, зажженного солнцем много-много веков тому назад и, тихо кружась на уютной Земле, можем отдохнуть, а потом снова проверить, что там за... Дождь - это твои мокрые волосы, капли чистой воды, драгоценные, как капли изумрудов. Их просто дарят нам тучи, мы промокли, нас напоил дождь, дал нам своей шелест. Мы одни за стеной дождя. Как уютно у нас на влажной Земле. Дождь, наш добрый земной Дождь. Если бы не было на Земле дождя, мы бы сбежали отсюда, сбежали туда, где идет Дождь. Дождь. Дождь. Ты спрашиваешь, за что я люблю дождь?.. Дождь - это когда мы вдвоем. Нам не нужно идти в гости, и никто не придет к нам, потому что - Дождь. Дождь, и никто не мешает нам целовать влажные губы.
Дождь, и тебе необходимо мое тепло, без меня тебе холодно, потому что Дождь. Дождь - это только наше, земное. Солнце на всех планетах - на черном, земном, оранжевом небе - то же самое Солнце. А дождь бывает только у нас, у нас на Земле. Теплый дождь. Хорошо тебе у нас, ты не улетишь? Правда? Уютно и легко жить на Земле. Правда?.. Ты грустишь. Тебе рассказали, что дожди на земле бывают разные: бывают свинцовые, бывают из облака, похожего на гриб. Да, это правда. Так бывает. А ты не верь, не верь, любимая, не вспоминай, не рассказывай об этом у себя дома. А когда ты прилетишь обратно ко мне навсегда, обещаю - все будет совсем по-другому. Я клянусь тебе: у нас это не повторится, а я приготовлю для тебя длинные полосы солнца, пропущенные сквозь кружево светлых облаков, а в них раздроблю миллионы капель хрусталя. Прилетай!
НЕ ОБИЖАЙТЕ ЧЕЛОВЕКА
Зря, просто так обижать человека не надо. Потому что это очень опасно. А вдруг он Моцарт? К тому же ещё не успевший ничего написать, даже " Турецкий марш ". Вы его обидите, он и вовсе ничего не напишет. Не напишет один, потом другой, и на свете будет меньше прекрасной музыки, меньше светлых чувств и мыслей, а значит, и меньше хороших людей. Конечно, иного можно и обидеть, ведь не каждый человек Моцарт, и всё же не надо: а вдруг... Не обижайте человека, не надо. Вы такие же, как он. Берегите друг друга, люди!
Я СНОВА ОДИН

Я снова один. Это мучительно. Это жутко, будущее кажется совсем беспросветным. Удивительно трудно, да не очень-то это ново - быть одному. Нет близкого человека, женщины, которая бы поверила, согрела бы тебя, и уже, наверное, больше не будет. Это горькая истина. А завтра мучительно трудная, каторжная работа, настоящую цену которой знаешь только ты сам. И так ничтожен будет успех, если он только будет; зато как страшно поражение! Мой зритель, я верю в то, что ты должен быть добрым. О чем ты сегодня, сейчас, в этот вечер, думаешь, ты, который завтра придешь меня смотреть? Наверное, уж не обо мне. А если и обо мне, тебе ведь и в голову не придет, как тоскливо, как не хочется жить этому клоуну, как ему одиноко. Да и голодно тоже. Как же так, что любовь и громадная требовательность в любви приводят к разрыву?
Разве тебе придет в голову, что я совсем, понимаешь, абсолютно одинок. Как мне объяснить, что я не могу простить любимой женщине ее обычного человеческого женского прошлого, потому что для меня прошлое, настоящее и будущее моей любимой - это одно, потому что я любил ее в тот день, когда она родилась, и буду любить до дня ее смерти, и все, что с ней произойдет в этот промежуток, касается меня, все я воспринимаю, как если бы это случилось сегодня утром. Не понимаю, ничего не понимаю, не понимаю ваших законов, вашей морали, вашей любви, взрослые! Не знаю, как я буду жить. В вашем мире я жить не смог, а в своем - я совсем один.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 17 Май 2012, 23:27 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | В моей жизни был довольно большой отрезок времени – 12 лет, которые я проработала в рекламном агентстве «Лео Бернетт» (Великобритания) Это было очень счастливое время, поскольку это был не просто сплоченный дружный коллектив - это фактически была одна семья, где работали настоящие профессионалы своего дела. А таких руководителей, которые были у нас, больше не встретить никогда. Они ценили и уважали своих людей и всегда по достоинству оценивали их труд. Так мало того, что они были сами проффи в своем деле, так к тому же они обладали еще и театрально-режиссерскими задатками. Какие устраивались костюмированные вечера – их даже все и вспомнить невозможно! А какие женские праздники придумывали нам ребята – это ж была самая настоящая сказка… А какие праздники молодого сыра или молодого вина проходили у нас… Но всему хорошему когда-то приходит конец: бизнес – вещь жестокая. На смену им пришли другие люди, с которыми очень многие из нас сработаться уже не смогли…
Несмотря на то, жизнь развела нас всех в разные стороны, но то, что было, никто из нас забыть не может, и поэтому каждый год в апреле месяце мы все собираемся в ресторане «Тинькофф».
И это всегда такая радость встречи, такие воспоминания, словно, ничего и не изменилось и завтра вновь мы придем в наш офис…А вот это последняя наша встреча в этом апреле…

Почему я пишу все это? На первом плане вы видите смеющуюся женщину. Ее зовут Лариса Черная. Прекрасный руководитель, высокий профессионал своего дела, кстати, бывший геолог. Волевой характер, мужской склад ума – сколько лет проработала с ней, но даже не могла предположить, что она еще и пишет. И вот некоторые ее рассказы мне захотелось сегодня выложить у себя…
ВЕСНА
В этот первый погожий выходной весенний день Андрей во дворе возился с машиной. Сняв куртку, в одном свитере, в хлопковых рабочих перчатках он менял колеса не торопясь, вдумчиво. Периодически что-то шурудил в багажнике, иногда заглядывал под капот. Как только он снял левое заднее колесо и поставил его в сторонку, он снова увидел эту девушку. Она свободно шла на него в своем коротком пальтишке, в джинсах и улыбалась солнцу, хорошему дню и просто, видимо, веселому настроению. Ее взгляд упал прямо на него, когда он на корточках сидел у колеса. Она приветливо улыбнулась глядя ему в глаза и прошла мимо.
«Сейчас или никогда!» - мелькнула мысль у Андрея. Он резко выпрямился и рванул за ней.
- Девушка, добрый день!
- Добрый день, - приостановилась она, оглядываясь на него и по-прежнему улыбаясь, но уже несколько озадаченно. Он поддался первому импульсу и теперь не знал, что надо говорить:
- Вы меня извините, я вас тут часто вижу. Вы живете здесь? – рискнул Андрей.
- Я вас тут тоже часто вижу, - задорно рассмеялась она и ответила вопросом на вопрос: – Вы, видимо, тоже тут живете?
- Да, я в четвертом подъезде, - несколько смутился он.
- А я в первом, - снова улыбнулась она. И вдруг протянула ему руку: – Маша.
Он протянул свою, потом увидел, что рука в перчатке, лихорадочно попытался ее снять, а рука под перчаткой была грязная. Так он в нерешительности и замер перед Машей с полупротянутой рукой.
Она увидела его замешательство, еще сильнее вытянула свою руку, взяла его кисть и крепко пожала.
- А-Андрей, - почти заикаясь произнес он.
- Андрей? – переспросила она, и после его утвердительного кивка сказала: - Приятно познакомиться.
В любой другой день Андрей после этого уже бы быстро ретировался, но сегодня, видимо, что-то такое витало в воздухе, что он, стоя как приклеенный, набрал в грудь воздуха и внутренне зажмурясь вдруг спросил:
- Маша, а у вас какие планы на сегодня?
- Да уже собственно никаких, я только что закончила все дела…
Андрей понимал, что сейчас надо сказать что-то этакое, чтобы она совсем не ушла, но оглядываясь на свою машину и незаконченные дела, он с ужасом понимал, что не может бросить все в таком виде. Но весенний день – есть весенний день, и на него будто снизошло озарение:
- А может, вы мне поможете управиться с машиной? А после этого мы с вами куда-нибудь сходим. В кафе там, или в кино…
- Я? – искренне удивилась она. – Из меня помощник по машинам никакой вообще-то.
- А ничего делать и не надо – обрадовался Андрей продолжению диалога. – Вы просто посидите рядом. Я вам что-нибудь расскажу, вы мне что-нибудь расскажете. И я так быстрее все закончу и тоже буду свободен.
- Ну что ж, хорошее предложение.
И Маша, развернувшись, подошла к снятому колесу и села рядом с ним на низенькую ограду. Андрей надел перчатку, взял другое колесо и покатил ставить его на машину. Маша спокойно сидела все время, пока он менял колеса, расспрашивала его о машине, рассказывала истории. Андрей отвечал ей на вопросы, внимательно слушал и думал, что нынче удивительно удачный день. Погода, солнце, весна, красивая девушка и он рядом с ней и своей машиной. Все так тихо-спокойно, что хочется, чтобы это еще долго не кончалось. Наконец, все колеса были поставлены, машина закрыта, руки вымыты. Андрей присел рядом с Машей на ограду и произнес:
- Ну вот, теперь и я свободен. Что мы можем делать?
У него самого не было никаких мыслей на этот счет. Он так давно не знакомился с девушками на улице, да практически никогда не знакомился, что не представлял, что можно предложить. Кино-кафе – было как-то банально.
- А давайте пойдем куда-нибудь погуляем. – вдруг предложила Маша. – Сегодня такой хороший день, жалко его просиживать в каком-нибудь душном месте.
- Тогда, может быть, в сквер? – осмелился предложить Андрей.
Сквер был у них рядом. Он был достаточно большой, его границы проходили с двух противоположных сторон по двум крупным магистралям. Но внутри было тихо и уютно. Скамейки, аллеи, детская площадка. Иногда в сквере устраивались небольшие выставки фоторабот или конкурсы рисунков на асфальте. А поскольку был выходной, то скорее всего там что-нибудь такое сегодня было.
В сквере мамочки прогуливались с колясками, бабушки сидел и на лавочках, а на центральной аллее шел детский конкурс «Вылепи весну из пластилина». Андрей в детстве очень любил лепку и поинтересовался, могут ли в конкурсе принять участие взрослые? Оказалось, что нет. Но вне конкурса взрослые могут что-нибудь слепить, и организаторы дали им с Машей коробку пластилина.
- Я совсем не умею лепить, - смутилась она.
- Ну что ж, - первый раз за все время вдруг рассмеялся Андрей. – Значит, сегодня у меня День грязных рук.
- А у меня – День историй, - улыбнулась Маша. И пока, присев на ближайшую скамейку, Андрей что-то лепил, Маша тут же рядом рассказывала ему историю этого сквера, историю их города и истории из своей жизни. Сдав свою работу и остатки пластилина, Андрей с Машей завернули перекусить в ближайшее кафе, потом пошли гулять по улицам города. И Андрей шел и думал, что никогда ему еще не было так легко и хорошо весной, как в этот прекрасный, но ужасно короткий день и, наверное, это и называется счастьем. И даже спустя несколько лет Андрей с Машей любили вместе посидеть на скамеечке в сквере или прогуляться по этим улицам, вспоминая тот счастливый погожий весенний день, когда они вдруг случайно познакомились во дворе собственного дома, и который на долгие годы свел их друг с другом.
***
В погожий весенний выходной день Андрей во дворе занимался машиной. Он снял левое заднее колесо, как вдруг снова увидел эту девушку, которая в своем коротком пальто и джинсах шла мимо него, приветливо улыбаясь. Улыбнулась она и ему. «Сейчас или никогда – мелькнуло в голове Андрея, и сразу же: - Что за чушь! Займись делом». И он покатил другое колесо уже к машине. Девушка прошла мимо. А в сквере на конкурсе поделок из пластилина «Весна» победила миниатюра, на которой одна фигура, мужская, меняла колесо у машины, а вторая, женская, сидела рядом на ограде и, улыбаясь, смотрела на машину и мужчину.
http://desertstone.livejournal.com/25682.html#cutid1
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ…
Помните, раньше сегодняшний день назывался День дурака? Это сейчас его переделали в более политкорректное – День смеха. Меня всегда занимал вопрос – дураком в этот день считают тех, кто устраивает дурацкие шутки или тех, кто их не понимает и не принимает? Никогда не любила этот день. Всегда считала и считаю, что шутить надо не по заказу, а когда есть повод и настроение. И уж совсем точно шутка должна быть доброй, иначе это уже не шутка, а насмешка, и только дураки, действительно, смеются над насмешками. А еще теперь у нас принято считать дураками всех, чьи взгляды и образ жизни отличаются от твоего. Ты не умеешь двигаться вперед, расталкивая всех на своем пути, - ну и дурак. Ты хочешь иметь много детей – дурак. Тебе не нужно много денег, потому что ты их зарабатыванию предпочитаешь занятие любимым делом – совсем дурак!
Если бы такое отношение было только по молодости, то это было бы всем понятно – сами такими были. Но что-то в последнее время, из юношеского возраста вдруг перестали выходить и довольно взрослые дяди и тети, которые теперь считают свою точку зрения единственно верной. Ну да я не совсем об этом. А о том, что по календарному совпадению сегодня оказался еще и День геолога. Геологи всегда отличались некой странностью от остальных. Я конечно же имею в виду геологов по призванию. Люди, предпочитающие общаться с камнями, а не с другими людьми, согласные ездить куда-то подальше от комфорта и дома, отнюдь не за большие деньги, и верящие в дружбу и честность, потому что без этого им не выжить. Этакие романтики в нашем насквозь прожженном мире. Геологи не любят, когда их называют романтиками. И я сейчас открою вам страшную правду – очень многие из них терпеть не могут песни под гитару у костра. И они вовсе не бородаты, особенно женщины. Но как еще можно назвать людей, которые независимо от возраста, своего теперешнего места работы и даже места жительства всегда и везде первое воскресенье апреля считают своим профессиональным праздником. Всегда стараются его отметить и поздравить коллег настоящих или бывших по телефону или интернету. И я, разумеется, не исключение. Делает нас такими время учебы или только такие приходят и остаются учиться этому ремеслу – сие мне неведомо. Но что о себе могу сказать точно – жизнь поворачивается всяко и вынуждает нас делать то, что не хотелось бы – но я очень тоскую по геологии, все те почти пятнадцать лет, что уже не занимаюсь ей. Мне снятся сны о камнях. И я, несмотря на время и утопичность мыслей, всегда мечтаю вернуться к разрезам, колонкам, микроскопу... И сегодня я поздравляю с профессиональным праздником всех причастных и сочувствующих. Пусть нам всегда сопутствует хорошая погода и удача. И пусть мы в глазах других не всегда выглядим нормальными людьми, но именно сегодня наступило наше время. Время собирать камни.
http://desertstone.livejournal.com/25521.html
НЕЗАМКНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Он положил в сумку последнюю футболку и свою бритву. Окинул взглядом всю комнату. И застегнул полупустую сумку. Все, что он мог позволить себе взять, он забрал. Остальное он оставляет здесь. И часть своей жизни тоже. Такси ждало его у дома. По пути к выходу ему никто не встретился. Все специально разошлись, чтобы не видеть его отъезд. В последний раз пройдя мимо своего газона, он решительно открыл дверцу и сел в машину. Мыслями он был уже не здесь, хотя сердце немного подрагивало, и на душе было муторно. На автомате пройдя регистрацию, досмотр, паспортный контроль и посадку, машинально отвечая на какие-то вопросы службы безопасности и работников авиакомпании, он прокручивал в голове последние дни своей жизни. Тяжелые разговоры, разрывающие душу, и робкие мечты, ее согревающие. Откинув голову на подголовник и закрыв глаза, он отпустил себя в мир воспоминаний и грез.
Он видел легкий поворот ее головы и профиль, волнующий своей детскостью и обаянием. Он слышал ее заливистый смех и вспоминал губы в ироничной улыбке. А ее фигура! Ее божественная фигура! Не полная и не худая, крепко сбитая, дышала задором и здоровьем. Он знал, что это здоровье обманчиво, он знал о ней очень много. И он любил ее. Долго пытаясь отказаться от этого чувства, он вытравливал ее из своей памяти, он больше времени проводил с семьей и друзьями, он занимался работой круглые сутки – все это только для того, чтобы не оставаться один на один со своими мыслями. С мыслями о ней. Но человек слаб, а он – человек. И не выдержал.
- Я люблю ее. – Боже, как же было глупо сказать об этом собственной жене. Когда-то любимой и до сих пор близкой и родной женщине, с которой они прожили полжизни. Ему было больно. И он не нашел лучшего выхода, как поделиться этой болью с ней. С той, которая в этом совершенно не виновата.
- Ты любишь ее? – тихо переспросила она.
- Да, больше жизни.
- И даже больше нас? – его голос слегка дрожал, а лицо окаменело.
- Не знаю, наверное. Поверь, я пытался. Я пытался ее забыть. Ты сама видела, я все время был с вами. Я не звонил ей, я не общался с ней, я не видел ее. Но я не смог. Прости.
- Ты уверен? А она? Ты говорил с ней?
- Она ничего не знает. Я просто позвонил ей и сказал, что прилетаю. Она должна меня встретить. Тогда и скажу. Но я знаю, я чувствую, что она меня ждет. И мне кажется, что она меня любит.
- Кажется? – глаза начали становиться влажными – А если это неправда? Если ты ей не нужен? Если она выгонит тебя? Ты уже не сможешь сюда вернуться. Я не могу тебя удержать, но и простить я тебя не смогу. Подумай. Ты готов потерять все ради призрачной надежды?
- Да. Я готов. Поверь, я очень долго думал. Я перестал жить после того как встретил ее. Я все делаю не осознавая. И думаю только о ней. Прости, я не хочу мучить тебя еще больше рассказами о себе. Я не брошу вас. Я готов приезжать, видеться и с тобой, и с детьми. Помогать всем. Во всем. Но мне нужно уехать. К ней. И я не вернусь. При любых раскладах.
- Ты уже все решил. Ты понимаешь, что сделал мне так больно, как никто никогда в жизни не делал? Уезжай. С детьми я поговорю, они уже достаточно взрослые. Пусть пройдет время, и я потом позвоню. Когда мне станет легче. Но пока не звони нам. Я попытаюсь удержаться, чтобы не возненавидеть тебя. Прощай! – жена ушла в спальню, где они провели вместе столько счастливых ночей, и плотно закрыла за собой дверь.
- Я сам поговорю с детьми – произнес он ей в спину.
Он даже представил, как она с размаху бросилась на кровать, и зажав голову в подушку рыдала, пытаясь, чтобы ни один звук не вышел наружу. Тяжесть на сердце и одновременно гора с плеч. Он все сказал, он все решил. Ругая себя такими словами, которые в жизни и в слух-то не произносил, он отправился собирать вещи. Самолет уже шел на посадку, а он все еще пытался представить себе какова будет встреча, и что он сможет сказать той, ради которой бросил все и решил начать все сначала.
Будильник поднял ее в 5 утра. Быстро одевшись, посмотрев в онлайне табло прилетов и выпив чаю, она вышла, завела машину и поехала в аэропорт. Раннее утро воскресенья радовало своими пустыми дорогами, в плеере играл Гару «Я ждал только вас». Она подпевала «je n’attendais que vous, je n’espérais que vous…» и пыталась понять как себя вести при встрече. Его звонок три дня назад совершенно выбил ее из колеи. Она даже не подозревала, что у него есть ее телефон.
- Привет! – раздалось из трубки таким знакомым, но нереально далеким голосом. Боясь ошибиться, она ответила:
- Привет, а это кто?
И ей пришлось сесть, когда она услышала ответ.
- Это я. Я прилетаю в Москву в воскресенье. Встретишь? – и он назвал номер рейса и аэропорт.
- Не вопрос. Конечно. Ты в отпуск или по делам?
- В отпуск по делам – последовал лаконичный ответ.
Она еще раз уверила его, что обязательно встретит. Они попрощались и положили трубки. И тут началось. Ей хотелось плакать и смеяться. Неосознанные и несформированные мысли проносились в ее голове. Где-то между «что делать» и «я его увижу» мелькали «сказать-не сказать», «он один или нет», «надолго ли». Она долго ходила по комнате из угла в угол, а потом на работе была довольно рассеянной, за что не раз пришлось извиняться перед коллегами.
Она любила его. И поняла это сразу, как только увидела. Это был ее мужчина. Сильный, высокий, немногословный. Его красивые руки были созданы, чтобы обнимать ее, а его голос проникал и вызывал вибрации где-то под грудной клеткой. Ни словом, ни взглядом, ни жестом (по крайней мере, она на это очень надеялась) она не показала своих чувств. Старалась быть естественной – ни больше, ни меньше. Он был счастливо женат, а она хоть и свободна, но достаточно порядочна, чтобы не лезть в чужой монастырь. Ни со своим уставом, ни без оного. Просто не лезть. Иногда ей казалось, что он как-то по-другому смотрит на нее, или как-то странно к ней прикасается. Но она списывала это все на недавнее с ним знакомство – вдруг это просто его привычка – и изо всех сил старалась не обращать на это внимание. И только уже после своего отъезда, она дала волю своим чувствам. Она вспоминала каждый его жест и прикосновение, каждый его взгляд и слово, обращенные к ней, его прощальное объятие. Во снах она хотела видеть только его. Ей очень хотелось, чтобы ее чувства были взаимными. И она очень боялась этого, предпочитая жить воспоминаниями и страдать в одиночку. В конце концов – время лечит, только его осталось мало. И другая любовь лечит, - но пока ты любишь, в это совсем не верится. Ей так хотелось, чтобы он появился – в телефоне, в Интернете, в жизни. Но чтобы она делала, если бы он вдруг возник – она не знала. Признаться ему во всем? Зачем? Чтобы потерять даже свои грезы? Все это скопление мыслей и вопросов так мешало ей, что она пыталась не оставаться наедине с собой, или заниматься тем, что ее отвлекает от таких мыслей. И тут его звонок.
Как она пережила эти три дня до выходных? Она и сама бы не вспомнила, что она делала и где была. В голове была только одна мысль: «Он приезжает утром в воскресенье, и я еду его встречать!». Оставив машину на парковке, она поднялась в зал прилета международных рейсов. Как всегда выход заполонили таксисты и встречающие с табличками. Она протиснулась к ограждению, посмотрела на табло (рейс уже приземлился) и стала ждать. Ей очень мешали руки – она не знала куда их деть. То, запихивала их в карманы брюк, то опускала по швам, то складывала в замок. Ей было страшно. И тут она увидела его. Он был один. Он шел из конца коридора такой же, каким она его запомнила. Прекрасный и долгожданный. С небольшой и, видимо, нетяжелой сумкой. «Ненадолго» - подумала она и закрыла руками рот и нос, на глазах против воли выступили слезы, и она вышла к нему из-за заграждения. Он увидел ее, вначале замедлил шаг, как будто все еще не веря, что это она, а потом пошел гораздо быстрее, протягивая к ней руки. Она тоже оторвала свои руки от лица и протянула их к нему ладошками вверх. Он бросил сумку к ее ногам, ударил слегка своими руками по ее ладошкам, и тут же потянул за них, притягивая ее к себе и заключая в объятия. И так, только закинув сумку на плечо, обнимая, он вывел ее из зоны ограждения. Он остановились, он поднял ее голову к себе и начал целовать лоб, щеки, шею. А потом ласково дотронулся до ее губ. Она ответила ему таким же ласковым желанием. Он еще сильнее сжал ее и они, закрыв глаза и забыв обо всем, слились в нежнейшем поцелуе, пытаясь им рассказать о своих чувствах. И все-таки бесконечных поцелуев не бывает. Они чуть-чуть оторвались друг от друга, чтобы перевести дух. Только тут он отстранился, чтобы посмотреть на нее, и увидел слезы.
- Почему ты плачешь?
- Я думала, что никогда тебя больше не увижу. И до сих пор не могу поверить.
- Когда я об этом подумал, то понял, что не смогу этого допустить. Я люблю тебя!
- Мы не можем… Это неправильно…
- Можем! Я все рассказал жене. Я приехал к тебе, чтобы больше не расставаться. Я не могу без тебя.
- Ты все рассказал жене?! Что все?
- Я сказал, что люблю тебя, что не могу без тебя жить и думаю только о тебе.
- И?
- И она меня отпустила. Я так боялся ехать к тебе. Вдруг ты меня не любишь. Вдруг мне все показалось. Но не поехать, чтобы узнать я вообще не мог. Скажи, ты любишь меня? Ты будешь жить со мной? Ты мне так нужна…
В этот момент зазвонил телефон. Но она не могла взять трубку, она должна была сказать ему все, что так долго держала в себе
- Конечно же, я люблю тебя. И всегда любила с момента нашей первой встречи. Но как ты узнал? Я же так пыталась скрыть это. Я так мечтала встретиться с тобой, жить с тобой, любить тебя в открытую, наяву, а не только в снах.
А телефон звонил и звонил. «Мне надо снять трубку» - промелькнуло в голове.
И она открыла глаза. За рассветным окном медленно догорала осень. Телефон звякнул и замолк. «Кто не успел – тот опоздал» - подумала она, окончательно просыпаясь. Сердце колотилось как всегда от неожиданного пробуждения. «Опять это был всего лишь сон» - запоздалое сожаление, и телефон зазвонил вновь. Медленно, нехотя она потянулась за трубкой:
- Алло!
- Ты!.. Он… Ты убила его! Он любил тебя! Он летел к тебе! Ему надо было остаться с нами! – истошный крик незнакомого женского голоса в трубке сорвался на захлебывающиеся рыдания.
- Постойте. Кто это? Вы о ком? – сердце начало вторить коротким гудкам в трубке.
Смутно о чем-то догадываясь, дрожащими руками она шарила под подушкой в поисках пульта от телевизора. В глазах потемнело, а стук сердца перерос в нескончаемый гул в ушах. Потом бесконечные секунды не могла нажать кнопку новостного канала. На экране отображалась бегущая строка. «Самолет Ил-86 , следующий рейсом Мюнхен-Москва, разбился на границе Воронежской и Белгородской областей». Она с облегчением закрыла глаза, руки покрылись холодным потом, а сердце начало успокаиваться. У нее не было знакомых в Мюнхене. И никто из ее близких в последнее время туда не летал.
http://desertstone.livejournal.com/20357.html
ПРОШЛО РОВНО ДВА ГОДА...
Мне не спалось в эту ночь. Мне снились какие-то сумрачные места, непонятные люди и тяжелое ощущение. Я проснулась на полтора часа раньше чем нужно и заснуть уже не смогла. А за 5 минут до будильника мне позвонил брат и сказал, что умер дед. Деда… Я его звала всегда так. Не дед Сергей, как звал его брат, в честь него названный, не дедушка, как обычно зовут внуки свое старшее поколение, а именно деда. Всегда. И в 5 лет, и в 35. А он меня называл Ларочка,дорогая моя внученька. Теперь никто меня уже так не назовет, он был последним… И единственным у меня, так как второй дед умер за месяц до моего рождения. А я была единственной у него. Внученькой. Я была первая его внучка, среди всех потомков, появившихся позже. ОН ругался с моим отцом-своим сыном, когда тот при нем пытался меня воспитывать. Он остужал мне блины, которые только что испекла бабушка, и клал мне на тарелку. Он подкладывал мне разные варенья и сладости к чаю. Кушай, внученька. Расти здоровой. Я помогала ему качать на даче из колонки воду и смотрела, как он курит папиросы, присаживаясь на скамеечку. А еще он курил на балконе. В начале на Ботсаду, потом на Башне. Пойду, покурю, а то уши опухли – это его присказка.
Когда я появилась он был в расцвете лет – ему было слегка за 40. Он работал геологом, в Каргоске, Нефтеюганске, а мы с бабушкой летали к нему на самолетах-вертолетах, смотрели места, где он работает, общались с его коллегами. Он привозил мне с «северов» шубы и валенки, покупал золотые серьги, когда мне было лет 5, а уши я проколола лишь в 18. Он одевал на меня папино сомбреро и шел со мной в булочную за хлебом, и покупал мне там посыпушку или рожок за 5 копеек. Или брал санки и вел кататься с горок в Заельцовский парк. И горка эта заканчивалась у незамерзающего даже в сибирские морозы ручья, в который я очень боялась перевернуться. Но деда всегда меня ловил. А потом я поступила учиться на геолога. Как он гордился! Мы обсуждали с ним профессиональные темы на одном уровне – я юная студентка, и он умудренный опытом, не только в профессии, но и в жизни геолог. А кроме профессиональных тем мы обсуждали политику, спорт, моих родителей, а потом и моего сына, его правнука. Тоже первого. Мы очень давно с ним не виделись. Лет 6. Последнее время он часто болел, а я редко приезжала к родителям. Да и они не хотели меня везти к нему. А, может, он не хотел. Не хотел, чтобы я его видела таким. Ведь он мой деда. Я все это понимала.
Я редко звонила ему, с годами все реже и реже. В последний год мы все понимали, что дело идет к концу. Еще лет 10 назад мы обсуждали с братом, какой у деда молодой голос по телефону.
Позвонив и услышав его в первый раз, я даже испугалась, что не туда попала. А 5 лет назад умерла бабушка. Они давно уже жили отдельно. Но дед ее все равно любил, и меня, наверное, в том числе, потому что я на нее похожа. И деду стало одиноко на земле. Мои родители его навещали, но он вел очень уединенный образ жизни, а последние пару лет вообще перестал выходить из дома.
И голос деда постарел. Но когда я ему звонила, на первое старческое еле слышное хриплое алле и мой возглас Деда здравствуй, он весь приободрялся и говорил уже бодро, расспрашивал про жизнь, работу, правнука. Правда, последнее время говорил о близкой смерти, о том, что он задержался на этой земле, и что уже пора. А мне было очень неловко это слушать. Я не знала и до сих пор не знаю, как реагировать на такие разговоры. Я думаю, он устал куковать один и надеялся там встретить бабушку.
Он перенес 2 инфаркта, задыхался и намаялся перед смертью. Но, Господи, он уже искупил все свои грехи, даже если они у него были. Искупил такой старостью. Пусть же теперь у него все будет хорошо, он встретит бабушку, земля ему будет пухом и он будет спокойно радоваться, глядя на нас оттуда, сверху. А мы постараемся его не огорчать.
Деда, передавай привет бабе Томе. Она уже давно тебя простила. Я рада, что вы там вместе. Ты заслужил свой покой. Я буду помнить тебя. И немного поплачу, потому что стала совсем взрослая, и никто на этой земле уже не назовет меня "дорогая моя внученька".
http://desertstone.livejournal.com/12658.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 21 Май 2012, 22:57 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | А.П. Чехов
"КТО ТАКИЕ ВОСПИТАННЫЕ ЛЮДИ"
«Недостаток же у тебя только один - это твоя крайняя невоспитанность. Воспитанные люди должны удовлетворять следующим условиям. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы... Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам... Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут даже в пустяках. Из уважения к чужим ушам, они чаще молчат. Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в других сочувствие. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями. Делая на грош, они не носятся со своей папкой на 100 рублей. Если они имеют при себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой... Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплёванному полу».
(Из письма брату Николаю)
https://www.vzov.ru/2018/03-05/16.html
Юлия_Михайловна:
А.П. Чехов
"СВЯТОЙ НОЧЬЮ"
Я стоял на берегу Голтвы и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Голтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую из-за густых камышей, теперь же предо мной расстилалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на водной поверхности не редкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потемках на суровые утесы. Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей... Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали всё небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью. В воздухе было тепло и тихо... Далеко, на том берегу, в непроглядной тьме, горело врассыпную несколько ярко-красных огней... В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой, суковатой палкой.
- Как, однако, долго нет парома! - сказал я.
- А пора ему быть, - ответил мне силуэт.
- Ты тоже дожидаешься парома?
- Нет, я так... - зевнул мужик, - люминации дожидаюсь. Поехал бы, да, признаться, пятачка на паром нет.
- Я тебе дам пятачок.
- Нет, благодарим покорно... Ужо на этот пятачок ты за меня там в монастыре свечку поставь... Этак любопытней будет, а я и тут постою. Скажи на милость, нет парома! Словно в воду канул!
Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал: - Иероним! Иерони-им!
Точно в ответ на его крик, с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился. - Христос воскрес! - сказал он. Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным, дрожащим гулом. Около красных огней загорелись новые огни и все вместе задвигались, беспокойно замелькали.
- Иерони-м! - послышался глухой протяжный крик.
- С того берега кричат, - сказал мужик. - Значит, и там нет парома. Заснул наш Иероним.
Огни и бархатный звон колокола манили к себе... Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот наконец, вглядываясь в темную даль, я увидел силуэт чего-то, очень похожего на виселицу. Это был давно жданный паром. Он подвигался с такою медленностью, что если б не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идет к тому берегу.
- Скорей! Иероним! - крикнул мой мужик. - Барин дожидается!
Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке.
- Отчего так долго? - спросил я, вскакивая на паром.
- Простите Христа ради, - ответил тихо Иероним. - Больше никого нет?
- Никого...
Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крякнул. Паром скрипнул и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня, значит, паром поплыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась "люминация", которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоляные бочки. Отражения их, багровые, как восходящая луна, длинными, широкими полосами ползли к нам навстречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня; но далее в стороны и позади них, откуда несся бархатный звон, была всё та же беспросветная, черная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета; она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул, похожий на отдаленное ура.
- Как красиво! - сказал я.
- И сказать нельзя, как красиво! - вздохнул Иероним. - Ночь такая, господин! В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете?
Я сказал, откуда я.
- Так-с... радостный день нынче... - продолжал Иероним слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные. - Радуется и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть?
Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех "продлинновенных", душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил:
- А какие, батюшка, у вас скорби?
- Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь: в самую обедню, во время паремий, умер иеродьякон Николай...
- Что ж, это божья воля! - сказал я, подделываясь под монашеский тон. - Всем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться... Говорят, что кто умрет под Пасху или на Пасху, тот непременно попадет в царство небесное.
- Это верно.
Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались всё более и более.
- И писание ясно указывает на суету скорби, и размышление, - прервал молчание Иероним, - но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется?
Иероним пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро:
- Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай! Даже поверить трудно, что его уж нет на свете! Стою я тут на пароме и всё мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай! Спаси, господи, его душу!
Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне.
- Ваше благородие, а ум какой светлый! - сказал он певучим голосом. - Какой язык благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь в заутрени: "О, любезнаго! о, сладчайшаго твоего гласа!" Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный!
- Какой дар? - спросил я. Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно вверять тайны, весело засмеялся.
- У него был дар акафисты писать... - сказал он. - Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню! Отец архимандрит у нас из московских, отец наместник в Казанской академии кончил, есть у нас и иеромонахи разумные, и старцы, но ведь, скажи пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел, а Николай, простой монах, иеродьякон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал! Чудо! Истинно чудо!
Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением:
- Отец наместник затрудняется проповеди составлять; когда историю монастыря писал, то всю братию загонял и раз десять в город ездил, а Николай акафисты писал! Акафисты! Это не то что проповедь или история!
- А разве акафисты трудно писать? - спросил я.
- Большая трудность... - покрутил головой Иероним. - Тут и мудростью и святостью ничего не поделаешь, ежели бог дара не дал. Монахи, которые не понимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самомалейшей точки. Ну и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру сказать вам, первый кондак везде начинается с "возбранный" или "избранный"... Первый икос завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: "Ангелов творче и господи сил", в акафисте к пресвятой богородице: "Ангел предстатель с небесе послан бысть", к Николаю Чудотворцу: "Ангела образом, земнаго суща естеством" и прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтоб всё было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В богородичном акафисте есть слова: "Радуйся, высото, неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино, неудобозримая и ангельскима очима!" В другом месте того же акафиста сказано: "Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози!"
Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой.
- Древо светлоплодовитое... древо благосеннолиственное... - пробормотал он. - Найдет же такие слова! Даст же господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово и как это у него всё выходит плавно и обстоятельно! "Светоподательна светильника сущим..." -сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем! Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней. "Радуйся, крине райскаго прозябения!" -- сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто "крине райский", а "крине райскаго прозябения"! Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал! Точь-в-точь так! И выразить вам не могу, как он писал!
- Да, в таком случае жаль, что он умер, - сказал я. - Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем...
Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что всё темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.
- Николай печатал свои акафисты? - спросил я Иеронима.
- Где ж печатать? - вздохнул он. - Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает!
- С предубеждением к ним относятся?
- Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братия и полюбопытствовала бы, а то ведь ему еще и сорока лет не было. Были которые смеялись и даже за грех почитали его писание.
- Для чего же он писал?
- Так, больше для своего утешения. Из всей братии только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать...
Иероним оставил канат и подошел ко мне.
- Мы вроде как бы друзья с ним были, - зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. - Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а всё за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно! Теперь я всё равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ всё хороший, добрый, благочестивый, но... ни в ком нет мягкости и деликатности, всё равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют, а Николай говорил завсегда тихо, ласково, а ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка иди комарик. Лицо у него было нежное, жалостное...
Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, двигались люди. Мельканье огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди.
- Сейчас запоют пасхальный канон... - сказал Иероним, - а Николая нет, некому вникать... Для него слаже и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал! Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется: дух захватывает!
- А вы разве не будете в церкви?
- Мне нельзя-с... Перевозить нужно...
- Но разве вас не сменят?
- Не знаю... Меня еще в девятом часу нужно было сменить, да вот, видите, не сменяют!.. А, признаться, хотелось бы в церковь...
- Вы монах?
- Да-с... то есть я послушник.
Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пятачок за провоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром... Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротоптанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину, монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Всё это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма... Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники! По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фырканья не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали святить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали. "Какая беспокойная ночь! - думал я. - Как хорошо!"
Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне. Та же необычайная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские врата во всех приделах открыты настежь, в воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей... Чтений не полагается никаких; пение, суетливое и веселое, не прерывается до самого конца; после каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кадить, что повторяется почти каждые десять минут.
Не успел я занять места, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошел высокий плотный дьякон с длинной красной свечой; за ним спешил с кадилом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и десяти минут, как хлынула новая волна и опять показался дьякон. На этот раз за ним шел отец наместник, тот самый, который, по словам Иеронима, писал историю монастыря. Мне, слившемуся с толпой и заразившемуся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному?
"Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь... - пели на клиросе, - се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя..."
Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества; но ни один человек не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не "захватывало духа". Отчего не сменят Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Всё, что теперь проскальзывало мимо слуха стоявших около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всём храме человека счастливее его. Теперь же он плавал взад и вперед по темной реке и тосковал по своем умершем брате и друге.
Сзади хлынула волна. Полный, улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка. Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая, безвестного сочинителя акафистов. Я прошелся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, заглянул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая; бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение. Этого симпатичного поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, не понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов.
Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть. За оградой уже не было того оживления, какое я видел ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а от смоляных бочек оставались одни только кучки черного пепла. Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспокойство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома, жажда сна и тепла. Теперь я мог видеть реку с обоими берегами. Над ней холмами то там, то сям носился легкий туман. От воды веяло холодом и суровостью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то бричка и десятка два мужчин и женщин. Канат, влажный и, как казалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане.
- Христос воскрес! Больше никого нет? - спросил тихий голос.
Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потемки уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий узкоплечий человек, лет 35, с крупными округлыми чертами лица, с полузакрытыми, лениво глядящими глазами и с нечесаной клиновидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный.
- Вас еще не сменили? - удивился я.
- Меня-с? - переспросил он, поворачивая ко мне свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. - Теперь уж некому сменять до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдут-с.
Он да еще какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, похожей на липовки, в которых продают мед, поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места. Мы поплыли, беспокоя на пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими, тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом чернобровом лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжение всего пути.
В этом продолжительном взгляде было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга.
http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_1886_svaytou_nochyu.shtml
«СТУДЕНТ»
Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел всё время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, - все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.
Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.
- Вот вам и зима пришла назад, - сказал студент, подходя к костру. - Здравствуйте!
Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.
- Не узнала, бог с тобой, - сказала она. - Богатым быть.
Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее всё время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.
- Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, - сказал студент, протягивая к огню руки. - Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!
Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:
- Небось, была на двенадцати евангелиях?
- Была, - ответила Василиса.
- Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били...
Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.
- Пришли к первосвященнику, - продолжал он, - Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...
Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение... Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему - к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.
И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, - ему было только 22 года, - и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.
https://ilibrary.ru/text/979/p.1/index.html

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.Мелькнул ярко, сильно, совсем близко...
- Ну, слава богу! - сказал я с радостью, - близко ночлег!
Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.
- Далече!
Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно, далеко. Свойство этих ночных огней - приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом, - и путь кончен… А между тем - далеко!.. И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек всё стоял впереди, переливаясь и маня, = всё так же близко, и всё так же далеко…
Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет всё в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла… Но всё-таки… всё-таки впереди - огни!..
1900 г.
https://libking.ru/books....ki.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 24 Июл 2012, 22:46 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Халил Джебран
ДУША
...И отделил Бог Богов от сущности своей душу, и создал в ней красоту. И даровал он ей тонкость дуновений зари, и аромат полевых цветов, и нежность лунного света. И протянул он ей кубок радости, сказав: «Никогда не пей из него, если не хочешь забыть прошлое и пренебречь грядущим», и кубок печали, сказав: «Пей из него, и ты постигнешь сущность веселия жизни». И посеял он в ней любовь, которая разлучается с ней при первом вздохе удовлетворенности, и сладость, уходящую с первым произнесенным словом. И низвел он к ней с неба знание, чтобы направить к путям истины. И вложил в глубины ее зрение, видящее невидимое.И создал он в ней чувствительность, которая растекается вместе с фантазией и странствует вместе с призраками. И облек он ее в одеяние страсти, сотканное ангелами из дрожания радуги. Потом вложил в нее мрак смятения – тень света. И взял Бог огонь из горна гнева и вихрь, дующий из пустыни неведения, и песок с берега моря себялюбия, и прах из-под ног веков – и создал человека. И дал ему слепую силу, взрывающуюся при безумии и потухающую перед страстями. Потом вложил в него жизнь – тень смерти. И улыбнулся Бог Богов, и прослезился, и почувствовал любовь, которой нет конца и предела, – и соединил человека с его душой.
ПРЕД ТРОНОМ КРАСОТЫ
Я бежал от толпы и бродил по широкой долине, то выслеживая течение ручейка, то прислушиваясь к щебету птиц. Так я дошел до места, скрытого ветвями от взоров солнца, и сел там, беседуя со своим одиночеством и разговаривая с душой – душой жаждущей, для которой все видимое – только мираж, а все невидимое – утоляющий источник. Когда мое сознание вырвалось из темницы материи в пространство фантазии, я осмотрелся и вдруг увидел девушку-фею, стоявшую подле меня; одежду и украшения заменяли ей виноградная лоза, скрывавшая часть ее стана, и венок из анемонов, скреплявший ее золотистые волосы... Заметив по моим взглядам, что я смущен и растерян, она произнесла: "Я дочь лесов, не пугайся!" Сладость ее голоса вернула мне силы, и я сказал: "Разве подобная тебе может жить в пустыне, где царит уныние и обитают дикие звери? Заклинаю тебя жизнью твоей, скажи мне, кто ты и откуда пришла".
Она села на траву и отвечала: "Я символ природы. Я дева, которой поклонялись твои отцы – воздвигали мне жертвенники и храмы в Баальбеке, Афке и Джубейле".
"Эти храмы, – возразил я, – давно разрушились, и кости моих дедов сравнялись с кожей земли. От следов их божеств и религий не осталось ничего, кроме немногих страниц в недрах книг".
Но она прервала меня: "Есть Боги, живущие жизнью своих почитателей и умирающие с их смертью. А другие живут божественной сущностью, вечной, нетленной. Моя божественная сущность почерпнута из красоты, которую ты видишь, куда ни обратишь свой взор. Красота же – это вся природа. С красоты начиналось счастье для пастуха, бродящего среди холмов, селянина, трудящегося на полях, кочевников, скитающихся меж горами и берегом. Красота была для мудреца лестницей к трону неуязвимой истины».
Биения моего сердца подсказали языку неведомые дотоле слова, и я воскликнул: «Но ведь красота – сила грозная и ужасная!» На губах ее цветком промелькнула улыбка, а во взоре отразились тайны жизни. "Вы, люди, – ответила она, – боитесь всего, даже самих себя. Вы боитесь неба, хотя оно источник мира, боитесь природы, хотя она ложе успокоения, боитесь Бога Богов и приписываете ему зависть и гнев, а он, если не любовь и милосердие, то ничто".
Наступила тишина, наполненная нежными мечтами. Потом я спросил ее: "Что же такое красота? Ведь люди по-разному определяют и познают ее и по-разному прославляют и любят!"
И дочь лесов отвечала: "Красота – то, к чему у тебя есть влечение в душе; то, что ты видишь и хотел бы дать, а не взять; при встрече с красотой ты чувствуешь, как тянутся к ней глубины твоей души. Красота – то, что тела считают испытанием, а души – благодеянием, – это союз между печалью и радостью. Красота – то, что ты видишь, хотя оно скрыто, узнаешь, хотя оно и неведомо, и слышишь, хотя оно немо. Это сила, зарождающаяся в святая святых твоего существа и кончающаяся за пределами твоей фантазии."
И дочь лесов подошла ко мне и положила свою благоуханную руку мне на глаза. Когда она ее отняла, я увидел себя в одиночестве, в той же долине. Я вернулся обратно, а душа моя повторяла слова: "Красота – то, что ты видишь и хотел бы дать, а не взять".
О ЛЮБВИ
Тогда просила аль-Митра: – Скажи нам о Любви. Он поднял голову, посмотрел на народ, и воцарилось молчание. Тогда он сказал громким голосом: – Если любовь путеводит вас, следуйте за ней, хотя дороги ее трудны и тернисты. Если она осенит вас своими крылами, не противьтесь, даже если вас ранит меч, скрытый в ее оперении. И если любовь говорит вам, верьте ей, даже если ее голос рушит ваши мечты, подобно тому как северный ветер опустошает сад. Ибо любовь венчает вас, но она вас и распинает. Она растит вас, но она же и подрезает. Она подымается к вашей вершине и обнимает ваши нежные ветви, трепещущие в солнечных лучах. И она же спускается к вашим корням, вросшим в землю, и сотрясает их. Как снопы пшеницы, она собирает вас вокруг себя. Она обмолачивает вас, чтобы обнажить. Она просевает вас, чтобы освободить от шелухи. Она размалывает вас до белизны. Она месит вас, пока вы не станете мягкими. А потом вверяет вас своему святому огню, чтобы вы стали святым хлебом для святого Божиего причастия. Все это творит над вами любовь, дабы вы познали тайны своего сердца и через это познание стали частью сердца Жизни. Но если, убоявшись, вы будете искать в любви лишь покой и усладу, то лучше вам прикрыть свою наготу и, покинув гумно любви, уйти в мир, не знающий времен года, где вы будете смеяться, но не от души, и плакать, но не всласть. Любовь дает лишь себя и берет лишь от себя. Любовь ничем не владеет и не хочет, чтобы кто-нибудь владел ею, ибо любовь довольствуется любовью.
Если ты любишь, не говори: «Бог – в моем сердце», скажи лучше: «Я – в сердце Божием». И не думай, что ты можешь править путями любви, ибо если любовь сочтет тебя достойным, она будет направлять твой путь. Единственное желание любви – обрести саму себя. Но если ты любишь и не можешь отказаться от желаний, пусть твоими желаниями будут: Таять и походить на бегущий ручей, что напевает ночи свою песню. Познавать боль от бесконечной нежности. Ранить себя собственным постижением любви. Истекать кровью охотно и радостно. Подниматься на заре с окрыленным сердцем и возносить благодарность за еще один день любви. Отдыхать в полдень и предаваться размышлениям о любовном экстазе. Возвращаться вечером домой с благодарностью. И засыпать с молитвой за возлюбленного в сердце своем и с песней хвалы на устах.
О БРАКЕ
Пророк: - ибо лишь рука Жизни может принять ваши сердца. Стойте вместе, но не слишком близко друг к другу,ибо колонны храма стоят порознь, и дуб и кипарис не растут один в тени другого.
Потом вновь заговорила аль-Митра:- Что скажешь ты о Браке, учитель? – спросила она.
И он ответил: – Вы родились вместе и вместе пребудете вечно. Вы будете вместе, когда белые крылья смерти развеют ваши дни. Вы будете вместе даже в безмолвной памяти Божией. Но пусть близость ваша не будет чрезмерной. И пусть ветры небесные пляшут меж вами. Любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи, пусть лучше она будет волнующимся морем между берегами ваших душ. Наполняйте чаши друг другу, но не пейте из одной чаши. Давайте друг другу вкусить своего хлеба, но не ешьте от одного куска. Пойте, пляшите вместе и радуйтесь, но пусть каждый из вас будет одинок, как одиноки струны лютни, хотя от них исходит одна музыка.
Отдавайте ваши сердца, но не во владение друг другу.
ЛИЦА
Я видел лицо – тысяча выражений играли на нем, и другое лицо, которое, словно литое, хранило одно-единственное, застывшее на нем выражение. Я видел лицо, сквозь маску которого проступало таимое под нею уродство, и другое – лишь сняв с него маску, можно было разглядеть, сколь оно прекрасно. Я видел старое лицо, сквозь морщины которого проглядывало ничто, и другое, нежное, в чертах которого запечатлелось все. Я читаю по лицам и прозреваю подлинность, сокрытую в их глубине, потому что смотрю сквозь пелену, сотканную собственными глазами.
КОГДА РОДИЛАСЬ МОЯ ПЕЧАЛЬ
Когда родилась моя Печаль, я заботливо выхаживал ее и оберегал с нежностью и любовью. Моя Печаль росла, как и все живое, росла сильная, прекрасная, исполненная прелести и очарования. И мы с Печалью любили друг друга и любили окружавший нас мир, потому что у Печали было доброе сердце и мое рядом с нею становилось добрее. Когда мы с Печалью разговаривали, наши дни обретали крылья и сновидения обвивали наши ночи, потому что Печаль говорила ярким языком и мой язык становился рядом с нею ярче. Когда мы с Печалью пели, соседи садились у окон послушать нас, потому что наши песни были глубокими, как море, и их мелодии были полны причудливых воспоминаний. Когда мы шли вместе с Печалью, люди провожали нас нежным взглядом и шептали вслед самые ласковые слова. А иной раз посматривали на нас завистливыми глазами, потому что Печаль была благородна и я гордился ею. Но моя Печаль умерла, как умирает все живое, и оставила меня наедине с моими мыслями и раздумьями. И теперь, когда я говорю, слова свинцом падают с губ. Когда я пою, соседи не хотят слушать моих песен. Когда иду по улице, никто даже не взглянет на меня. И только во сне я слышу, как кто-то сочувственно говорит: – Глядите, вот лежит человек, чья Печаль умерла.
А КОГДА РОДИЛАСЬ МОЯ РАДОСТЬ
А когда родилась моя Радость, я взял ее на руки и, взойдя на кровлю дома, вскричал: – Приходите, соседи, посмотрите, что за Радость сегодня родилась у меня! Приходите, люди добрые, поглядите, как она беззаботно веселится и смеется под солнцем! Но, к моему великому изумлению, ни один из соседей не пожелал посмотреть на мою Радость. Семь месяцев подряд каждый день я всходил на кровлю дома и возвещал рождение Радости, однако никто не внимал моим словам. Так мы и жили, я и Радость, в полном одиночестве, и никому не было до нас дела. И вот лицо Радости сделалось бледным и печальным, потому что ничье другое сердце, кроме моего, не восторгалось ее очарованием и ничьи другие губы не касались поцелуем ее губ.
И вот Радость моя умерла – не вынесла одиночества. И теперь я лишь тогда вспоминаю умершую Радость, когда вспоминаю умершую Печаль. Но память – это осенний лист, который, прошелестев на ветру, умолкает навсегда.
«СКАЗАЛ ЛИСТ БЕЛОСНЕЖНОЙ БУМАГИ...»
Сказал лист белоснежной бумаги: – Чистым я сотворен и пребуду чистым вовеки. Пусть лучше меня сожгут и обратят в белесый пепел, чем я позволю чему-то темному или нечистому даже близко ко мне подойти, не то что прикоснуться!
Чернильница слышала, что говорила бумага, и в черном сердце своем смеялась над ней, однако приблизиться так и не посмела. Слышали ее и цветные карандаши, но подступить к ней тоже не отважились. И остался белоснежный лист бумаги чистым и неиспорченным навсегда – чистым и неиспорченным – и пустым.
http://svitk.ru/004_boo....0752524
Сергей Уткин
"ПРО МАРТ, НЕ УЗНАВШИЙ МЕНЯ"
Март застал меня в деревне. Заглянул, пролетая каплями талой воды с крыши, в окно дома и увидел, как я сижу в кресле возле книжного шкафа в гостиной в обществе приятной музыки. Кто доносился до этого светлого дня в ее звуках? Гений И.Шварца, подладивший свою музыку к стихам Пушкина, Бунина и Окуджавы. Все это литературное великолепие прошлого звучало голосом Олега Погудина.
Так мне казался понятным пришедший за нами март, а ему, марту, судя по веселой беззаботной капели, виделся понятным и ясным в своих раздумьях я. Но он, кажется, не заметил, как октябри и декабри изменил меня. Я узнаю март по походке времени, по его разбегающемуся ходу. Но надеюсь немного, что он не узнает меня и оставит в покое, не вторгаясь с шумом ручьев в мой внутренний монолог. Как пелось в одной давней песне: «Don’t bother me!» Вот и я прошу март не отвлекать меня от дела, от дум визгливым вороньем и птичьим гамом, суетным провинциальным грязным рынком, болтовней взбудораженных школьников. Пусть он, март, пройдет стороной и убежит потоками воды вдаль, неся весну в другие края и земли. Там, где его встретят другой музыкой...
http://www.darial-online.ru/2019_3/utkin.shtml
ИСКРЕННОСТЬ
Искренность – вот начало и конец совершенствования (Лао-цзы)
Он не слышал звука голосов, но видел самого себя и своего давнего врага, который из года в год приходил в тяжелых снах… Как и всегда, они о чем-то долго спорили, готовые убить друг друга, но потом что-то произошло… и они примирились…Враг шагнул из тени к нему навстречу … и вдруг самурай увидел лицо своего врага – это был он сам. Это было столь явственно, что самурай проснулся, но остался целиком под впечатлением сна. Видение не отпускало его и днем, словно в его сознании продолжалась какая-то тонкая внутренняя работа. Некоторые вопросы мучили его давно. Вероятно, есть вечные вопросы, которые будут волновать человека, заставлять страдать до тех пор, пока он жив. Самурай остро чувствовал, что высшие идеалы далеки от мира людей, как Небо от Земли: всегда рядом и всегда недостижимо далеко…Людям очень трудно преодолеть некоторую двойственность, заложенную в них: их поступки редко соответствуют идеальному, это также трудно, как художнику найти единственно верную линию или поэту нужное слово. Стремление к идеальной форме всего что делаешь – есть Буси-До… искусство жить подобное поэзии. Самурай стремился к осознанности всех поступков и мыслей, он повторял себе: «Сделай волевое усилие, заставь идеи не скользить по поверхности мыслей-образов, а заходить вглубь тебя. Продолжай размышлять, пытать себя мыслями до тех пор, пока не придет ответ».
В глубокой задумчивости самурай стал растирать тушь в маленькой коробочке. В его душе всегда шла какая-то изнурительная борьба… и вдруг этот сон принес какое-то непонятное умиротворение или, скорее, догадку, обещающую его принести. Часто ему казалось, что в нем живут два существа. Одно внешнее, словно оболочка. Оно ходит, говорит, участвует в каком-то движении кукол. Другое смотрит на все происходящее словно изнутри, откуда-то очень издалека. И это другое существо пытается вступить в контакт.Самурай взял в пальцы кисть и, обмакнув ее в тушь, единым росчерком, не думая в этот миг ни о чем, написал на тонкой рисовой бумаге то, что само собой выплеснулось из глубин его души… Это было слово «Искренность». Озарение пришло: именно понятие «Искренность» – есть ключ к давно мучившим его вопросам. Искренность превыше всего! Эта мысль дала сильнейший толчок его сознанию, и его мысли заработали быстро и слаженно, как трудолюбивые строители, получившие, наконец, план строительства здания…
Искренность избавляет нас от двойственности, от всего, что на самом деле не нужно… Искренность пробуждает голос совести и срывает фальшивые маски. Если в нас горит огонь искренности, нам уже не нужно думать о том, что хорошо или плохо, потому что душа сама указывает нам что должно делать... Истину можно услышать, но нельзя заставить замолчать. И следование идеалам Искренности неминуемо приводит в опасное состояние Чистоты, в котором не может быть компромисса. Жизненный путь становится подобен лезвию меча… Но только так мы обретаем способность чувствовать Жизнь, видеть Красоту, постигаем гармонию и обретаем способность любить. Лишь так мы обретаем способность Жить, а не существовать… Ведь самое невыносимое для человека – это жизнь вне равновесия с миром, когда теряется гармония отношений с окружающим. Равновесие с миром, самим собой достижимо лишь тогда, когда чувствуешь, что живешь и поступаешь правильно, когда совесть чиста и спокойна, когда ты искренен в своих мыслях и поступках. Это и есть самое возвышенное Бытие.
Путь Искренности дает нам возможность обрести внутреннее спокойствие и равновесие с миром. Лишь на этом Пути мы прозреваем и обретаем способность видеть истинную Реальность, скрытую от нас за пеленой иллюзий…Человек, почувствовавший Путь в своей душе, не отступит от него, потому что без Пути жизнь теряет смысл. Он страшится лишь одного – лишиться Благодати, лишиться сопричастности, сокровенной связи с Высшим Миром, который и называется Путь. Благодать исчезает тотчас, как идущий потеряет искренность, когда умолкнет голос совести и притупится чувствительность к происходящему. Реальность исчезает за пеленой иллюзии, Целостность рассыпается в мозаику бесконечных «маленьких дверей», к которым бесполезно искать ключи… Врата Реальности всегда рядом, но чтобы войти в них, необходима искренность… Искренность – вот начало и конец совершенствования…
А.Р. Басов
http://www.mysenses.ru/john-do....tp
Джон Кехо
ПОДСОЗНАНИЕ МОЖЕТ ВСЕ
Ваш мозг подобен саду, за которым можно ухаживать, а можно и запустить его. Вы - садовник и можете взрастить свой сад, или оставить его в запустении. Но знайте: вам придется пожинать плоды либо своего труда, либо собственного бездействия!
БЫТЬ ИСКРЕННИМ
Если вы говорите правду, вам не нужно ничего помнить.
(Марк Твен)
Для того чтобы управлять своими чувствами, их первым делом нужно принять. Впустить в свою реальность, в самое ядро своей реальности. Осознать их частью себя. И только тогда мы сможем получить контроль над чем-то в самом себе. Даже самое нежеланное и негативное свое проявление мы сможем контролировать, признав себя таковым. А это требует искренности в первую очередь перед самим собой. Быть искренним перед самим собой, значит проявить достаточно большую силу духа. На этом пути у нас есть один барьер, это страх социального неодобрения и осуждения. Это подавление внешней среды, которое мы всячески стараемся избежать. Вспомните себя, как вы действовали в экстремальных ситуациях? Вы отбросили страх осуждения и проявляли свое состояние по необходимости. Кто учил вас, как следует вести себя, чтобы отстоять свои позиции перед лицом опасности? Кто учил вас доказывать свою правоту, когда вас довели до предела? Кто учил вас, как очаровывать своего избранника и делать это так мастерски словно вы занимаетесь этим всю жизнь? Кто учит нас быть таким родителем, которого любят дети, а не боятся? Кто учит вас, как общаться в коллективе, чтобы быть душой компании? Ответ - никто. Вами руководило ваше искренне проявление своих чувств и эмоциональное состояние, которое в тот период времени вы испытывали.
Задумайтесь, неужели ваше истинное лицо уродливо, и ваша естественная реакция отвратительна? Почему мы не можем позволить себе быть искренними и естественными? Почему нам легче казаться, чем быть искренним? Мы проявляем свою активность и только лишь в том случае, когда мы действуем, искренне выражая то, что на самом деле испытываем, мы получаем результат. Нас воспринимают такими какими мы есть на самом деле. С нами тогда легко и у нас тогда получается просто. Мы выражаем свое настоящее эмоциональное состояние. В тот момент, когда мы влюбились в кого-то, и преодолев свою нерешительность очаровали избранника, мы были во власти чувств и действовали исходя из нашего эмоционального состояния. Не по технологии какого-то чудо-ловеласа обольщения, а по наитию. Тут не помогают никакие навыки, особенно с теми людьми, которые для нас имеют огромное значение. Навыки рождают неискренность, а это сразу читается.
В тот момент, когда вы стали центром настроения в коллективе, высказав колкую но безобидную шутку, вы действовали исходя из собственного эмоционального состояния, которое струилось через вас на всех и каждого. Это искреннее проявление себя, а не анекдот, который по технологии нужно рассказать во второй фазе общения. В тот момент когда ребенок искренне подошел и обнял вас с огромной глубиной чувств и безмерной радостью на душе, вы наверняка поступили исходя из того состояния, которое искренне вырывалось из вас, а не по методике супер-педагога. В искусстве быть родителем, как и в искусстве управления людьми, важно не то что мы делаем, а каковы мы есть!
Максим Невенчанный
http://em-razum.org/publika....
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 08 Окт 2012, 18:50 | Сообщение # 7 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Константин Паустовский

БУНТ ГЕРОЕВ
В старое время, когда люди переезжали с квартиры на квартиру, для переноски вещей нанимали иногда арестантов из местной тюрьмы. Мы, дети, всегда ждали появления этих арестантов со жгучим любопытством и жалостью. Арестантов приводили усатые надзиратели с огромными револьверами «бульдогами» на поясах Мы во все глаза смотрели на людей в серой арестантской одежде и серых круглых шапочках. Но почему-то с особенным уважением разглядывали мы тех арестантов, у которых были подвязаны ремешком к поясу звенящие тонкие кандалы. Все это было очень таинственно. Но самым удивительным казалось то обстоятельство, что почти все арестанты оказывались обыкновенными изможденными людьми и до того добродушными, что никак нельзя было поверить, что они злодеи и преступники. Наоборот, они были не то что вежливы, а просто деликатны и больше всего боялись кого-нибудь ушибить при переноске громоздкой мебели или что-нибудь поломать.
У нас, детей, по соглашению со взрослыми, был выработан хитрый план. Мама уводила надзирателей на кухню пить чай, а мы в это время торопливо засовывали в карманы арестантам хлеб, колбасу, сахар, табак, а иногда и деньги. Их нам давали родители. Мы воображали, что это рискованное дело, и были в восторге, когда арестанты благодарили нас шепотом, подмигивая в сторону кухни, и перепрятывали наши гостинцы подальше, во внутренние тайные карманы. Иногда арестанты незаметно давали нам письма. Мы наклеивали на них марки и потом шли всей гурьбой бросать в почтовый ящик. Перед тем как бросить письмо в ящик, мы оглядывались - нет ли поблизости пристава или городового? Как будто они могли доедаться, какое письмо мы отправляем. Среди арестантов я помню человека с седой бородой. Его называли старостой. Он распоряжался переноской вещей. Вещи, особенно шкафы и пианино, застревали в дверях, их трудно было развернуть, а иногда они никак не становились на предназначенное для них новое место, сколько арестанты с ними ни бились. Вещи явно сопротивлялись. В таких случаях староста говорил по поводу какого-нибудь шкафа: -Ставьте его там, где ему хочется. Что вы его мордуете! Я 5 лет перевожу вещи и ихний характер знаю. Раз вещь стоять здесь не желает, так сколько на нее ни жми - не уступит. Поломается, а не уступит.
Я вспомнил об этой сентенции старого арестанта в связи с писательскими планами и поступками литературных героев. В поведении вещей и этих героев есть что-то общее. Герои часто вступают в борьбу с автором и почти всегда побеждают его. Но разговор об этом еще впереди. Конечно, почти все писатели составляют планы своих будущих вещей. Некоторые разрабатывают их подробно и точно. Другие - очень приблизительно. Но есть писатели, у которых план состоит всего из нескольких слов, как будто не имеющих между собой никакой связи. И только писатели, обладающие даром импровизации, могут писать без предварительного плана. Из русских писателей таким даром обладал в высокой степени Пушкин, а из современных нам прозаиков - А.Н. Толстой. Я допускаю мысль, что писатель гениальный тоже может писать без всякого плана. Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций. Молодой Чехов сказал Короленко: - Вот у вас стоит на столе пепельница. Хотите, я напишу сейчас же о ней рассказ. И он бы написал его, конечно. Можно представить себе, что человек, подобрав на улице измятый рубль, начнет с этого рубля свой роман, начнет как бы шутя, легко и просто. Но вскоре этот роман пойдет и вглубь и вширь, заполнится людьми, событиями, светом, красками и начнет литься свободно и мощно, подгоняемый воображением, требуя от писателя все новых жертв, требуя, чтобы писатель отдавал ему драгоценные запасы образов и слов. И вот уже в повествовании, начавшемся со случайности, возникают мысли, возникает сложная судьба людей. И писатель уже не в силах справиться со своим волнением. Он, как Диккенс, плачет над страницами своей рукописи, стонет от боли, как Флобер, или хохочет, как Гоголь.
Так в горах от ничтожного звука, от выстрела из охотничьего ружья начинает сыпаться по крутому склону блестящей полоской снег. Вскоре он превращается в широкую снежную реку, несущуюся вниз, и через несколько минут в долину срывается лавина, сотрясая грохотом ущелье и наполняя воздух искристой пылью. Об этой легкости возникновения творческого состояния у людей гениальных и к тому же обладающих даром импровизации упоминают многие писатели. Недаром Баратынский, хорошо знавший, как работал Пушкин, сказал о нем:
Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Все под пером своим шутя животворящий…
Я упомянул о том, что некоторые планы кажутся набором слов. Вот небольшой пример. У меня есть рассказ «Снег». Перед тем как написать его, я исписал лист бумаги, и из этих записей и родился рассказ. Как же выглядят эти записи?
«Забытая книга о севере. Основной цвет севера - фольга. Пар над рекой. Женщины полощут белье в прорубях. Дым. Надпись на колокольчике у Александры Ивановны: „Я вишу у дверей, - звони веселей!“ „И колокольчик, дар Валдая, звенит уныло под дугой“. Их зовут „дарвалдаями“.
Война. Таня. Где она, в каком глухом городке? Одна. Тусклая луна за облаками, - страшная даль. Жизнь сжата в небольшой круг света. От лампы. Всю ночь что-то гудит в стенах. Ветки царапают о стекла. Мы очень редко выходим из дома в самую глухую пору зимней ночи. Это надо проверить… Одиночество и ожидание. Старый недовольный кот. Ему ничем нельзя угодить. Все как будто видно - даже витые свечи (оливковые) на ролле, но пока что ничего больше нет. Искала квартиру с роялем (певица). Эвакуация. Рассказ об ожидании. Чужой дом. Старомодный, по-своему уютный, фикусы, запах старого табака Стамболи или Месаксуди. Жил старик и помер. Ореховый письменный стол с желтыми пятнами на зеленом сукне. Девочка. Золушка. Нянька. Больше пока никого нет. Любовь, говорят, притягивает на расстоянии. Можно написать рассказ только об ожидании. Чего? Кого? Она сама не знает этого. Это разрывает сердце. На пересечении сотен дорог случайно сталкиваются люди, не зная, что вся их прошлая жизнь была подготовкой к этой встрече. Теория вероятности. Применительно к человеческим сердцам. Для дураков все просто. Страна тонет в снегах. Неизбежность появления человека. От кого-то все приходят на имя умершего письма. Их складывают стопкой на столе. В этом - ключ. Какие письма? Что в них? Моряк. Сын. Страх перед тем, что он приедет. Ожидание. Нет предела доброте ее сердца. Письма превратились в действительность. Снова витые свечи. В ином качестве. Ноты. Полотенце с дубовыми листьями. Рояль. Березовый дым. Настройщик, - все чехи хорошие музыканты. Закутанный до глаз. Все ясно!»
Вот то, что можно с большой натяжкой назвать планом этого рассказа. Если прочесть эту запись, не зная рассказа, то станет понятно, что это хотя и медленное и неясное, но упорное нащупывание темы и сюжета. Что же происходит с самыми точными, продуманными и выверенными писательскими планами? Правду сказать, жизнь у них большей частью короткая. Как только в начатой вещи появляются люди и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться плану и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей внутренней логике, толчок для которой дал, конечно, писатель. Герои действуют так, как это соответствует их характеру, несмотря на то, что творцом этих характеров является писатель. Если же писатель заставит героев действовать не по возникшей внутренней логике, если он силой вернет их в рамки плана, то герои начнут мертветь, превращаясь в ходячие схемы, в роботов. Эту мысль очень просто высказал Л.Толстой. Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он жестоко поступил с А.Карениной, заставив ее броситься под поезд. Толстой улыбнулся и ответил: - Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он сказал какому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее».
То же самое и я могу сказать про А.Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы! Они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется. Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом разгаре работы, - говорил А.Н. Толстой, - не знаю, что скажет герой через 5 минут. Я слежу за ним с удивлением». Случается, что второстепенный герой вытесняет остальных, сам становится главным, поворачивает весь ход повествования и ведет его за собой. Вещь по-настоящему, со всей силой, начинает жить в сознании писателя только во время работы над ней. Поэтому в ломке и крушении планов нет ничего особенного и ничего трагического. Наоборот, это естественно и свидетельствует только о том, что подлинная жизнь прорвалась, заполнила писательскую схему и раздвинула, и сломала своим живым напором рамки первоначального писательского плана. Это ни в коей мере не опорочивает план, не сводит роль писателя лишь к тому, чтобы записывать все по подсказке жизни. Ведь жизнь образов в его произведении обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, всем его внутренним строем.
РОДНИК В МЕЛКОЛЕСЬЕ
Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск. Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики. Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света. Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова. Аквамарин считается по своему имени (аква марин - морская вода) камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совершенно серебряным (именно серебряным, а не белым) огнем. Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд. Очевидно, эти цветовые и световые его особенности и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота нам все же кажется необъяснимой. Сравнительно легко объяснить происхождение «поэтического излучения» многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием.
Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как «зарница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии. Конечно, это ощущение слов очень субъективно. На нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так я воспринимаю и слышу это слово. Но я далек от мысли навязывать это восприятие другим. Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой. Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. Для всего, что существует в природе, — воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав, - в русском языке есть великое множество хороших слов и названий. Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий словарь, у нас есть, помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, А.Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и мн. др. писатели, главный и неиссякаемый источник языка - язык самого народа, язык колхозников, паромщиков, пастухов, пасечников, охотников, рыбаков, старых рабочих, лесных объездчиков, бакенщиков, кустарей, сельских живописцев, ремесленников и всех тех бывалых людей, у которых что ни слово, то золото.
Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником. Мне кажется, что я где-то уже рассказывал об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придется повторить старый рассказ. Он имеет значение для разговора о русской речи. Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото, потом оно высохло, заросло, и сейчас о нем напоминал только глубокий, вековой мох, небольшие окна-колодцы в этом мху да обилие багульника. Я не разделяю распространенного пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много прелести. Юные деревца всех пород - ель и сосна, осина и береза - растут дружно и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице. Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашел черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелек и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и милы. Кое-где во мху, как я уже говорил, попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца все время подымается тихая струя и в ней вертятся сухие листики брусники и желтые сосновые иглы. Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. Она попахивала скипидаром.
- Родник! - сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошел на дно неистово барахтавшийся жук. - Должно, Волга тоже начинается из такого оконца?
- Да, должно быть, - согласился я.
- Я большой любитель разбирать слова, - неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся. - И вот, скажи на милость! Бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя.
Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил:
- Вы, говорят, вроде книги пишете?
- Да, пишу.
- Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот как ни прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по лесу, перебираешь в голове слово за словом, и так их прикинешь и этак: откуда они взялись? Да ничего не получается. Познаний у меня нет. Не обучен. А бывает, найдешь слову объяснение и радуешься. А чему радоваться? Мне не ребят учить. Я лесной человек, простой обходчик.
- А какое слово к вам привязалось сейчас? - спросил я.
- Да вот этот самый родник. Я это слово давно приметил. Все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется-течет через всю нашу матушку землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит, - родник, родина, народ. И все эти слова как бы родия между собой. Как бы родня! -повторил он и засмеялся. Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка. Весь многовековый опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах.
ЯЗЫК И ПРИРОДА
Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины. Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России - лето, обильное грозами и радугами. Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами. В это лето я узнал наново - на ощупь, на вкус, на запах - много слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов. Какие же это слова? Их так много, что неизвестно даже, с каких слов начинать. Легче всего, пожалуй, с «дождевых».
Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами - полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни). Но одно дело - знать умозрительно, а другое дело - испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей. Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке. Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя. Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними. Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать. В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста. Но вернемся к дождям.
С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями - все это приметы дождя. А незадолго перед дождем, хотя еще и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились. Но вот начинают крапать первые капли. Народное слово «крапать» хорошо передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах. Потом дождь расходится. Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождем. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы. Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково - дождиком. «Дождик собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает». Разберемся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это помогает писателю безошибочно им пользоваться. Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?
Слово «спорый» означает - быстрый, скорый. Спорый дождь льется отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом. Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг. При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает. А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой. Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы - липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки. Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берет хитрая и осторожная рыба -плотва. О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне! Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков - от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряженного гула, когда дождь льет, как говорится, стеной.
Все это - только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. Но и этого довольно, чтобы возмутиться словами одного писателя, сказавшего мне с кислой гримасой: - Я предпочитаю живые улицы и дома вашей утомительной и мертвой природе. Кроме неприятностей и неудобств, дождь, конечно, ничего не приносит. Вы просто фантазер!
Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений! Летние грозы проходят над землей и заваливаются за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась. Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья. Радуги сверкают над дымной, сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, рокочет, встряхивает землю. Недавно в деревне один маленький мальчик пришел во время грозы ко мне в комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал: - Пойдем смотреть грома! Он был прав, сказав это слово во множественном числе: гроза была обложная, и гремело сразу со всех сторон. Мальчик сказал «смотреть грома», и я вспомнил слова из «Божественной комедии» Данте о том, что «солнца луч умолк». И тут и там было смещение понятий Но оно придавало резкую выразительность слову.
Я уже упоминал о зарнице. Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверие, что зарницы «зарят хлеб», - освещают его по ночам и от этого хлеб наливается быстрее. Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» - одно из прекраснейших слов русского языка. Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе. В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода. В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки. Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце.
Осенние зори иные - хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться, все равно не отогреешь озябшую землю и не вернешь убывающий солнечный свет. Все никнет, только человек не сдается. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотается над селами и стелется по земле. А потом, глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам. Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия - закат солнца и вечернюю зарю. Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему множество красок - от червонного золота до бирюзы и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь. Кричат в кустах коростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами. Северные белые ночи, летние ночи Ленинграда - это непрерывная вечерняя заря или, пожалуй, соединение двух зорь, вечерней и утренней. Никто не сказал об этом с такой поразительной точностью, как Пушкин:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате своей.
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц и свет
ла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская мглу ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Эти строки - не только вершины поэзии. В них не только точность, душевная ясность и тишина. В них еще все волшебство русской речи. Если бы можно было представить, что исчезла бы русская поэзия, что исчез бы самый русский язык, а остались от него только эти несколько строк, то и тогда богатство и певучая сила нашего языка были бы ясны каждому. Потому что в этих стихах Пушкина собраны, как в магическом кристалле, все необыкновенные качества нашей речи. Тот народ, который создал такой язык, - поистине великий и счастливый народ.
ГРУДЫ ЦВЕТОВ И ТРАВ
Не только лесник искал объяснения слов. Ищут их многие люди. И не успокаиваются, пока не находят. Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах у С.Есенина:
И меня по ветряному свею,
По тому ль песку
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.
Я не знал, что значит «свей», но чувствовал, что в этом слове заложено поэтическое содержание. Это слово как бы само по себе излучало его. Я долго не мог узнать значение этого слова, а все догадки ни к чему не приводили. Почему Есенин сказал «ветряный свей»? Очевидно, это понятие было как-то связано с ветром. Но как? Узнал я смысл этого слова от писателя-краеведа Юрина. Он был придирчиво-любопытен ко всему, что имело хотя бы малейшее отношение к природе, укладу жизни и истории Средней России. Этим он напоминал тех знатоков и любителей своего края, кропотливых исследователей и собирателей по зернышкам и по капелькам всяких интересных черт из краевой, а то и из районной, географии, флоры, фауны и истории, что еще сохранились по маленьким российским городам.
Юрин приехал ко мне в деревню, и мы пошли с ним в луга, за реку. Мы шли к мостушкам по чистому речному песку. Накануне был ветер, и на песке, как всегда бывает после ветра, лежала волнистая рябь.
- Вы знаете, как это называется? - спросил меня Юрин и показал на песчаную рябь.
- Нет, не знаю.
- Свей. Ветер свевает песок в эту рябь. Потому и такое слово.
Я обрадовался, как, очевидно, радовался лесник, когда находил разъяснение слову. Вот почему Есенин написал «ветряный свей» и упомянул про песок («по тому ль песку…».) Больше всего я был рад, что это слово выражало, как я и предполагал, простое и поэтическое явление природы. Родина Есенина - село Константиново было недалеко за Окой. В той стороне всегда садилось солнце. И мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за Окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не то туман, не то синеватый дымок с лесных гарей. В этих, как будто безлюдных лугах было у меня много всяких случаев и неожиданных встреч.
Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими, крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. Озеро обступили старые ивы и осокори. Поэтому на нем всегда было безветренно и сумрачно, даже в солнечный день. Сидел я у самой воды, в таких крепких зарослях, что сверху меня совершенно не было видно. По краю берега цвели желтые ирисы, а дальше в иловатой, но глубокой воде все время струились со дна пузырьки воздуха, - должно быть, караси копались в иле, отыскивали пищу. Наверху, надо мной, где по пояс стояли цветы, деревенские дети собирали щавель. Судя по голосам, там было три девочки и маленький мальчик. Две девочки изображали в разговорах между собой многодетных деревенских женщин. Каждая, должно быть, подражала своей матери. Это у них была такая игра. Третья девочка все помалкивала и только запевала тоненьким голосом:
Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица дочь..
Дальше она слов не знала и, помолчав, снова заводила свою песню о воздушной тревоге.
- Трявога, трявога! - сердито сказала девочка с хрипловатым голосом. - Маешься цельный день, чтобы в школу их определить, всю эту ораву, всю братию, а чему они в школе научаются? Слово сказать и то не умеют по-людски! «Тревоги» надо говорить, а не «трявоги!» Вот скажу отцу, он тебя проучит.
- А мой Петька анадысь, - сказала другая девочка, - двойку приволок. По арифметике. Уж я его утюжила-утюжила. Аж руки замлели.
- Врешь ты все, Нюрка! - сказал басом маленький мальчик. - Петьку маменька утюжила. И то чуть.
- Ишь, сопливый! - прикрикнула Нюрка. - Разговаривай у меня!
- Слушайте, девочки! - радостно воскликнула хрипловатая. - Ой, что я вам сейчас расскажу! Где-то тут около Птичьего брода растет куст. Как ночь, так он весь, до самой макушки, как почнет гореть синим огнем! Как почнет! И так горит и не сгорает до самой зари. А подойти к нему страшно.
- А чего ж он горит, Клава? - испуганно спросила Нюрка.
- Клад показывает, - ответила Клава. - Клад под ним закопан. Золотой карандашик. Кто возьмет тот карандашик, напишет свои горячие желания - они тут же и сбудутся.
- Дай! - требовательно сказал мальчик.
- Чего тебе дать?
- Карандашик!
- Отвяжись ты от меня!
- Дай! - крикнул мальчик и неожиданно заревел противным, оглушительным басом. - Дай карандашик, дурная!
- Ах, ты так? - крикнула Нюрка, и тотчас же раздался звонкий шлепок. - Несчастье мое! На что я тебя породила!
Мальчик непонятно почему, но сразу затих.
- А ты, милая, - сказала Клава притворным, сладеньким голосом, - не бей ребятишек своих. Недолго и паморки отбить. Ты вот как я действуй - учи их разуму. А то вырастут обалдуи - ни себе, ни людям никакой корысти.
- Чему его учить-то? - с сердцем ответила Нюрка. - Попробуй поучи его! Он те дасть!
- Как не поучить! - возразила Клава. - Их всему надо учить. Вот увязался за нами, скулит, а кругом, гляди, один цвет не похож на другой. Их тут сотни, этих цветов. А что он знает? Ничегошеньки он не знает. Даже как зовется вот этот цвет - и то не знает.
- Курослеп, - сказал мальчик.
-Да не курослеп это, а медуница. Сам ты курослеп!
- Мядуница! - даже с некоторым восхищением повторил мальчик.
- Да не «мядуница», а «медуница». Скажи правильно.
- Мядуница, - поспешно повторил мальчик и тут же спросил: - А это какой, розовый?
- Это мята. Повтори за мной: мята!
- Ну, мята, - согласился мальчик.
- Ты не нукай, а чисто за мной повторяй. А вот это таволга. Такая пахучая-пахучая! Такая нежная-пренежная! Хочешь, сорву?
Мальчику, видимо, понравилась эта игра. Он, посапывая, добросовестно повторял за Клавой названия цветов. А она так ими и сыпала: - Вот, глянь, это подмаренник. А это купава. Вот та, с белыми колокольцами. А это кукушкины слезки.
Я слушал и только удивлялся. Девочка знала множество цветов. Она называла дрему, ночную красавицу, гвоздику, пастушью сумку, копытень, мыльный корень, шпажник, валерьяну, чебрец, зверобой, чистотел и много других цветов и трав. Но этот удивительный урок ботаники был неожиданно сорван.
- Я обстрекалси-и-и! - вдруг густо заревел мальчик. - Куды вы меня завели, дурные?! В самые колючки! Теперь я домой не дойду!
- Эй, девчонки! - крикнул издали стариковский голос. - Вы чего малого обижаете?
- Да он, дед Пахом, сам обстрекалси! - крикнула в ответ поборница чистого произношения Клава и добавила вполголоса: - У-у-у, бессовестный! Ты сам всякого изобидишь!
Слышно было, как к детям подошел старик. Он заглянул вниз, на озеро, увидел мои удочки и сказал: - Тут человек рыбу лавит, а вы калган подняли на весь свет. Мало вам, что ли, лугов!
- Где лавит? - поспешно спросил мальчик. - Пусть мне дасть поудить!
- Куда полез! - крикнула Нюрка. - Еще сорвешься в воду, неслух окаянный!
Дети вскоре ушли, и я их так и не видел. А старик постоял на берегу, подумал, деликатно покашлял и спросил неуверенным голосом: - У вас, гражданин, покурить не найдется?
Я ответил, что найдется, и старик со страшным шумом, цепляясь за петли ежевики, срываясь на откосе и чертыхаясь, спустился ко мне за папироской.
Старик оказался щуплый, маленький, но с огромным ножом в руке. Нож был в кожаном футляре. Сообразив, что я, чего доброго, обеспокоюсь из-за этого ножа, старик поспешно сказал: - Я лозу пришел резать. Для корзин да вентерей. Плету помаленьку. Я сказал старику, что вот какая тут была замечательная девочка - знает все цветы и травы.
- Это Клавка-то? - спросил он. - Да это колхозного конюха Карнаухова дочка. А чего ж ей не знать, когда у нее бабка первая травница на всю область! Вы с бабкой поговорите. Заслушаетесь. Да, -
сказал он, помолчав, и вздохнул. - У каждого цвета свое наименование… Паспортизация, значит.
Я с удивлением взглянул на него. Старик попросил еще папироску и ушел. Вскоре ушел и я. Когда я выбрался из зарослей на луговую дорогу, то увидел далеко впереди трех девочек. Они несли огромные охапки цветов. Одна из них тащила за руку маленького босого мальчика в большом картузе. Девочки шли быстро. Было видно, как мелькают их пятки. Потом донесся тоненький голосок:
Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица дочь…
Солнце уже садилось за Окой, за селом Константиновым, и освещало косым красноватым светом тянувшиеся стеной на востоке леса.
ДАВНО ЗАДУМАННАЯ КНИГА
Довольно давно, больше 10 лет назад, я решил написать трудную, но, как я тогда думал, да думаю и сейчас, интересную книгу. Книга эта должна была состоять из биографий замечательных людей. Биографии должны были быть короткие и живописные. Я начал даже составлять для этой книги список замечательных людей. В эту книгу я решил вставить несколько жизнеописаний самых обыкновенных людей, с которыми я встречался, - людей безвестных, забытых, но мало, в сущности, уступавших тем людям, что стали известными и любимыми. Просто им не повезло и они не смогли оставить после себя хотя бы слабый след в памяти потомков. Большей частью это были бессеребренники и подвижники, охваченные какой-нибудь единой, страстью. Среди них был речной капитан Оленин-Волгарь - человеке феерической жизни. Он вырос в музыкальной семье и учился пению в Италии. Но ему захотелось обойти пешком всю Европу, он бросил учение и действительно обошел Италию, Испанию и Францию как уличный певец. В каждой стране он пел под гитару песни на ее родном языке.
Я познакомился с Олениным-Волгарем в 1924 г. в редакции одной из московских газет. Однажды после работы мы попросилиспеть нам несколько песенок из его уличного репертуара. Достали где-то гитару, и сухощавый невысокий старик в форме речного капитана вдруг преобразился в виртуоза, в удивительного актера и певца. Голос у него был совершенно молодой. Мы, замерев, слушали, как свободно лились итальянские кантилены, как отрывисто гремели песни басков, как ликовала вся в звоне труб и пороховом дыму «Марсельеза». После скитаний по Европе Оленин-Волгарь работал матросом на морских пароходах, выдержал экзамен на штурмана дальнего плавания, прошел много раз вдоль и поперек Средиземное море, потом вернулся в Россию и служил капитаном на Волге. В то время, когда я познакомился с ним, он водил пассажирские пароходы из Москвы в Нижний Новгород. Он первый за свой страх и риск провел через узкие и ветхие москворецкие шлюзы большой волжский пассажирский пароход. Все капитаны и инженеры уверяли, что это невозможно. Он первый предложил выпрямить русло Москвы-реки в знаменитых Марчугах, где река петляла так сильно, что даже от вида на карте ее бесчисленных поворотов могла закружиться голова.
Оленин-Волгарь написал много превосходных статей о реках России. Теперь эти статьи потеряны и забыты. Он знал все омуты, перекаты и карчи на десятках рек. У него были свои простые и неожиданные планы, как улучшить судоходство на этих реках. В свободное время он переводил на русский язык «Божественную комедию» Данте. Это был строгий, добрый и беспокойный человек, считавший, что все профессии одинаково почетны, потому что служат делу народа и дают каждому возможность проявить себя «хорошим человеком на этой хорошей земле». И еще был у меня один простой и милый знакомый - директор краеведческого музея в маленьком городке Средней России. Музей помещался в старинном доме. Помощников у директора не было, кроме жены. Они вдвоем не только держали музей в образцовом порядке, но сами ремонтировали дом, заготовляли дрова и делали всякую черную работу. Однажды я их застал за странным занятием. Они ходили по уличке около музея - тихой уличке, заросшей муравой, и подбирали все камни и битый кирпич, какие валялись вокруг. Оказывается, мальчишки выбили камнем в музее окно. Чтобы впредь у мальчишек не было под рукой метательных снарядов, директор решил собрать все камни с улички и снести их во двор.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 08 Окт 2012, 18:57 | Сообщение # 8 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Каждая вещь в музее - от старинного кружева или редкого плоского кирпича XIV в. до образцов торфа и чучела аргентинской водяной крысы нутрии, недавно выпущенной для размножения в окрестные болота, - была изучена и тщательно описана. Но этот скромный человек, говоривший всегда вполголоса, покашливая от смущения, совершенно расцветал, когда показывал картину художника Переплетчикова. Он нашел ее в закрытом монастыре. Правда, это был превосходный пейзаж, написанный из глубокой амбразуры окна, - белый северный вечер с уснувшими молодыми березками и светлой, как олово, водой небольшого озера.
Работать этому человеку было трудно. С ним мало считались. Работал он в тишине, ни к кому не приставал. Но даже если бы его музей и не приносил большой пользы, то разве самое существование такого человека не было для местных людей, особенно для молодежи, примером преданности делу, скромности и любви к своему краю? Недавно я нашел список замечательных людей, который я составлял для этой книги. Он очень велик. Я не могу привести его полностью. Поэтому я выберу из него наугад только несколько писателей. Рядом с именем каждого писателя я делал короткие и беспорядочные заметки о тех ощущениях, какие были связаны у меня с тем или иным писателем. Я приведу здесь для ясности некоторые из этих записей. Я привел их в порядок и увеличил.
ЧЕХОВ
Его записные книжки живут в литературе самостоятельно, как особый жанр. Он мало ими пользовался для своей работы. Как интересный жанр существуют записные книжки Ильфа, Альфонса Додэ, дневники Толстого, братьев Гонкур, французского писателя Ренара и множество других записей писателей и поэтов. Как самостоятельный жанр записные книжки имеют полное право на существование в литературе. Но я, вопреки мнению многих писателей, считаю их почти бесполезными для основной писательской работы. Некоторое время я вел записные книжки. Но каждый раз, когда я брал интересную запись из книжки и вставлял ее в повесть или рассказ, то именно этот кусок прозы оказывался неживым. Он выпирал из текста, как нечто чужеродное. Я могу это объяснить только тем, что лучший отбор материала производит память. То, что осталось в памяти и не забылось, - это и есть самое ценное. То же, что нужно обязательно записать, чтобы не позабыть, - менее ценно и редко может пригодиться писателю. Память, как сказочное сито, пропускает сквозь себя мусор, но задерживает крупинки золота. У Чехова была вторая профессия. Он был врачом. Очевидно, каждому писателю полезно было бы знать вторую профессию и некоторое время заниматься ею.
То, что Чехов был врачом, не только дало ему знание людей, но сказалось и на его стиле. Если бы Чехов не был врачом, то, возможно, он бы не создал такую острую, как скальпель, аналитическую и точную прозу. Некоторые его рассказы (например, «Палата № 6», «Скучная история», «Попрыгунья», да и многие другие) написаны как образцовые психологические диагнозы. Его проза не терпела ни малейшей пыли и пятен. «Надо выбрасывать лишнее, - писал Чехов, - очищать фразу от "по мере того", "при помощи", надо заботиться об ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом "стала" и "перестала"». Он жестоко изгонял из прозы такие слова, как «аппетит», «флирт», «идеал», «диск», «экран». Они вызывали у него отвращение. Жизнь Чехова поучительна. Он говорил о себе, что в течение многих лет выдавливал из себя по каплям раба. Стоит разложить фотографии Чехова по годам - от юношества до последних лет жизни, - чтобы воочию убедиться, как постепенно исчезает с его внешности легкий налет мещанства и как все строже, значительнее и прекраснее делается его лицо и все изящнее и свободнее его одежда.
Есть у нас в стране уголок, где каждый хранит часть своего сердца. Это чеховский дом на Аутке. Для людей моего поколения этот дом, как освещенное изнутри окно. За ним можно видеть из темного сада свое полузабытое детство. И услышать ласковый голос Марии Павловны, той милой чеховской Маши, которую знает и по-родственному любит почти вся страна. Последний раз я был в этом доме в 1949 г. Мы сидели с Марией Павловной на нижней террасе. Заросли белых пахучих цветов закрывали море и Ялту. Мария Павловна сказала, что этот пышно разросшийся куст посадил Антон Павлович и как-то его назвал, но она не может вспомнить это мудреное название. Она сказала это так просто, будто Чехов был жив, был здесь совсем недавно и только куда-то на время уехал - в Москву или Ниццу. Я сорвал в чеховском саду камелию и подарил ее девочке, бывшей с нами у Марии Павловны. Но эта беззаботная «дама с камелией» уронила цветок с моста в горную речку Учан-Су, и он уплыл в Черное море. На нее невозможно было сердиться, особенно в этот день, когда казалось, что за каждым поворотом улицы мы можем встретиться с Чеховым. И ему будет неприятно услышать, как бранят сероглазую смущенную девочку за такую ерунду, как потерянный цветок из его сада.
АЛЕКСАНДР БЛОК
У Блока есть ранние малоизвестные стихи: «Ночь теплая одела острова». В этих стихах есть одна строчка - протяжная и нежная, вызывающая в памяти всю прелесть туманной юности: «Весна моей мечты далекой…» Это - не обыкновенные слова. Это - озарение. Из таких озарений создан весь Блок.
Каждый раз, когда я бывал в Ленинграде, я хотел пойти (именно пойти пешком, а не поехать на автобусе или трамвае) на Пряжку, чтобы увидеть тот дом, где жил и умер Блок. Однажды я пошел и заблудился среди пустынных кварталов и затянутых тиной каналов и так и не нашел дом Блока. Но случайно я увидел в переулке, заросшем травой, мемориальную доску на кирпичном выцветшем доме. В этом доме, оказывается, жил Достоевский. Только недавно я нашел наконец дом Блока на набережной реки Пряжки. Поздняя осень засыпала черную реку ворохами сухих листьев. За Пряжкой начиналась рабочая портовая окраина города. Видны были заводы, верфи, мачты пароходов, дымы, бледное предвечернее небо. Но на Пряжке было пустынно и тихо, как в глубокой провинции. Это был странный приют для такого поэта, как Блок. Может быть, Блок искал эту тишину и близость моря потому, что она возвращает смятенному человеческому сердцу спокойствие.
АЛЕКСАНДР ГРИН
Во времена моей юности все мы, гимназисты, зачитывались выпусками «Универсальной библиотеки». Это были маленькие книги в желтой бумажной обложке, напечатанные петитом. Стоили они необыкновенно дешево. За десять копеек можно было прочесть «Тартарена» Додэ или «Мистерии» Гамсуна, а за двадцать копеек - «Давида Копперфильда» Диккенса или «Дон-Кихота» Сервантеса. Русских писателей «Универсальная библиотека» печатала только в виде исключения. Поэтому, когда я купил очередной выпуск со странным названием «Синий каскад Теллури» и увидел на обложке имя автора - Александр Грин, то, естественно, подумал, что Грин иностранец. В книге было несколько рассказов. Помню, я открыл книгу, стоя около киоска, где я ее купил, и прочел наугад: «Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс. Разноязычный этот город напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены, как попало, среди нескольких намеков на улицы. Улиц в прямом смысле слова не могло быть в Лиссе, потому что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские пламенные глаза женщин Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен. Где-нибудь на бугрообразном дворе - огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом. Пение вдали и его эхо в оврагах. Рынки на сваях под тентами и огромными зонтиками. Блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне, о влюбленности и свиданиях. Гавань - грязная, как молодой трубочист. Свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана Ночью - магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами - вот Лисс!»
Я читал, стоя в тени цветущего киевского каштана, читал не отрываясь, пока не прочел до конца эту причудливую, как сон, необыкновенную книгу. Внезапно я ощутил тоску по блеску ветра, по солоноватому запаху морской воды, по Лиссу, по его жарким переулкам, опаляющим глазам женщин, шершавому желтому камню с остатками белых ракушек, розовому дыму облаков, стремительно взлетающему в синеву небосвода. Нет! Это была, пожалуй, не тоска, а жестокое желание увидеть все это воочию и беззаботно погрузиться в вольную приморскую жизнь. И тут же я вспомнил, что какие-то отдельные черты этого блещущего мира я уже знал. Неизвестный писатель Грин только собрал их на одной странице. Но где я все это видел? Я вспоминал недолго. Конечно, в Севастополе, в городе, как бы поднявшемся из зеленых морских волн на ослепительное белое солнце и перерезанном полосами теней, синих, как небо. Вся веселая путаница Севастополя была здесь, на страницах Грина. Я начал читать дальше и наткнулся на матросскую песенку:
Южный Крест там сияет вдали
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня корабли,
Да помилует нас!
Тогда я еще не знал, что Грин сам придумывал песенки для своих рассказов. Люди пьянеют от вина, солнечного сверкания, от беззаботной радости, щедрости жизни, никогда не устающей вводить нас в блеск и прохладу своих заманчивых уголков, наконец - от «чувства высокого». Все это существовало в рассказах Грина. Они опьяняли, как душистый воздух, что сбивает нас с ног после чада душных городов. Так я познакомился с Грином. Когда я узнал, что Грин русский и что зовут его Александр Степанович Гриневский, то не был этим особенно удивлен. Может быть, потому, что Грин был для меня к тому времени явным черноморцем, представителем в литературе того племени писателей, к которому принадлежали и Багрицкий, и Катаев, и мн. др. писатели-черноморцы.
Удивился я, когда узнал биографию Грина, узнал его неслыханно тяжкую жизнь отщепенца и неприкаянного бродяги. Было непонятно, как этот замкнутый и избитый невзгодами человек пронес через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека и застенчивую улыбку. Недаром он написал о себе, что «всегда видел облачный пейзаж над дрянью и мусором невысоких построек». Он с полным правом мог бы сказать о себе словами французского писателя Жюля Ренара: «Моя родина - там, где проплывают самые прекрасные облака». Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству. Грин писал почти все свои вещи в оправдание мечты. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы знаем, что будущее, к которому мы стремимся, родилось из непобедимого человеческого свойства - умения мечтать и любить.
http://ruslit.traumlibrary.net/....work003
Михаил Пришвин

Многие любуются природой, но немногие ее принимают к сердцу, и даже тем, кто к сердцу принимает, не часто удается так сойтись с природой, чтобы почувствовать в ней свою собственную душу...
ДЕРЕВЬЯ В ЛЕСУ

Снежная пороша. В лесу очень тихо и так тепло, что только вот не тает. Деревья окружены снегом, ели повесили громадные тяжелые лапы, березы склонились и некоторые даже согнулись макушками до самой земли и стали кружевными арками. Так вот и у деревьев, как у людей: ни одна елка не склонится ни под какой тяжестью, разве что сломится, а береза чуть что – и склоняется. Ель царствует со своей верхней мутовкой, а береза плачет. В лесной снежной тишине фигуры из снега стали так выразительны, что странно становится: «Отчего, думаешь, они ничего не скажут друг другу, разве только меня заметили и стесняются?» И когда полетел снег, то казалось, будто слышишь шепот снежинок, как разговор между странными фигурами.
РОЖДЕНИЕ МЕСЯЦА

Весь день в лесу был золотой, а вечером заря горела в полнеба. Это была северная заря, вся малиново-блестящая, как в елочных игрушках, бывало, в бомбоньерках с выстрелом, особая прозрачная бумага, через которую посмотришь на свет, и все бывает окрашено в какой-нибудь вишневый цвет. Однако на живом небе было не одно только красное посредине шла густо-синяя стрельчатая полоса, ложась на красном, как цеппелин, а по краям разные прослойки тончайших оттенков, дополнительных к основным цветам. Полный рассвет зари продолжается какие-нибудь четверть часа. Молодой месяц стоял против красного на голубом, будто он увидел это в первый раз и удивился.
СНЕГ НА ВЕТВЯХ

Невидимые звезды снега теперь спустились сверху, возле нас в воздухе блестят спокойным дождем искр, и остаются на сучках деревьев, и от этого дерево сверкает все от верху до низу каждой веточкой, каждой зимней нераскрытой почкой.
В ГОРОДЕ

Сегодня солнечный день и с морозом. Когда солнце зайдет за тучу, мороз пишет на стекле веточки тропических растений и водоросли теплых морей. Когда же солнце опять появляется, мороз бросает мечту свою невозможную о тропиках, плачет и разбегается по стеклу каплями. Эта игра солнца с морозом окончилась, когда все облака сбежали с неба и солнечные лучи не только высушили на стекле все капли, но даже и нагрели стекло. Морозу не за что было взяться на стекле, и когда солнце село и стало темно. Тогда пришел к нам гость и, поглядев в чистое стекло с шестого этажа на серые коробки домов, сказал: - Какой вид!
ЖИВЫЕ КАПЛИ

Вчера здорово подсыпало снегу. И немного таяло, но большие капли вчерашние замерзли, и сегодня не холодно, но и не тает, и капли висят, как живые, блестят, и небо серое на весу - вот-вот полетит… Я ошибся: капли на балконе - живые!
ЛЕСНОЕ ЗЕРКАЛО

В лесной луже на дороге более холодные частицы воды при остывании поднимались на поверхность, и мороз сколотил из них белую пленку и наузорил на ней какие-то нам неведомые тропические цветы. Разве поймешь, для чего у мороза цветы? А по себе если судить, так все понятно: мороз замечтался о далекой тропической стране, и, пока занимался узорами, теплая вода убежала под землю. Так и осталась от всей лужи тонкая, белая хрусткая пленочка с узорами тропических водорослей.
СНЕГУРОЧКА В ЛЕСУ

Вчера видел Снегурочку в лесу: одна сережка у нее из золотого листика, а другая еще зеленая.
ЛЕСНАЯ КОЛОКОЛЬНЯ

Ночной снег отяжелил ветви деревьев, а теперь снег медленно расходился по веткам каплями, и они понемногу поднимались. Когда к вечеру стало холоднеть, то мороз прежде, конечно, заморозил все капли, а из-под снега на ветках они все еще выбегали, живая капля на замерзшую, и тут все сами замерзали, удлиняя сосульки. Мороз остановил тающий снег, когда все дерево успело покрыться маленькими звонкими сосульками. Утром лесная поляна стала наполняться светом, в лучах солнца чудесными подарками засверкали елочки, и ветер-звонарь заиграл на своей лесной колокольне.
ЧУВСТВО СВОБОДЫ

Давно заметил, что когда ветерок, проникающий в лес, качает ветви деревьев, то в этом есть особенная глубокая прелесть. Давно ищу средства это изобразить. Может быть, соединить это с листопадом? Буду наблюдать. Монетки осени так промерзли или подсохли, что слышно, как в трепете друг о друга стучат. Трепещущие листики бьются друг о друга, стараясь оторваться и улететь. Но когда оторвутся, падают, обращаясь всей массой листвы в удобрение. Так листики, и много людей таких, но настоящий человек в чувстве свободы окрыляется и движется вперед и вперед.
http://www.skazayka.ru/vremena-goda/
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 08 Ноя 2012, 23:03 | Сообщение # 9 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Иван Бунин
КОСЦЫ
Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее - и пели. Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки... Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им. Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня... Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут. Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой - или благословенной - богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели. Они были "дальние", рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были "охочи к работе", несознанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, - в обычае, в повадке, в языке, - опрятной и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами.
Неделю назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, - так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, - потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведенными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового. Я сказал:- Хлеб-соль, здравствуйте. Они приветливо ответили:- Доброго здоровья, милости просим! Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмеялись: - Ничего, они сладкие, чистая курятина!
Теперь они пели: "Ты прости-прощай, любезный друг!" - подвигались по березовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чем такая дивная прелесть их песни. Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами - и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим свежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе, и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была - Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу.
Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось - человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса. Конечно, они "прощались, расставались" и с "родимой сторонушкой", и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось:
Ты прости-прощай, любезный друг,
И, родимая, ах да прощай, сторонушка! -
говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадежной укоризной.
Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,
По тебе ли сердце черней грязи сделалось! -
говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, - точно встряхивали головами и кидали на весь лес:
Коль не любишь, не мил - бог с тобою,
Коли лучше найдешь - позабудешь!
и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало:
Ах, коли лучше найдешь - позабудешь,
Коли хуже найдешь - пожалеешь!
В чем еще было очарование этой песни, ее неизбывная радость при всей ее будто бы безнадежности? В том, что человек все-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадежность. "Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!" - говорил он, сладко оплакивая себя, Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги.
"Ты прости-прощай, родимая сторонушка!" - говорил человек - и знал, что, все-таки, нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг - беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. "Закатилось солнце красное за темные леса, ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!" Закатилось мое счастье, вздыхал он, темная ночь с ее глушью обступает меня, - и все-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чье-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: "Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитятко!" - И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его "по его младости". Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, черные тони болотные, носки летучие - и прощал милосердный бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие... Еще одно, говорю я, было в этой песне - это то, что хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далекие - и невозвратимые. Ибо всему свой срок, - миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи - и настал конец, предел божьему прощению.
Париж. 1921.
ПОЛУНОЧНАЯ ЗАРНИЦА
Изба в густом майском лесу, перед ней поляна, среди поляны раскидистая яблоня, лесовка, вся белая и кудрявая от цвета. Солнце уже село за лесом, но еще долго будет светло. Все свежо, молодо, всего преизбыток - зелени, цветов, трав, соловьев, горлинок, кукушек. И сладко, лесом, цветами, травами, пахнет легкий холодок зари. За теми чащами, над которыми светлая пустота весеннего заката и которые спускаются в лесные овраги, розовеющим зеркалом сквозит пруд, и в нем иногда квохчет лягушка, томно, изнемогая от наслаждения. Соловьи низко перелетают над поляной, гоняются друг за другом, на лету цокают, трещат. Верховая лошадь, кажущаяся под седлом еще легче и красивее, стоит под яблоней. Она тянется мордой к мелкой листве среди белых цветов, обрывает ее и все время звучно жует. А я сижу на пне возле избы, и мне приятно, что я здоров, молод, что я хорошо езжу и что лошадь ценит это, любит меня, что она так женственна и породиста, что она с одинаковым удовольствием покоряется мне во всем - принимает на себя седло, чувствует крепко охватившие ее подпруги, идет крупным, вольным шагом или во весь опор скачет, стоит возле крыльца, на меже в поле, поддеревом в лесу... В избе, на лавке возле окошка, - девочка лет трех, в чепчике. Она занята тем, что бьет себя по губам: бам, бам, бам! За ней, внутри избы, черно и жарко. Широта и глубина светлого заката сократилась, померкла. В бездонной высоте, сереющей над поляной, парами налетают вальдшнепы, на мгновение останавливаются и летит дальше. Лягушка смолкла, - во всем лесу тишина, только щебечут где-то вблизи две птички, да и то как-то безжизненно, перед сном. И все чаще, все страннее смотрит вверх, на сереющую синеву, где уже мелко проступают первые зерна звезд, горбатая девка, смирно сидевшая весь вечер на траве неподалеку от яблони. Вверху - небо, вправо - померкшая заря, впереди, за яблоней, - далекие красноватые просветы в черных лесных низах. И я тоже смотрю - то в вышину, то на эти просветы, то на лошадь, то на девку - и тогда она, не глядя, тотчас чувствует мой взгляд и стыдливо подбирет ноги, оправляет платье. Она чисто и приятно одета. Лицо у нее слегка широкоскулое, но тонкое, озаренное прозрачной бледностью. Трогательно ее ожерелье на худых ключицах, девичья льняная сорочка, маленькие босые ноги - и странен, даже немного страшен ее частый и несмелый взгляде небо.
Подходит ее мать - воротилась из села, принесла мешочек пшена, связку кренделей. Поздоровавшись со мной, садится на порог избы, вздыхает: - Была в селе, купила кой-чего... А вы давно тут? Анютка не плакала? На нее надежды нету, - говорит она, разумея горбатую, которая слушает так, будто говорят не про нее, а про кого-то другого, - она у нас, сами знаете, какая...Я знаю, но баба подробно и не спеша рассказывает или, скорее, вслух передумывает все то, что я слышал уже много раз: - Что ж, дошло до того, что два раза из омута вынимали. Пришла я как-то из села, а она в пруде по горло, топиться хочет. А намедни с осинки сняла: собираю сушь в лесу, глядь, а она висит на суку, еле ногами травы касается, - уж краски по лицу пошли. "Все, говорит, ходит Он ко мне, душит, настигает." Ночью проснусь, а она задыхается, кричит: "Что ты? Что ты? Пусти, не хочу!" - А самой, по голосу слышу, лестно, сладко. Спать без того не ложится, - молится, приговаривает: "Не надейся, не надейся, с собой не положу! Всю постелю закрещу!" Тает, на нет сошла, осталось нарядить да в гроб положить. Уж я с ней работы и не спрашиваю, грех и спрашивать. Куда вся храбрость девалась, а прежде чистый огонь была, нежная, обидчивая. Дело молодое, тайное, какой только думки в голове нету! Иной раз проговорится, - глаза потупит, закраснеется и шепчет: "Ну что ж, ну, горбатая, а все лицом не хуже других. Ну и пускай никто не возьмет, постыдится с такой-то под венец стать. Найду себе получше дружка, потаенного, полуночного." Какой страшный грех говорит, a все думается - помрет, все господь простит.
Девка сидит прямо, неподвижно, не слушает, пристально и странно глядит в темноту леса. Домой еду полями. Земля залита темнотой, темнота поднимается снизу, затопляет далекую зарю, последний след ее. Свежо - пахнет и зеленью уже поднявшихся ржей, и росистой травой на межах, и всем тем полевым, ночным, среди чего я родился, вырос, чем так сладко живу... Баба говорила: "Я сплю с Анюткой на нарах, а она на конике, под святыми. Ночью проснусь - сидит, в окошечко, на звезды, на ночь, на лес смотрит... у меня, говорит, звезда любимая есть, верная, неизменная, Полуночная Зарница..." Полуночная Зарница. Звезда любви, Звезда предрассветная. Лошадь идет подбористо, точно чует мои думы, - видны ее настороженные уши на слабом свете зари. О, красавица, умница, любимая моя! Как передать словами нашу с тобой близость, нашу любовь, - нет тоньше, таинственней и чище этой любви, навеки безмолвной, навеки верной, не обманывающей, любви между человеком и животным! А этот, теперь уже темный и такой зловещий, лес и она, эта страшная и прекрасная горбунья? Мать, верно, уже спит, а она, живая покойница, сидит на лавке под святыми, глядит, слушает - одна во всем мире, - и все, кроме человека, все с ней и в ней - и ночь, и лес, и вся Вселенная, вся тайна ее - и уж так с ней и в ней, как нам никому не дано, потому что уже совсем вне нашего мира она, уже во власти этого Потаенного, Полуночного, чья дивная и грозная Звезда горит перед зарею над лесом... И я обнимаю и целую сильную атласную шею своей бессловесной возлюбленной, чтобы слышать ее грубый запах, чтобы чувствовать земную плоть, потому что без нее, без этой плоти, мне слишком жутко в этом мире, и натягиваю поводья, и лошадь тотчас же отвечает мне всем своим существом - и легко, горячо несет меня по темной дороге к дому.
Париж. 1921.
НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРУГ
7 октября
На этой carte-illustree (Почтовая открытка с видом (фр.) с таким печальным и величественным видом лунной ночи у берегов Атлантического океана спешу написать Вам мою горячую благодарность за Вашу последнюю книгу. Эти берега - моя вторая родина, это Ирландия, - видите, из какого далека шлет Вам привет один из Ваших неизвестных друзей. Будьте счастливы, и да сохранит Вас Бог.
8 октября
Вот еще один вид той одинокой страны, куда навеки забросила меня судьба. Вчера под ужасным дождем, - у нас вечный дождь, - ездила по делам в город, случайно купила Вашу книгу и читала ее не отрываясь на возвратном пути на виллу, где мы живем круглый год из-за моего слабого здоровья. От дождя, от туч почти темно, цветы и зелень в садах были необыкновенно ярки, пустой трамвай шел быстро, кидая фиолетовые вспышки, а я читала и, неизвестно почему, чувствовала себя почти мучительно счастливой. Прощайте, еще раз благодарю Вас. Хочется еще что-то сказать Вам, но что? Не знаю, не умею определить.
10 октября
Не могу удержаться и опять пишу Вам. Думаю, что Вы получаете таких писем слишком много. Но ведь все это отклики именно тех человеческих душ, для которых и творите Вы. Так зачем же мне молчать? Вы первый вступили в общении со мной, выпустив в свет, то есть и для меня, свою книгу... И нынче целый день сыплется дождь на наш неестественно зеленый сад, и в комнате у меня сумрачно, и с утра топится камин. Мне хотелось бы сказать Вам многое, но ведь Вы знаете лучше других, как это трудно, почти невозможно - высказывать себя. Я все еще под впечатлением чего-то непонятного и неразрешающегося, но прекрасного, чем я обязана Вам, - объясните, что это такое, это чувство? И что вообще испытывают люди, подвергаясь воздействию искусства? Очарование от человеческой умелости, силы? Возбужденное желание личного счастья, которое всегда, всегда живет в нас и особенно оживает под влиянием чего-нибудь, действующего чувственно, - музыки, стихов, какого-нибудь образного воспоминания, какого-нибудь запаха? Или же это радость ощущения божественной прелести человеческой души, которую открывают нам немногие, подобные Вам, напоминающие, что она все-таки есть, эта божественная прелесть? Вот я что-нибудь читаю, - иногда даже что-нибудь ужасное, - и вдруг говорю: боже, как это прекрасно! Что это значит? Может быть, это значит: как все-таки прекрасна жизнь! До свиданья, скоро еще напишу Вам. Думаю, что в этом нет никакой неделикатности, что это принято - писать писателям. Кроме того, Вы ведь можете и не читать моих писем... хотя, конечно, мне это будет очень грустно. Простите, это может прозвучать дурно, но не могу не сказать: я не молода, у меня дочь пятнадцати лет, совсем уже барышня, но я была когда-то не совсем дурна и не слишком резко изменилась с тех... Мне все-таки не хочется, чтобы Вы представляли себе меня не такой, какая я есть.
11 октября
Я написала Вам в силу потребности разделить с Вами то волнение, которое произвел на меня Ваш талант, действующий как печальная, но возвышенная музыка. За чем это нужно - разделить? Я не знаю, да и Вы не знаете, но мы оба хорошо знаем, что эта потребность человеческого сердца неискоренима, что без этого нет жизни и что в этом какая-то великая тайна. Ведь и Вы пишете только в силу этой потребности и даже более - Вы отдаете ей всего себя всецело. Я всегда много читала, - и много вела дневников, как все неудовлетворенные жизнью люди, - много читаю и теперь, читала и Вас, но мало, больше знала Вас лишь по имени. И вот эта Ваша новая книга. Как это странно! Чья-то рука где-то и что-то написала, чья-то душа выразила малейшую долю своей сокровенной жизни малейшим намеком, - что может выразить слово, даже такое, как Ваше! - и вот вдруг исчезает пространство, время, разность судеб и положений, и Ваши мысли и чувства становятся моими, нашими общими. Поистине только одна, единая есть душа в мире. И разве не понятен после этого мой порыв написать Вам, что-то высказать, что-то разделить с Вами, на что-то пожаловаться? Разве Ваши произведения не то же самое, что мои письма к Вам? Ведь и Вы что-то и кому-то высказываете, посылаете свои строки кому-то неведомому и куда-то в пространство. Ведь и Вы жалуетесь, чаще всего только жалуетесь, потому что жалоба, иными словами, мольба о сочувствии, наиболее неразлучна с человеком: сколько ее в песнях, молитвах, стихах, любовных излияниях! Может быть, Вы ответите мне, хотя двумя словами? Ответьте!
13 октября
Опять пишу Вам ночью, уже в спальне, мучимая непонятным желанием сказать то, что так легко обозвать наивностью, что скажется, во всяком случае, не так, как чувствуется. А хочется мне сказать, в сущности, очень немногое: только то, что мне очень грустно, очень жаль себя - и что я все-таки счастлива этой грустью и тем, что мне жаль себя. Мне грустно думать, что я где-то в чужой стране, на самых западных берегах Европы, на какой-то вилле за городом, среди осенней ночной темноты и тумана с моря, идущего вплоть до Америки. Грустно, что я одна не только в этой уютной и прелестной комнате, но и во всем мире. И всего грустней, что Вы, которого я выдумала и от которого уже чего-то жду, так бесконечно далеко от меня и так мне неведомы и, конечно, что бы я там ни говорила, так чужды мне и так правы в этом... В сущности, все в мире прелестно, даже вот этот абажур на лампе, и ее золотистый свет, и сверкающее белье на моей уже открытой постели, и мой халат, моя нога в туфле, и моя худая рука в широком рукаве. И всего бесконечно жаль: к чему все? Все проходит, все пройдет, и все тщетно, как и мое вечное ожидание чего-то, заменяющее мне жизнь... Очень прошу - напишите мне. Конечно, два-три слова, только для того, чтобы я знала, что Вы слышите меня. Простите мою настойчивость.
21 октября
Увы, письма от Вас нет. А прошло уже 15 дней с тех пор, как я написала Вам в первый раз. Но, может быть, Ваш издатель еще не переслал Вам моих писем? Может быть, Вас отвлекают срочные занятия, светская жизнь? Это очень грустно, но все же лучше, чем думать, что Вы просто пренебрегли моей просьбой. Думать так очень обидно и больно. Вы скажете, что я ire имею никакого права на Ваше внимание и что, следовательно, ни обиде, ни боли не может быть места. Но точно ли не имею я этого права? А может быть, оно уже есть у меня, раз я испытала известные чувства к Вам? Разве был, например, хоть один Ромео, который не требовал взаимности даже и без всяких оснований, или Отелло, который ревновал бы по праву? Оба они говорят: раз я люблю, как можно не любить меня, как можно изменять мне? Это не простое хотение, чтобы меня любили, это гораздо сложнее и больше. Раз и что-нибудь или кого-нибудь люблю, это уже мое, во мне... Впрочем, не умею объяснить Вам этого как следует, знаю только, что так казалось и кажется людям всегда... Впрочем, как бы там ни было, а ответа от Вас нет, а я опять пишу. Неожиданно выдумала, что Вы мне чем-то близки, - хотя опять-таки выдумала ли? - и сама поверила своей выдумке и упорно стала писать Вам и уже знаю, что чем больше буду писать Вам, тем все необходимее будет для меня делить это, потому что все более будет усиливаться какая-то связь между мною и Вами. Я Вас не представляю себе, совсем не вижу даже Вашего физического облика. Так кому же я пишу? Самой себе? Но все равно. Ведь и я - Вы.
22 октября
Нынче дивный день, на душe у меня легко, окна открыты, и солнце и теплый воздух напоминают о весне. Странный этот край! Летом дождливо и холодно, осенью, зимой дождливо и тепло, но порой выпадают такие прекрасные дни, что не знаешь: зима это или итальянская весна? О, Италия, Италия и мои восемнадцать лет, мои надежды, моя радостная доверчивость, мои ожидания на пороге жизни, которая была вся впереди и вся в солнечном тумане, как горы, долины и цветущие сады вокруг Везувия! Простите, знаю, что все это слишком не ново, но что мне до того? Может быть, Вы оттого не писали мне, что я для Вас слишком отвлеченна? Тогда вот еще несколько черт моей жизни. Я уже 16 лет замужем. Мой муж француз, я познакомилась с ним однажды зимой на французской Ривьере, венчалась в Риме, а после свадебного путешествия по Италии навсегда поселилась здесь. У меня трое детей, мальчик и 2 девочки. Люблю ли я их? Да, но все же не так, как чаще всего любят матери, видящие жизнь только в семье, в детях. Пока дети были маленькими, я за ними непрестанно ухаживала, разделяла с ними все их игры и занятия, но теперь они во мне больше не нуждаются, и у меня много свободного времени, которое я провожу в чтении. Родные мои далеко, наши жизни разошлись, и общих интересов у нас так мало, что мы даже переписываемся очень редко. В связи с положением моего мужа мне часто приходится бывать в обществе, принимать и отдавать визиты, бывать па вечерах и обедах. Но друзей и подруг у меня нет. На здешних дам я не похожа, а в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю... Но довольно обо мне. Если ответите, скажите хоть что-нибудь о себе. Какой Вы? Где постоянно живете? Любите ли Вы Шекспира или Шелли, Гете или Данте, Бальзака или Флобера? Любите ли музыку и какую? Женаты ли Вы? Связаны ли Вы уже наскучившей связью или у Вас есть невеста в той нежной и прекрасной поре, когда все ново и радостно, когда еще нет воспоминаний, которые только томят, обманывают, будто было счастье, непонятное и неиспользованное?
1 ноября
Письма от Вас нет. Какое мучение! Такое мучение, что я иногда проклинаю день и час, когда решилась написать Вам. И хуже всего то, что из этого нет выхода. Сколько бы я ни уверяла себя, что мне нечего ждать, я все-таки жду: кто же может поручиться, что его действительно не будет? Ах, если бы твердо знать, что Вы не напишете! Я была бы и этим счастлива. Впрочем, нет, нет, надеяться все-таки лучше. Я надеюсь, я жду!
3 ноября
Письма нет, и мои мучения продолжаются. Впрочем, тяжелы только утренние часы, когда я с неестественным спокойствием и медлительность, но с холодными от скрытого волнения руками одеваюсь, выхожу к кофе, прохожу музыкальный урок с дочерью, которая разучивает его так трогательно прилежно и сидит за пианино так прямо, так прелестно прямо, как умеют это только девочки по 15-му году. В полдень приходит наконец почта, я бросаюсь к ней, ничего не нахожу - и почти успокаиваюсь до следующего утра. А нынче опять прелестный день. Низкое солнце ясно и кротко. В саду много голых, черных деревьев, цветут осенние цветы. И что-то тонкое, голубое, необыкновенно прекрасное в долинах, за ветвями сада. И в сердце благодарность кому-то и за что-то. За что? Ведь ничего нет и не будет, хотя так ли это, точно ли ничего нет, раз она есть, эта умиляющая душу благодарность? Благодарю и Вас за то, что Вы дали мне возможность выдумать Вас. Вы меня никогда не узнаете, никогда не встретите, но и в этом много печальной прелести. И, быть может, хорошо, что Вы не пишете, что Вы не написали мне ни слова и что я совсем не вижу Вас живым. Разве я могла бы говорить с Вами и чувствовать Вас так, как сейчас, если бы я Вас знала, даже если бы имела хоть одно письмо от Вас? Вы непременно были бы уже не такой, непременно чуть-чуть хуже, и мне было бы менее свободно писать Вам... Свежеет, а я все не закрываю окна и все смотрю в голубую дымку низменностей и холмов за садом. И это голубое мучительно прекрасно, мучительно потому, что непременно нужно что-то сделать с ним. Что сделать? Я не знаю. Мы ничего не знаем!
5 ноября
Это похоже на дневник, по это все-таки не дневник, потому что теперь у меня есть читатель, хотя бы и предполагаемый. Что побуждает писать Вас? Желание рассказать что-нибудь или высказать (хотя бы иносказательно) себя? Конечно, второе. Девять десятых писателей, даже самых славных, только рассказчики, то есть, в сущности, не имеют ничего общего с тем, что может достойно называться искусством. А что такое искусство? Молитва, музыка, песня человеческой души. Ах, если бы оставить после себя хоть несколько строк о том, что вот и я жила, любила, радовалась, что и у меня была молодость, весна, Италия... что есть далекая страна на берегах Атлантического океана, где я живу, люблю и все еще чего-то жду даже и теперь... что есть в этом океане дикие и бедные острова и дикая, бедная жизнь каких-то чуждых всему миру людей, ни происхождения, ни темного языка, ни цели существования которых не знает и никогда не узнает никто... Я все-таки жду, жду письма. Теперь это уже как бы навязчивая идея, род душевной болезни.
7 ноября
Да, все дивно. Письма, конечно, нет, нет и нет. И представьте себе: потому что нет этого письма, нет ответа от человека, которого я никогда не видала и не увижу, нет отклика на мой голос, брошенный куда-то вдаль, в свою мечту, у меня чувство страшного одиночества, страшной пустоты мира. Пустоты, пустоты! И опять дождь, туман, будни. И это даже хорошо, то есть обычно, так, как надо. Это меня успокаивает. До свидания, да простит Вам бог Вашу жестокость. Да, все-таки это жестоко.
8 ноября
Три часа, а уже совсем сумерки от тумана и дождя. А в пять у нас чай с гостями. Приедут под дождем, в автомобилях, из мрачного города, который в дождь еще чернее со своим черным мокрым асфальтом, черными мокрыми крышами и черным гранитным собором, острие которого уносится в дождь и мглу... Я уже одета и как бы жду выхода на сцену. Жду того момента, когда я буду говорить, все то, что полагается, буду любезна, оживленна, заботлива и только немного бледна, что так легко объяснить этой ужасной погодой. И, одетая, я как будто помолодела, чувствую себя старшей сестрой своей дочери и каждую минуту готова заплакать. Я все-таки пережила что-то странное, похожее на любовь. К кому? В силу чего? Прощайте, я уже ничего не жду - говорю это совершенно искренне.
10 ноября
Прощайте, мой верный друг. Кончаю свои безответные письма тем же, чем и начала, - благодарностью. Благодарю Вас, что Вы не отозвались. Было бы хуже, если бы было иначе. Что бы Вы могли сказать мне? И на чем могли бы мы с Вами, без чувства неловкости, прервать переписку? И что бы я нашла сказать Вам еще, кроме сказанного? Больше у меня ничего нет, - я все сказала. В сущности, о всякой человеческой жизни можно написать только две-три строки. О, да. Только две-три строки. Со странным чувством, точно я кого-то потеряла, - опять остаюсь одна, со своим домом, близостью туманного океана, осенними и зимними буднями. И опять возвращаюсь к дневнику, странную надобность которого, равно как и Ваших писаний, знает только бог. Несколько дней тому назад видела Вас во сне. Вы были какой-то странный, молчаливый, сидели в углу темной комнаты и были не видны. А все-таки я Вас видела. Я и во сне чувствовала: как можно видеть во сне того, кого никогда не видел в жизни? Ведь только бог творит из ничего? И мне было очень жутко, и я проснулась в страхе, с тяжелым чувством. Через 15-20 лет не будет, вероятно, ни меня, ни Вас в этом мире. До встречи в ином! Кто может быть уверен, что его пет? Ведь мы не понимаем даже своих собственных снов, созданий своего собственного воображения. Наше ли оно, это воображение, то есть, говоря точнее, то, что мы называем нашим воображением, нашими выдумками, нашими мечтами? Нашей ли воле подчиняемся мы, стремясь к той или иной душе, как я стремлюсь к Вашей? Прощайте. Или нет, все-таки до свидания.
Приморские Альпы. 1923.
«В АВГУСТЕ»
Уехала девушка, которую я любил, которой я ничего не сказал о своей любви, и так как мне шел тогда двадцать второй год, то казалось, что я остался один во всем свете. Был конец августа; в малорусском городе, где я жил, стояло знойное затишье. И когда однажды в субботу я вышел после работы от бондаря, на улицах было так пусто, что, не заходя домой, я побрел куда глаза глядят за город. Шел я по тротуарам мимо закрытых еврейских магазинов и старых торговых рядов; в соборе звонили к вечерне, от домов ложились длинные тени, но было еще так жарко, как бывает в южных городах в конце августа, когда даже в садах, жарившихся на солнце целое лето, все покрыто пылью. Мне было тоскливо, несказанно тоскливо, а вокруг меня все замирало от полноты счастья, - в садах, в степи, на баштанах и даже в самом воздухе и густом солнечном блеске. На пыльной площади, у водопровода стояла красивая большая хохлушка в расшитой белой сорочке и черной плахте, плотно обтягивавшей ее бедра, в башмаках с подковками на босу ногу. Было в ней что-то общее с Венерой Милосской, если только можно вообразить себе Венеру загорелой, с карими веселыми глазами и с такой ясностью чела, которая бывает, кажется, только у хохлушек и полек. Наполнив ведра, она положила коромысло на плечо и пошла прямо навстречу мне, - стройная, несмотря на тяжесть плескавшейся воды, слегка покачивая станом и постукивая башмаками по деревянному тротуару... И помню, как почтительно я посторонился, давая ей дорогу, и как долго смотрел за нею! А в улицу, которая шла с площади под гору, на Подол, видна была огромная, мягко синеющая долина реки, луга, леса, смуглые золотистые пески за ними и даль, нежная южная даль...
Кажется, никогда не любил я так Малороссию, как в ту пору, никогда не хотел так жить, как в ту осень, а между тем толковал я тогда только о борьбе с жизнью, учился только бондарному ремеслу. И теперь, постояв но площади, я решил отправиться в гости к толстовцам, за город. Спускаясь под гору на Подол, я встретил много парных извозчиков, которые шибко везли пассажиров с пятичасового поезда из Крыма. Огромные ломовые лошади медленно тащили в гору гремящие телеги с ящиками и тюками, и запах москательных товаров, ванили и рогожи, извозчики, пыль и люди, которые ехали откуда-то, где должно быть хорошо, - все опять заставило мое сердце сжаться от каких-то мучительно-тоскливых и сладких стремлений. Я свернул в тесный переулок между садами и долго шел по предместью. «Панычи» этого предместья, мастеровые и мещане, дико и чудесно «гукали» в летние ночи по долине да пели хорами на церковный лад красивые и печальные казацкие песни. Теперь «панычи» молотили. На окраине, там, где голубые и белые мазанки стояли уже на леваде, при начале долины, мелькали на токах цепы. Но в затишье долины было жарко так же, как в городе, и я поспешил взобраться на гору, в открытую, ровную степь. Тихо, покойно и просторно было там. Вся степь, насколько хватало глаз, была золотая от густого и высокого жнивья. На широком, бесконечном шляхе лежала глубокая пыль: казалось, что идешь в бархатных башмаках. И все вокруг - и жнивья, и дорога, и воздух - сияло от низкого вечернего солнца. Прошел черный от загара, пожилой хохол в тяжелых сапогах, в бараньей шапке и толстой свитке цвета ржаного хлеба, и палка, которой он попирался, блестела на солнце, как стеклянная. Крылья грачей, перелетавших над жнивьем, тоже блестели и лоснились, и нужно было закрываться полями жаркой шляпы от этого блеска и зноя. Далеко, почти на горизонте, можно было различить телегу и пару волов, которые медленно влекли ее, да шалаш сторожа на бахчах... Ах, славно было среди этой тишины и простора! Но всю душу мою тянуло к югу, за долину, в ту сторону, куда уехала она...
В полуверсте от дороги, над долиной, краснела черепичная кровля маленького хутора - поместье толстовцев, Павла и Виктора Тимченков. И я пошел туда по сухому, колкому жнивью. Вокруг хаты было пусто. Я заглянул в окошечко - там гудели одни мухи, гудели целыми роями: на стеклах, под потолком, в горшках, стоявших па лавках. К хате был пристроен скотник; и там не оказалось никого. Ворота были открыты, и солнце сушило двор, запаленный навозом...
- Вы куда? - внезапно окликнул меня женский голос. Я обернулся: на обрыве: над долиной, на меже бахчи сидела жена старшего Тимченки, Ольга Семеновна. Не вставая, она подала мне руку, и я сел с ней рядом.
- Скучно? - спросил я, глядя ей прямо в лицо. Она опустила глаза на свои босые ноги. Маленькая, загорелая, в грязной рубахе и старенькой плахте, она была похожа на девочку, которую послали стеречь баштаны и которая грустно проводила долгий солнечный день. И лицом она была похожа па девочку-подростка из русского села. Однако я никак не мог привыкнуть к ее одежде, к тому, что она босыми ногами ходит по навозу и колкому жнивью, даже стыдился смотреть на эти ноги. Да она и сама все поджимала их и часто искоса поглядывала на свои испорченные ногти. А ноги были маленькие и красивые.
- Муж ушел на леваду молотить, - сказала она, - а Виктор Николаич уехал... Павловского опять арестовали за отказ от солдатчины. Вы помните Павловского?
- Помню, - сказал я машинально. И мы смолкли и долго смотрели на синеву долины, на леса, пески и меланхолично зовущую даль. Солнце еще грело нас; круглые, тяжелые арбузы лежали среди длинных пожелтевших плетей, перепутанных, как змеи, и тоже грелись.
- Отчего вы не откровенны со мной? - начал я. - Зачем вы насилуете себя? Вы любите меня.
Она съежилась, подобрала ноги и прикрыла глаза; потом сдунула волос, упавший на щеку, и с решительной улыбкой сказала: - Дайте мне папироску.
Я дал. Она затянулась раза два, закашлялась, далеко бросила папиросу и задумалась.
- Я с самого утра так сижу, - сказала она. - Куры приходят с самой левады расклевывать арбузы. И не знаю, почему нам кажется здесь скучно.
Над долиной, верстах в двух от хутора, куда я пришел на закате, я сел, снял шляпу. Сквозь слезы я смотрел вдоль, и где-то далеко мне грезились южные знойные города, синий стенной вечер и образ какой-то женщины, который слипался с девушкой, которую я любил, но дополнял ее своею таинственностью и той детской печалью, которая была в глазах маленькой женщины на баштанах...
http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1240.shtml
|
| |
| |
| Анастасия | Дата: Понедельник, 24 Дек 2012, 13:30 | Сообщение # 10 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 236
Статус: Offline | ДВЕ КАПЛИ МАСЛА....
В один прекрасный день сын подошел к отцу и спросил:
- Папа, что нужно сделать, чтобы добиться успеха в жизни?
- Не знаю, сынок. Этот вопрос сложен для меня, иди, спроси у мамы.
- Не знаю, сынок, – ответила мама, – иди, спроси у старого мудреца, который живет на высокой горе в старинном красивом замке.
Мальчик отправился в путь к старинному замку. Когда он зашел в замок, он встретил мудреца и спросил его: - Мудрец, ты очень умный и видел жизнь, скажи мне, что нужно для того, чтобы добиться успеха в жизни?
- Трудный вопрос, – ответил мудрец. - Я обязательно отвечу тебе на него, но несколько позже. А пока ты иди и посмотри на красоты моего дворца, попробуй все яства, которые найдешь на кухне, послушай пение дивных птиц, которые живут в моих садах. А потом возвращайся за ответом.
Мальчик уж собрался было идти разглядывать дворец, но мудрец остановил его:
- Совсем забыл тебе сказать. Возьми эту ложку, в ней – две капли масла, и, смотри, не разлей, пока будешь рассматривать дворец.
Через некоторое время мальчик вернулся, и в руке он держал ложку с двумя каплями масла.
- Ну, как, – спросил мудрец, – понравился тебе мой дворец?
- Я ничего не видел – боялся разлить масло, – ответил мальчик. Мудрец отправил его рассматривать дворец вновь. Через пару часов мальчик, возбужденный и радостный, вернулся к мудрецу. Он с воодушевлением начал рассказывать, что в жизни не видел такой красоты! Когда мудрец попросил показать ему ложку, оказалось, что в ложке ничего нет.
- Ты спрашивал меня, как добиться успеха в жизни? Я могу ответить тебе на этот вопрос, - сказал ему старец.
- Мы рождаемся для того, чтобы радоваться жизни, наслаждаться ее красотами, впитываем в себя то, что видим и слышим. Со временем мы накапливаем опыт, который помогает нам в жизненных ситуациях. Одновременно с этим мы становимся осторожнее, осмотрительнее, боясь потерять то, что нажили, как те две капли масла, которые ты пролил, рассматривая красоты дворца. Секрет успеха заключается в том, чтобы помнить о тех каплях масла в своей ложке.
Ольга Рожнёва
"ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК"

Весеннее солнце грело ласково, на сугревках тянулась вверх молодая травка, а ветер приносил с огромного пруда волны холодного воздуха, серая рябь бежала по воде. «Самая простудная погода», – подумала баба Катя, поправляя шаль на голове. Скамейка у материнской могилки скособочилась, нуждалась в покраске, да и крест бы поправить не мешало. Только деда не дождешься - он больше по части бутылочки проворный. Вот и сейчас: специально позвала его на кладбище после Родительской, чтобы народу поменьше, чтобы не пошел старый по всем знакомым вкруговую, но он и тут уже ухитрился углядеть дармовую выпивку и пропал. Непутевый, одно слово… Как только с ним жизнь прожила? Каким был по молодости – таким и остался, ничуть не изменился. Улыбнулась сама себе: как же не изменился-то? И ростом ниже стал, и от кудрей черных ничего не осталось – плешина одна. А всё королем смотрит. Баба Катя вздохнула, не спеша стала прибирать могилку, убирать сухую траву. Солнышко пекло спину, но скидывать пальто она не стала – пусть застарелый радикулит прогреется как следует. Народу вокруг почти не было, все уже побывали, помянули, прибрались, лишь рядов за семь, далеко – не видно, сидела компания да слышался разговор чересчур громкий для кладбища – видимо, уже напоминались и хватили лишнего. Не туда ли старый отправился? Посмотрела вокруг: а кто же это совсем рядом с ней, в ближнем ряду, у Нины? К ней ходить было некому – никакой родни, разве подружки на минутку заглянут, и баба Катя присмотр за могилкой взяла на себя – уж очень хорошим человеком была эта Нина. Катерина вгляделась: мужчина, нестарый еще, весь седой, ставил небольшую оградку на могиле. Рядом лежали инструменты – видно, настроен серьезно. Кто бы это мог быть? Неужто Семён вернулся? Нет, вроде непохож…
Семён с Ниной жили в квартире напротив. Молодые еще – было им по тридцать или нет? Вроде и не было… Нина – добрейшей души человек, всегда Катерину выручала с деньгами до зарплаты, а также по-соседски угощала пирогами. Тогда, 20 лет назад, Катя еще работала – до пенсии оставалась пара годочков. И Семён был парень хоть куда, прямо как ее дед в молодости: красивый, высокий, крепкий. Работал на хорошем месте, Нину на машине возил. Детишек у них, правда, долго не получалось – но они надежды не теряли. А Господь, видимо, не зря детей не давал: как бы они потом без матери и отца росли?! Да, Семён-то всем был хорош, но вот имел один недостаток серьезный: заводился с пол-оборота. Гневливый, вспыльчивый – не свяжись. Чуть что не по нему – кровью нальется весь, как бык ноздри раздувает, каблуком землю роет. Правда, с женщинами никогда не связывался – это да. Мать свою любил, жену пальцем не трогал. А вот с мужиками… Идет, бывало, с работы, аж лицом темный, пыхтит как паровоз – это ему опять что-то не под нос сказали. Смотришь: полчаса прошло, на балкон выходит – уже лицо другое, не злое. А это Нина постаралась – ласковая, добрая, она ему, злющему-то, сразу – раз и тарелку с борщом под нос. По голове погладит, приласкает – его и отпустит. И вот как-то раз – дело к ночи уже, Катерина фильм по телевизору смотрела – в дверь ломятся, кулаками колотят. Она испугалась, деда с дивана подняла. Открыли – Семён бледный стоит: «Я Нину убил». Как так – убил?! Побежали на площадку, зашли в квартиру: лежит Ниночка на кухне на полу мертвая. Он, вишь, толкнул ее, да в недобрый час – она о табурет споткнулась, упала и об угол стола виском и ударилась.
Как же он горевал-то! На суде просил-требовал: дайте мне, дескать, высшую меру наказания! Посадили надолго, после этого о нем и не слышно было. Да что она сейчас думать-гадать будет – пойдет и узнает. Баба Катя набралась храбрости, тихонько подошла к мужчине, несмело поздоровалась: – Бог в помощь!
Седой оглянулся, после паузы негромко сказал:– Здравствуйте, тетя Катя.
– Семё-ён! Ты ли это?! Живой-здоровый...
Он не ответил. Посмотрел внимательно:– Не вы ли за могилкой ухаживали?
– Я…
– Спаси вас Господь!
Тяжело опустился на скамейку, сник головой: – Я-то живой… А Ниночка моя… В голосе слышалась застарелая мука. На тропинке и под скамьей пробивалась молодая крапива. Пели птицы. На ель рядом с могилкой опустилась здоровенная пестрая сорока, застрекотала весело – Семён не поднял низко склоненной седой головы. Баба Катя почувствовала, как острым кольнуло сердце, подошла ближе, присела рядом:
– Бедный ты мой Сёмушка… Что же ты? Как? Где живешь? Отсидел?
– Отсидел, тетя Катя.
– Как там, в тюрьме-то, тяжело тебе, чай, было?
– Всякое было. Да я радовался, когда тяжело. Ждал, что облегчение душе будет, если тело-то помучится. Не было облегчения. Стало легче, когда в Бога поверил. Теперь знаю, что в раю Нина. А я уже на земле свои мытарства начал проходить. Знаю, что молится она там за меня – по молитвам ее милосердной души Господь мне Себя открыл. Я вот сейчас всё вспоминаю – так это ведь не я был совсем. Будто не со мной это происходило… А отвечать – всё равно мне.
Баба Катя задумалась:
– Так ты теперь верующий?! Что, и в церкву ходишь?
– Хожу. Я после зоны в монастырь поехал. Только там меня не взяли – и правильно сделали: куда мне с моими грехами в братию… Старец сказал: «В монастырь тебя пока не возьмем. Иди-ка ты в приют при обители – ухаживай за больными, за калеками». Я и пошел. Живу там, что скажут – делаю.
– И – как?
– Старец за меня молится – так думаю. Стараюсь потяжелее работу на себя взять, по ночам встаю к больным. За кем ухаживаю – тоже молятся. По их молитвам надежда появилась.
– На что надежда-то?
– На милость Божию. Простите, тетя Катя, отвык я много говорить – устал. Дай вам Бог здоровья! Сейчас еще поработаю да и пойду. Ненадолго приехал: могилку поправить, памятник поставить.
– Хорошо, сынок, работай… Я тоже пойду.
Вернувшись к себе, еще долго оглядывалась. От седого чуть тянуло ладаном, лицо его было светлым. И весь он – какой-то легкий, тихий – действительно, совсем не походил на прежнего мрачного, темнолицего Семёна.
– Катя-Катеринка, ты моя малинка!
– Пришел, старый! Где носило-то тебя?! Еле на ногах ведь держится – посмотрите на него!
– А кто там у Нины?
– Не узнал?! Это Семён!
– Какой Семён?! Совсем моя Катя-Катеринка слепая стала! Ничего общего с Семёном! Я что, соседа бывшего не узнаю, что ли?!
– Говорю тебе: Семён!
– А вот сейчас проверим!
И расхрабрившийся от стопки – пошел к седому. До растерявшейся бабы Кати доносилась только брань, которой потчевал ее дед соседа. Тот стоял молча, потом, не изменившись в лице, что-то ласково ответил.

Дед развернулся и поковылял назад. Вернулся – довольный:
– Я же говорил тебе: не Семён это! Кабы Семён был – я бы тут уже пятый угол искал! Я его и так и этак – а он хоть бы разок сругался! Отцом назвал… Другой это человек, Катерина!
И баба Катя не стала возражать мужу.
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/78808.htm
Константин Церцвадзе
«Я СЧАСТЛИВ, МОЙ АНГЕЛОЧЕК!»
Дневник семилетнего Георгия
Когда мама маленького Георгия, имени которой я по ее просьбе не буду называть, показала мне и моей бабушке его предсмертные записки в дневнике, у меня оборвалось сердце. Затаив дыхание и глотая слезы, я не знал, что и как объяснить этой несчастной женщине. Я просто понял, что нам не дано постичь Божий Промысл.

03.11.1999
Здравствуй, мой ангелочек... Я так буду к тебе обращаться. Я знаю, что ты меня любишь. Я плохо себя чувствую. Сегодня меня повезли к врачу, и я много плакал. Я так боюсь уколов. Мне сказали, что ещё несколько раз должны сделать мне то же самое. Я хочу, чтобы мой папа и моя мамушка не нервничали. Сегодня я увидел, как мать плакала. Прошу, мой ангелочек, пусть она никогда больше не будет плакать. Больше ничего не хочу. Целую тебя в пушистые крылышки. Твой Георгий...
08.11.1999.
Мой ангелочек, здравствуй. Знаешь, я скучал по тебе. Я так счастлив. Я услышал, что у меня какое-то заболевание, которое называется именем морского животного − раком. После того, как доктора сказали это, все изменилось к лучшему... Все приносят конфеты, шоколад, сладости, а главное... главное − меня все обнимают и целуют. Все играют со мной. Я уже не один. Со мной даже папа играл. Он уже не такой занятой, как раньше. Мой старший брат, мой двоюродные братья и даже тот мальчик Коля, со двора. Спасибо, что ты мне помог заболеть этим, иначе со мной никто бы не играл. Ты же помнишь, как мне говорили, что им некогда, что они старшие. А сейчас всем захотелось. Я так счастлив. Спасибо Тебе, ангелочек. Скоро вернусь. В эти дни меня не будет дома, мне должны сделать много уколов. Да я и не боюсь их, потому что мой отец будет сидеть рядом и держать в своих руках мою руку. Мы вместе самые классные. Скоро вернусь. Твой Гио.
27.11.1999.
Мой ангелочек, здравствуй. Мне плохо, всё болит. Уже ходить не могу. Не могу играть. А столько желающих поиграть со мной. Я всё же благодарен Тебе, мой ангелочек. Несмотря на то, что я уже не могу играть, они все по очереди приходят ко мне и целуют меня, обнимают, рассказывают смешные сказки. Даже моя учительница пришла к нам и обняла меня... Ну и что, что не могу ходить. На дворе всё же лютая зима. Сегодня ездили в церковь, батюшка мне дал принять Кровь и Плоть Христа. Говорят, что Христос поможет. А я не сказал им, что Он уже помог. Пусть это останется моей с Тобой тайной. Мой белый и любимый ангелочек... Обнимаю. Твой Гио...
28.11.1999.
Ангелочек, мой любимый... Скоро наступит Новый год. Как хочу, чтобы я смог танцевать перед ёлкой. Помоги мне выздороветь, но если меня никто не будет тогда обнимать, то оставь меня таким, какой я сейчас.
03.12.1999.
Ангелочек, извини, что я тебя разбудил. Сейчас 3 часа ночи. Я попросил своего отца принести мне ручку. Знаешь, у меня руки болят. Не могу писать. Одно лишь скажу: я тебя люблю очень. Не думай, что я тебя забыл. Твой Гиоша крепко тебя обнимает.
08.12.1999.
Мой любимый ангелочек. Мне лучше после большого и долгого укола. Спасибо Тебе, я знаю, что без тебя я не чувствовал бы себя хорошо. Помнишь, моя бабушка говорила, что без воли Божией ничего не происходит. А ты же родственник Бога. Передай Богу, что я хочу Его обнять. Я ухожу, у меня ручки опять заболели. Целую твои пушистые крылышки. Твой Гио.
14.12.1999
Мой ангелочек... Я так счастлив. Я, оказывается, так здорово похудел. Вчера, когда меня нес мой отец на руках, я посмотрел в зеркало, и я был так рад. Меня уже не будут называть пухленьким, я уже как настоящий танцор, просто моих волос не хватает. Иногда так холодно голове, но ничего, все говорят, что я так более симпатичный, чем с волосами. Спасибо, что ты рядом. Мои одноклассники пришли вместе с учительницей и подарили мне большую икону Боженьки. Какая на самом деле любящая моя учительница, Анастасия. Раньше была строгая, а сейчас меня так обнимает... Я люблю твои нежные и сладкие крылышки. Твой Гио.
17.12.1999.
Сегодня день св. Варвары. Испекли лобиани, много чего, но я не смог ничего съесть. Не знаю, что со мной. В прошлом году, ты же помнишь, я так наелся лобиани (лепешки с фасолью), что еле ходил. Наверное, лучше так. Раз ты так хочешь, тогда я не буду есть. Ты же родственник Бога. Передал ли ты Ему, что я Его хочу обнять?! Люблю тебя. Твой Гиоша.
23.12.1999.
Ангелочек. Я не могу хорошо видеть, но я счастлив. Вчера мне приснился Иисус, Который обнял меня. Ты сказал Ему, я знаю. Прости, я пойду спать. Люблю тебя.
30.12.1999.
Ангелочек... Завтра уже Новый год. Мне получше. Я постараюсь станцевать для тебя, для мамы и для всех. Готовлю пригласительные открытки.
01.01.2000.
С Новым Годом, ангелочек... Мой любимый, спасибо Тебе, я смог станцевать. После танца у меня заболели ноги, руки, но всё стоило этого. Все были в восторге, даже плакали от радости. Столько у нас гостей. Я же об этом и мечтал. Как я счастлив. Люблю тебя, мой друг.
04.01.2000.
Мой ангелочек... Мне так больно. Всё болит. Не могу хорошо видеть. Помоги мне, пожалуйста, почувствовать себя хорошо. Я устал от боли... Я знаю, что мой Иисус меня любит, и, если я умру, ты же поможешь подойти к Нему и обнять Его крепко-крепко? Он же обнимет меня?! Твой Гиоша.
***
На этом дневник и земное общение с ангелом маленького Георгия оборвались. Его не стало 5 января, в два часа дня. До того с утра была агония, слезы, тяжелое дыхание... Прощался он со всеми только своими добрыми, детскими и усталыми от боли глазами. Глазами, которые в последние минуты жизни, не отрываясь, взирали на икону Господа нашего Иисуса Христа. Возможно, тайна Промысла приоткрылась в том, что именно неизлечимая болезнь семилетнего мальчика пробудила во многих проявления любви. Нашёл для него время и отец, который раньше был занят, а после печальных и страшных событий не отпускал его маленькую ручку из своих рук, обнимала чаще мать, выражали любовь друзья, родственники, соседи...
Плод всего этого - безмерная радость маленького Георгия, который вопреки болезни и боли наслаждался той теплотой, которая досталась ему в последние отмеренные минуты своей жизни. Он был настолько счастлив и чист, что в нём не было ни капли обиды. Он не задавался вопросом, почему ему не уделяли внимания до начала болезни. Он, осознанно или неосознанно, был благодарен Богу за всё. До последнего вздоха отдавал любовь, здоровье, доброту. Он был счастлив оттого, что смог из последних сил станцевать свой предсмертный танец и этим порадовать своих близких. Наверное, такого поступка не могут совершить многие даже взрослые люди, не говоря о маленьком ребёнке. Он общался с ангелом, укреплялся в вере, изливал из своего маленького сердца любовь и мечтал обнять Господа Нашего Иисуса Христа... И как же я уверен, что врата Царствия Небесного открылись для него, и он со своей детской искренностью воззвал к Иисусу: «Обними меня, Боже! Я так сильно Тебя люблю!»
http://www.pravoslavie.ru/95544.htm
СКАЗКА ПРО ДОМОВОГО

Домовой сидел у печки и тихонько вздыхал - хозяйка умирала. Старушке было почти 90. Раньше шустрая бабушка, в последнее время не вставала с постели, годы брали своё. Домовой сидел и вспоминал: вот хозяйка молодая - только женой в дом вошла, вот уже детишки бегают, а вот уже и старушка. И всегда чистоплотная, приветливая и очень хозяйственная. Домового любила и почему- то звала Мефодий, а иногда и Федей. Всегда ставила под печку блюдце с молоком, а то и ложила шоколадную конфету. Сейчас дом, как осиротел. Даже кот Степан это чувствует. Хоть и живёт тут пока сын хозяйки, а не то. Каждую ночь Мефодий подходил к кровати и смотрел с тревогой на хозяйку и облегченно вздыхал - жива ещё. Не за долго до болезни, она будто увидела его и сказала: - Федь, ты уж новых хозяев не обижай, если будут. А то я помру и дом умрёт следом. Жалко- дом хороший, да и ты живешь. Помогай, ладно? Ночь за окном, да и декабрь на дворе. Холодно сегодня и как-то неуютно. Полночь пробили часы. Раньше Мефодий их любил, с их боем дом будто оживал. А сейчас, казалось отсчитывают последние часы. К утру старухи не стало. Домовой затаился на печке в углу, и сопел, сопел...., а хотелось плакать. После поминок соседка баба Маня поставила под печь блюдце с угощением: - пусть помянет. Вера всегда ему блюдце с молоком ставила.
Вот и всё. Дом опустел. Все разошлись,разъехались. Часы остановили,кота соседка забрала. Тоскливо.... Это была самая длинная зима у Мефодия. Днями он отсиживался на холодной печи,а ночью,бродил по такому же холодному дому. Изредка выходя на улицу он обходил двор, а потом сидел на заснеженном крыльце с тоскою глядя на огни в окнах соседних домов. Он знал, что в деревне есть дом без домового, но не уходил- обещал хозяйке за домом смотреть. Кот тоже нагонял тоску,часто прибегал во двор и орал у двери.
Всё изменилось весной. В середине мая к дому подъехали две машины. Из одной вылез сын хозяйки, а из другой женщина лет шестидесяти и молодой мужчина. Домовой с жадностью и любопытством поглядывал в окно.
- Вот сад,тут пять яблонь, смородина и малина есть- объяснял сын хозяйки. Зашли во двор- тут вот сарай. Раньше мама козу держала, а сейчас всё дровами забито. Даже немного угля в брикетах есть. Ну, пошли в дом?
Дом приезжим понравился: чистенько, уютно, хоть и пахнет сыростью.
- Да нам на лето снять, у нас дачи нет...
- Да мне тоже дом жалко - я потому и объявление дал. Смотреть за домом некому. Я у матери один остался,да и то ,на север, на полгода уезжаю,а детям и внукам дом не нужен. Так, в подполе и картошку и всё найдете. Газ в баллонах есть. Телефон мой у вас имеется. Живите.
Когда стали выходить, женщина достала из кармана конфету и положила на печь. Мужчина заметил, улыбнулся: - Матушка так делала. Говорила - домовому.
Домовой снова остался один, но ненадолго. Через три дня снова подъехала машина. Кроме молодого мужчины и той женщины, вылезла девочка лет шести и ее мама. Девочка с любопытством оглядывалась по сторонам.
- Бабушка, а мы теперь тут жить будем?
- Да, тут и проведем лето. Давайте сумки выгружать, а то дел много.
Мефодий с любопытством наблюдал, как дом постепенно оживал. Затопили печь,чтобы прогреть дом. Вынесли сушить, подушки, перины, половички, поснимали - постирали занавески. Работа кипела: всё мылось,выбивалось. Домовой узнал, как всех зовут: старшую женщину Анна Михайловна, сын- Андрей, невестку - Лена, а внучку- Ниночка. Вечером уставшие сели ужинать. Анна Михайловна даже успела напечь блинов. Семья сидела, тихо переговаривалась, то ещё завтра надо сделать. Перед тем, как лечь спать, Анна Михайловна поставила под печь блюдце с чаем и кусочек блина: - Извини хозяин, молока сегодня нет.
Когда все уснули, домовой тихонько прошелся по дому, долго стоял перед часами. Они опять ходили и отбивали время, хотя Андрей сомневался, что они пойдут. В первые за долгие месяцы тоски и одиночества домовому было хорошо и спокойно. Через день Андрей и Елена уехали, а Нина с бабушкой остались. Жизнь в доме и во дворе продолжалась. Пришел даже кот Степан, сначала дичился, но через три дня, даже позволил Нине себя погладить. И сейчас, довольный жизнью развалился на крыльце. Постояльцы прижились, перезнакомились с соседями, стали брать у них молоко. Убрали потихоньку сад, насеяли везде цветов, за сараем нашли баньку - ещё хорошую. Успели вскопать и засадить грядки,под лук- огурцы. И каждый день Анна Михайловна ставила под печь блюдце с молоком. Однажды Ниночка спросила: - Бабуль, а ты зачем это делаешь?- бабушка улыбнулась
- Хозяину дома. Дом видишь, какой он нас хороший - внучка согласно закивала головой. - бывает дом и чистый и богатый а неуютно. Там или домового нет, или не смотрит он за ним. А есть дома старые, бедноватые, но зайдешь, и уходить не хочется. Значит хозяевам он - домовой помогает. Вот и надо его угощать. Заслуживает!
- А если я ему конфету дам, поможет? - Анна Михайловна улыбнулась
- Поможет. Только требовать нельзя, а попросить можно. Так меня моя бабушка учила.Нина посмотрела на печку:- А зовут- то его как? У него же имя есть?
- Есть. Время придет, сам подскажет.
Через два дня внучка опять спросила про имя домового. Бабушка сказала:- Вот , какое сегодня мужское имя услышим от чужих людей, так и будем звать. Весь день Нина ждала хоть каких гостей, но ни кого не было. Только вечером к ним в дом заглянула девушка.
- Ой, здравствуйте. Я внучка бабы Мани,мы вчера приехали. Кота с собой возим,а он куда-то сегодня убежал. К вам не забегал? Большой такой, дымчатый, Мефодием зовут.
- Нет, у нас только свой - Анна Михайловна показала на стул, где спал кот - а чужого не было. Когда девушка ушла, Нина бросилась к бабушке: - Бабуля,ты слышала? Мефодий! Домовой на печке улыбнулся и решил пошуметь, мол с именем угадали.
Дни проходили за днями,Мефодий привык к жильцам и уже не представлял дом без них. Андрей с женой приезжали на выходные. Починили крыльцо, подправили баньку. Даже стол Андрей сделал на улицу и теперь вся семья собиралась ужинать во дворе, под кустом черемухи. Мефодий заметил,что Анна Михайловна стала задумчивой, она делала дела, возилась с внучкой и о чем-то думала. Пока в следующий приезд сына не завела разговор.
- Андрей, Лена, мне надо с вами поговорить. Я хочу остаться тут жить. Вам в городе и без меня хорошо, я только мешаю.
- Мама!
- Подожди! Я много думала. Я устала от городской жизни. Я же деревенская, только деревни моей уже нет. А тут мне хорошо. Денег у меня немного есть и я думаю выкупить дом. Тут магазин есть, фельдшер есть, почта, соседи хорошие, райцентр рядом. А вам одним пожить надо, может ещё ребенка родите. А ко мне приезжать будете по возможности, ехать то почти три часа.
Разговоров в тот вечер было много, но Анна Михайловна осталась на своем, хочет жить тут- в деревне. Ну, раз тут, то в следующий приезд, дети ей собаку привезли:, лопоухого щенка, на трассе подобрали. Домовой радовался: дом нашел хозяев. Тихо вздохнув, он слез с печи и пошел бродить по дому. Кот Степан почуяв его - зашипел. - тихо ты - зашипел в ответ домовой, - дом разбудишь. Он посмотрел на часы - первый час ночи. Пошлепал к шифоньеру, нашел клубок пряжи, Анна Михайловна потеряла, Нине кофточку вязала,положил на видное место. Пошел дальше. Дошел до кровати Нины, поправил сползшее почти одеялко. Наклонился, поднял куклу, а то завтра наступит, когда вставать будет. Странная какая-то: длинная, худая, одни руки и ноги. Нина её Барби называла. Надо завтра на чердаке пошуметь (хозяйка там ещё не разбирала), там целый сундук с игрушками, будет чем Нине играть. Хорошо! Дом живой! Хозяева есть, можно и молока с пирогом поесть. И Мефодий пошлепал под печку - угощение есть и какой-то Чупа чупс Нинин...
https://fairytale4us.ru/blog....ihal...
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 12 Фев 2013, 01:02 | Сообщение # 11 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Г.Х. Андерсен
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году - канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая.

Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать - вот какие они были большие, - и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят.

Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, и одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая и так измучилась, бедняжка!

Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изо всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем, ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала!

Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец прибьет ее; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками.

Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и... чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечечка.

Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, и вдруг... пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка.

Она чиркнула еще одной спичкой, спичка загорелась, засветилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в пей стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был, с вилкой и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена.

Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след.

"Кто-то умер", - подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей: "Когда падает звездочка, чья-то душа отлетает к Богу"
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 12 Фев 2013, 01:10 | Сообщение # 12 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
Девочка снова чиркнула о стену спичкой и, когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую.
- Бабушка, - воскликнула девочка, - возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка!

И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке, - вот как ей хотелось удержать бабушку! И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко, туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, - они вознеслись к Богу.

Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щечках ее играл румянец, на губах - улыбка, но она была мертва; она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.

Девочка хотела погреться, - говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.

http://bogalub.ya.ru/replies.xml?item_no=1464

Когда Ваше сердце полно благодарности, любая дверь, которая кажется закрытой, может привести Вас к удивительным открытиям. Одна женщина пришла в деревню на закате. Она просила приюта. Но жители деревни захлопнули двери перед ней. Они выгнали ее из деревни. Ночь была холодна, и женщина осталась голодная, и без приюта. Вишня в поле дала ей приют. Ночью было по-настоящему холодно, и она все не могла заснуть. И это было опасно - дикие звери… В полночь она проснулась, дрожащая от холода, и увидела: в весеннем ночном небе распустившиеся цветы вишни улыбаются туманной луне. Переполненная, побежденная красотой она встала и сделала реверанс в сторону деревни: «Благодаря им, я осталась без ночлега, но нашла саму себя ночью под цветущей вишней и туманной луной!». С большой искренностью она благодарила этих людей, которые отказали ей в ночлеге; ведь иначе она спала бы под обычной крышей, и пропустила бы эти цветы вишни, этот шепот цветов и луны, и это молчание ночи, такое полное молчание ночи. Она не сердилась, она приняла это, не только приняла, она приветствовала это. Она чувствовала себя благодарной. Жизнь великолепна и каждый момент она приходит с тысячей и одним подарком для Вас. Но Вы так заняты, так поглощены мыслями с Вашим желающим умом, Вы так полны вашими мыслями, что Вы отвергаете все эти подарки.
ХРУПКИЙ ДАР
Как-то в одно селение пришёл и остался жить старый мудрый человек. Он любил детей и проводил с ними много времени. Ещё он любил делать им подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, но ещё более хрупкие. Однажды родители не выдержали и пришли к нему:
- Ты мудр и желаешь нашим детям cтолько добра. Но зачем ты делаешь им такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно ломаются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно.
- Пройдёт совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то подарит им своё сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим бесценным даром хоть немного аккуратней?

Некогда жил мудрец. Один из его учеников решил проверить его мудрость. Ученик задумал следующую хитрость: "Я спрячу в кулаке бабочку и спрошу у мудреца: "Живая бабочка или мертвая?". Если он скажет, что бабочка живая, я крепче сожму кулак и раздавлю её. А если скажет, что она мёртвая, я разожму пальцы и выпущу бабочку".
Ученик, как и задумал, задал вопрос мудрецу, на что мудрец ответил: "Тебе решать – жить бабочке или нет. Всё в твоих руках".
ПРИТЧА О СЧАСТЬЕ
Однажды три брата увидели Счастье, сидящее в яме. Один из братьев подошёл к яме и попросил у Счастья денег. Счастье одарило его деньгами, и он ушёл счастливый. Другой брат попросил красивую женщину. Тут же получил и убежал вместе с ней вне себя от счастья. Третий брат наклонился над ямой.
- Что тебе нужно? – спросило Счастье.
- А тебе что нужно? – спросил брат
- Вытащи меня отсюда, - попросило Счастье.
Брат протянул руку, вытащил Счастье из ямы, повернулся и пошёл прочь. А Счастье за ним побежало.

Один старец призвал однажды своих учеников и показал им лист чистой бумаги, в середине которого стояла черная точка.
- Что вы здесь видите? - спросил старец.
- Точку. - ответил один.
- Черную точку. - подтвердил другой.
- Жирную черную точку.-уточнил третий.
И тогда их любимый учитель сел в угол и заплакал.
- Скажи нам, о чем ты так горько плачешь? - удивились ученики.
- Я плачу о том, что все мои ученики увидели только маленькую черную точку и никто из них не заметил чистого белого листа...
Как часто мы судим о человеке только по его маленьким недостаткам, забывая о достоинствах.

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину: - В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло - зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро - мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: - А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: - Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Купил человек себе новый дом - большой, красивый - и сад с фруктовыми деревьями возле дома. А рядом в стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота подбросит, а то ещё какую гадость натворит. Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там - ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и пошёл к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: "Наконец-то я достал его!"
Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал: - Кто чем богат, тот тем и делится!

Ослик шел по дороге, как вдруг начался дождик. Крупные капли били ослика по спине. "Больно", -подумал ослик. И спрятался под зонтик. Капли стучали по зонтику, и ослик подумал: "Теперь больно зонтику". И вместе с зонтиком он укрылся в домике. И услышал, как дождь падает на крышу. Теперь было больно домику. И тогда ослик залез на крышу и закрыл домик.
- Зачем ты это делаешь, ослик? - спросил его медвежонок. - Разве тебе не больно?
А ослик ответил: - Кому-то всегда бывает больно. Но я сильней, чем зонтик, и сильней, чем домик. А больно должно быть тому, кто сильный..."

Мальчик в толпе потерял маму и, плача, спрашивает у всех: - Вы не видели женщину, идущую без маленького мальчика, который очень похож на меня?
РАДОСТИ

Ребята сидели на лавочке и разговаривали.
- У меня радость, - сказала Аленка, - у меня новая лента, смотрите какая - блестящая!
Она показала свою косу и новую ленту в косе.
- У меня тоже радость, - сказала Таня, - мне цветные карандаши купили. Целую коробку.
- Подумаешь, радости! - сказал Петя. - У меня вот удочка есть. Сколько хочешь рыбы наловлю. А что там карандаши какие-то? Испишутся, и все.
Тут и Демушка захотел похвалиться.
- А у меня синяя рубашка! - сказал Демушка и растопырил руки, чтобы все видели, какая у него красивая рубашка. Только Ваня слушал и ничего не говорил.
- А у Ванюшки даже никакой, хотя бы маленькой, радостинки нет, - сказала Аленка, - сидит и молчит.
- Нет, есть, - сказал Ваня, - я цветы видел.
Все сразу стали спрашивать: - Какие цветы?
- Где?
- В лесу видел, на полянке, когда я заблудился. Уже вечер, кругом темно. А цветы стоят белые и как будто светятся.
Ребята засмеялись.
- Мало ли в лесу цветов! Тоже радость нашел!
- А еще я один раз зимой крыши видел, - сказал Ваня.
Ребята засмеялись еще громче.
- Значит, летом ты крыши не видишь?
- Вижу. Только зимой на крышах был снег, и солнце светило. С одной стороны крыша синяя, а с другой - розовая. И вся блестит.
- Вот еще, - сказала Аленка. - Как будто мы снег на крышах не видели. А что он был синий да розовый, это ты выдумал.
- Да он просто так, - сказал Петя, - он нарочно!
- Может, у тебя еще какие радости есть? - спросила Таня.
- Есть, - сказал Ваня, - еще я видел серебряных рыбок.
- Где? - встрепенулся Демушка.
- Настоящих? Серебряных? - Петя даже вскочил. - В пруду? В речке?
- В луже, - сказал Ваня.
Тут все так и повалились со смеху. А Петя проворчал: - Я так и знал. Он же все нарочно!
- Нет, не нарочно, - сказал Ваня, - после дождя под яблоней была лужа. Голубая. А в нее солнце светило. И ветер был. Вода дрожала, и в ней серебряные рыбки играли.
- Вот болтун, - сказала Аленка, - никакой у него радости нет, так он и придумывает.
Аленка смеялась. А Таня сказала задумчиво: - А может, у него этих радостинок побольше, чем у нас. Ведь он их где хочешь найдет...
Л.Воронкова
http://www.vzov.ru/2012/06-08/27.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 15 Авг 2013, 23:21 | Сообщение # 13 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | ЖЕМЧУЖИНА

Ранним утром, когда солнце только показало свои первые лучи и озарило гладкую поверхность воды ласковым золотистым светом, молодой парень купался в море. Он нырял с открытыми глазами и его переполнял восторг от увиденной красоты подводного мира. Стая серебристых рыбок тонким ручейком проплывала мимо, прячась в зарослях водорослей. Между камнями он увидел большую раковину. Поднялся к поверхности, чтоб вдохнуть побольше воздуха и вновь нырнул, подплывая к ней поближе. Недалеко от раковины он увидел перламутровую бусину.
- Жемчужина! – радостно прокричала мысль.
- Надо же какая большая! Никогда не видел таких!
Он аккуратно взял бусину и поспешил к своему дому по дороге, подпрыгивая от счастья. Молодой парень уже представлял, как обрадуется мать, как будет гордиться отец. Свою семью он застал за завтраком.
- Смотрите, родные мои, что я нашел в море! Вы видели когда-нибудь такую большую жемчужину? – с гордостью спросил он и протянул им находку.
- Ой, да это же целое состояние - тихо сказала женщина, боясь прикоснуться к чуду.
- Какая красота, да еще и небесно-голубая…
- Вот это находка! Молодец сынок! – сказал отец, похлопывая парня по плечу.
До позднего вечера в доме все только и говорили о жемчужине, и приняли решение завтра же ехать к ювелиру. Парень долго не мог уснуть, перед глазами рисовались картинки его будущего… Вот он покупает новый дом для родных, вот выбирает маме золотой браслет, вот отправляется в путешествие на новой машине. Он так и уснул с улыбкой на лице. Утром парень поднялся вместе с солнцем, тихонько вышел из дома, чтоб никого не разбудить… Старый ювелир долго крутил находку в руках, смотрел и даже пробовал на вкус. Наконец он сказал: - Жаль. Обычное стекло. Даже не представляю как эта бусина оказалась в море. Пустышка…
Все потемнело вокруг, парень не верил своим ушам. - Не может быть! – крикнул он, выхватил бусину из рук ювелира и выбежал из лавки, не разбирая дороги. Несколько дней он блуждал по берегу моря, не решаясь вернуться домой. Горькое разочарование разрывало его сердце. Он вернулся к тому месту, где нашел ее и с силой кинул ее обратно…
Прошли годы… Многое изменилось, но все так же золотистые лучи солнца ласкали гладкую поверхность моря и стайки рыбок выводили причудливые узоры, прячась в зарослях водорослей. Седой старик сидел на берегу и смотрел вдаль. Он вдыхал морской воздух, погружаясь в воспоминания прожитых лет, и ощущал себя молодым парнем, которого переполняет восторг и радость… И ему вдруг так захотелось испытать тоже что и в юности… Он вошел в воду, привык к ее прохладе, провел руками по зеркальной поверхности и нырнул. Легкость и единение с миром охватило все его существо. Он нырнул глубже и увидел раковину. Сердце сжалось от предчувствия. И вот его ладонь уже коснулась перламутровой бусины. Он не спешил. Солнце поднялось выше, пригревая своими лучами.
- Точно как в юности, небесно-голубая - думал он, медленно поворачивая ее в ладони.
– Жемчужина ты или стекло - разве это важно? Ты моя, - прошептал он, прижимая ее к сердцу. Он никогда не расставался с ней, как бы трудно не приходилось, она, словно, питала его силами, его сокровище, его сокровенная тайна… И только когда его не стало, его родные все же обратились к ювелиру. - Жемчужина! Невероятная! Невероятная жемчужина! – повторял ювелир не веря своим глазам.
А.Март
ЛЕС

Как можно не восхищаться и не любить лес? Я всей душой его люблю за тишину и пение птиц, люблю, когда ветер лохматит головы старым соснам, и елям, заставляя вспомнить их молодость. С огромным наслаждением ищу и рву ягоды, которые складываю в рот, ощущая изумительный и неповторимый аромат. Люблю слышать хруст сухих веток и смех в листве деревьев, когда маленький сорванец ветер играет с братьями в прятки. Люблю гулять и вдыхать запахи свежей травы, люблю наблюдать за переменами в лесной стране. Но больше всего я люблю осенний лес. Именно осень за ее спокойствие и буйство красок! В это время года я с наслаждением и волнением наблюдаю за природой. Дни становятся короткими и более прохладными. Стальные и темные цвета пришли на смену голубым краскам неба. Пения птиц становятся редкими и печальными - они готовятся покинуть свои гнезда в поисках привычного тепла и солнца. И только деревья, эти лесные великаны могут с радостью проводить летние дни. Осень, как гостеприимная хозяйка, щедро одарит их разноцветным убранством, с любовью и фантазией подбирая каждому его костюм. Люблю наблюдать за волнительным дуэтом, что совершает лист и ветер под музыку, которая слышна только им. Ветер, как настоящий кавалер, подхватывает лист и начинается танец. Это может быть утонченный и романтичный вальс или страстное танго. Танец завершается, несколько последних па… Ветер с нежностью и любовью кладет лист на землю. Последнее прикосновение, как прощальный поцелуй...
Дана
ТАМ, ГДЕ КРИЧАТ ДЕРЕВЬЯ

Какая странная вода! Моё лицо не отражается в ней. Сколько мне лет? Как выгляжу? Ладно, неважно. Главное – вспомнить заклинание. И тогда всё изменится. Люди вернутся в деревню. Я, молодая и румяная, иду с другом на годовой праздник. Красное платье, туфли-«лодочки», коса до пояса. Друг поглядывает весело. Он, кудрявый деревенский парень с глазами цвета гречишного мёда, недавно зачислен в университет. Я, приехавшая в гости к родным зеленоглазая горожанка, поступила в техникум. Учиться будем в разных городах, за 1000 км. друг от друга. Но это ничего. Июльский полдень. Звуки гармошки. Чья-то гостья звонко выводит частушку:
- Я тогда тебя забуду, мой милёнок дорогой,
Когда вырастет на камушке цветочек голубой!
Приближается голос разудалого мужичка. Он громко и старательно поёт в ответ:
- Я тогда тебя забуду, ягодиночка моя,
Когда вырастет на камушке зелёная трава!
Это отец моего друга. Уже наотмечался с утра. Но жена не ворчит – праздник же! Гостей из города и соседних деревень полно в каждой избе.
Как пахнут щи из русской печи! Томлёная возле зелёных щей пшённая каша покрыта плёночкой. По вкусу чем-то напоминает сгущённое молоко, но запах! Ароматы лугов, полей и недалёкого леса вплетаются в голоса людей, их еду, наполняют всё вокруг. Как пахнет июлем вода в пруду! Она чистая, отражает берёзовую семью и поблёскивает пятнышками солнца. Пьянит запах большой липы возле колодца. И кругом ходят, бегают, сидят с разговорами, обнимаются и смеются люди. Семнадцать дворов полны! В избах живут старики, мужики, бабы, румяные загорелые детишки… Как только вспомню заклинание – они вернутся. Нет, вы лжёте, деревья! Я – не стареющая ведунья. Смотрите: на мне красное платье! Я, вечно молодая, найду в памяти заклинание – и люди вернутся. Вам хорошо, ведь там остались берёзы, ивы, липы, яблони – вся ваша родня!
Там нет людей. Почти нет. Четыре жилых дома из семнадцати. Заросла дорожка вдоль деревни. В старом пруду некому больше купаться. Ещё немного – и деревни не станет. Знаю, что пропали уже сотни деревень в моей России! Вспомнить заклинание, вспомнить… Не верю, что нельзя вернуть. Ваши птицы – летучие мыши, а у зелёных и сиреневых бабочек нет рисунков на крыльях! У вас ненастоящие листья и стволы! Нет! Деревья шелестят, а не кричат! Мы с другом должны были остаться в избе и стать мужиком да бабой? И сейчас по деревне бегали бы наши потомки? Не верю! Я верну людей заклинанием… Какая странная вода. Почему лицо и руки не отражаются в ней? Сколько времени прошло? Неужели деревья кричат правду? Нельзя воскресить тела тех, кто переплыл реку забвения. Нельзя вернуть парня с глазами цвета тёмного мёда. Мы расстались тогда навсегда. И уже два года его нет на Земле. Неужели правда: это сон? Здесь кричат деревья, сбрасывая осенний наряд, и молчат мрачные птицы. Я, вечно молодая, могу бывать в таких снах. Но не могу вернуть в деревню посреди России людей. Хочу в тот июльский денёк, далёкое лето. Но пора вернуться в мой северный город и проснуться…
Е.Соломбальская
ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

Все мы родом из детства… Точнее этой фразы вряд ли можно придумать. Мы вышли оттуда, ещё не зная, куда поведёт нас судьба, какие испытания готовит жизнь? И может поэтому шагали в неё смело, с гордо поднятой головой, уверенные что нам по плечу все великие и важные дела. Наивные, смешные. Мы хотели казаться взрослыми, ещё не понимая, что самое лучшее и светлое уже позади… Детство нельзя сравнить ни с юностью, ни с молодостью. В них тоже есть свои прелести, но детство отличается тем, что ты ещё не думаешь о будущем. Детство просто есть, оно для тебя бесконечно и никогда не закончится! А потом вдруг замечаешь, что тебе перестали нравиться детские игрушки и очень хочется велосипед. О, как я любил ездить на нём по лужам! Однажды отец пришёл домой с работы. Усталый, красивый и добрый человек! Подвыпивший, он молча сидел на табурете и смотрел на меня. В свои 10 лет я не понимал его взгляда, просто сидел на диване и болтал ногами. Он вдруг вздрогнул, махнул рукой:
- Сын, в магазине велосипеды есть?
- Есть! - я грустно вздохнул.
- Сегодня с Толькой смотрели. «Урал» завезли. Дорого, тридцать рублей!
А отец достал из кармана скомканные купюры, долго их разглядывал. Подал мне несколько бумажек и уверенно сказал: - Беги за своим «Уралом».
Кто хоть раз покупал в детстве велосипед, поймёт мои чувства! Сейчас трудно вспомнить первые часы моего счастья! Помнится только, как отец подтягивал все болтики и гаечки, как подгонял под меня сиденье и руль! Лужи, лужи… Сколько велосипедных колёс пронеслось через вас, сколько босых ребячьих ног разбрызгивали вашу воду? Вечером мама немного поворчала на отца, но видя мою чумазую и счастливую мордочку, тоже махнула рукой: - Транжиры!
Детство… Сейчас почти не верится, что хлеб тоже был по лимиту и его выдавали по две булки в руки: чёрную и белую… Я бежал в булочный киоск с авоськой, стоял в очереди почти засыпая, и мне хотелось плакать. Ну как было объяснить, что взрослые в это время уже выходили из дома, чтобы прошагать дальний путь на свою работу. Придя домой, я переодевался, брал портфель и брёл в школу.
В детстве всё почему-то красочнее и красивее. Разве можно забыть майских жуков? Сейчас всё это кажется далёким и фантастичным, но тогда прилёт этих жуков считался поселковым праздником. Это была замечательная картина, милая детскому сердцу, когда все - взрослые и дети выходили на гору при заходе солнца. Визг, крики, смех… Летит здоровенный дядька с фуражкой в руках! Девчушка с содранными коленками, не дотянувшись сачком до улетающего жука, всхлипывая, останавливается и ударяется в рёв. Тётки, сначала сдержанно наблюдающие за происходящим, тоже не выдерживают и бегут, сбивая снятыми косынками летящих насекомых. Это трудно забыть, и это тоже моё детство! Для чего ловили жуков? Кто-то говорил, что крылышки принимают в аптеку по несколько копеек за пару. Не знаю, правда ли, только каждый из нас приносил в школу спичечные коробки, которые шуршали, скребли, жужжали…
- Дай самца?
- Ага, разогнался! Ловить надо было!
Проходил май. Наступало лето. Две речки: Тумайка и Сызганка, окружавшие посёлок со всех сторон, притягивали всех своими прохладными водами. На выходные взрослые со своими чадами выходили на их берега. И это тоже был праздник! Что уж тут говорить о нас, пацанве? Прыгали со всего, с чего можно, не боясь ни омутов, ни мелководий. Купались до дрожи, до мурашек и так не хотелось идти домой. Но ведь каникулы! Такие ежедневные праздники бывают только летом…
Однажды я услышал возле дома звук мотора. Выскочил на крыльцо и обмер. Мотоцикл!
- Вот, купил! - довольный отец протирал тряпочкой чёрный, блестящий на солнце, ИЖ-56. Это был вполне современный мотоцикл. Тогда все ездили на ИЖ-49, а здесь модная техника! Родители часто после работы уезжали на нём, то в гости, то просто покататься. Как я завидовал им своим детским сердечком! Но настал день, когда отец и мне разрешил сесть за руль.
- Вот газ, вот рычаг скоростей, вот сцепление – наставлял он меня в первом самостоятельном выезде. Я волновался, поскольку ноги мои едва доставали до подножек, а вес мотоцикла в разы превышал мой собственный. И, всё-таки, я поехал! Это тоже было счастье – детское, наивное, но как же я его чувствовал! Однажды младшая сестрёнка попросила прокатить её. Я, естественно, как старший брат и опытный мотоциклист, наставлял её, как надо держаться за дужку. И мы поехали!
Делаю один круг за посёлком, 2-й, а потом на 3-м круге слышу явственно детский плач. Подъезжаю, ба! Это сестрёнка сидит на земле и плачет! Потом разобрались, что на 2-м круге, подпрыгнув на кочке, она слетела с мотоцикла. Я же, не заметив потерю, продолжил движение, а она сидела и ревела. А я, сидя на мотоцикле, с трудом удерживал его в вертикальном положении. Успокоил сестру, и мы договорились, что она ничего не расскажет родителям, потому, что отец больше не разрешит мне кататься, а сестрёнка уже никогда не сможет выехать со мной за посёлок.
Когда наступает отрочество и юность, мы забываем о детстве. Оно прячется где-то в уголке нашей памяти и старается иногда напомнить о себе. Но мы живём уже другим, живём настоящим и нет в этом времени нам дела до бывших мальчиков и девочек, ставших взрослыми людьми. А потом вдруг встрепенётся однажды жаворонком в груди, пахнёт васильковым запахом в самое сердце и затоскует душа, возвращаясь в то время, когда не было ни страха перед будущим, ни воспоминаний о прошлом.
Были молодыми мама и папа, была солнечная улица со скрипучими калитками, были друзья из соседних домов. Было детство, которое впоследствии вернётся щемящим чувством утерянного навсегда…
К.Еланцев
ВЫСЛУШАТЬ ЧЕЛОВЕКА

На городском рынке, за длинным прилавком, среди бойких девиц и деловитых старушек, торгующих цветами, одиноко сидел старик. Глаза его, когда-то голубые, теперь выцвели и стали неестественно светлыми; выцветшей от времени была и его одежда, старомодная, но по-прежнему аккуратная.
Старик продавал алоэ, и его цветок выглядел таким же одиноким среди пёстрого разноцветья комнатных растений, хотя, в отличие от своего хозяина, свысока взирал на все эти кактусы и фиалки. Дед отрешенно смотрел в одну точку, глубоко задумавшись о чем-то, как будто забыл, что пришел торговать. А ведь надо было, подобно другим продавцам, громко кричать, рекламируя свой товар: «Алоэ! Лекарство от всех болезней! Украшение любого дома!» А потом, цепко схватив за рукав зазевавшегося покупателя, доверительно шептать: «Отдам подешевле, берите!». Иначе ведь не продашь! Но старик не умел или не хотел торговать. Он тихонько сидел посреди шумного рынка и все смотрел на свой цветок, будто не видел его прежде. Много хороших слов слышала я об алоэ: и как лекарственное растение он незаменим, и обладает почти магическими свойствами - положительную ауру в доме создает. Люди, сведущие в траволечении, утверждают, что алоэ эффективен при лечении ожогов, гнойных ран и инфекций. К тому же мимо этого растения пройти было просто невозможно. Его мясистые стебли ярко-зеленого цвета резко выделялись на фоне других, на вид чахлых жителей городских подоконников и теплиц. Старинный горшок подчеркивал своеобразную красоту своего обладателя, которому было, конечно, не сто лет (ведь алоэ ещё называют столетником), но лет десять точно.
- Как Вы можете расстаться с таким чудом? - неожиданно даже для самой себя спросила я продавца. Старик посмотрел на меня с недоумением, немного помедлил с ответом. И вдруг я заметила, что в его светлых глазах блеснули слёзы. Оказалось, что этот цветок посадила жена старика несколько лет назад. Она всё ждала, когда пройдет 3 года и алоэ накопит лечебные свойства. Но не дождалась. А после её смерти стало понятно, что все в доме идет не так, как надо, как мечталось им двоим когда-то. Их единственный сын, красавец и умница, успешно окончивший вуз и получивший диплом инженера, оставил работу на заводе и решил заняться бизнесом. Конечно, в доме появились деньги, но не стало покоя, взаимопонимания, долгих вечеров с чаепитием и беспечными разговорами. Сын и сноха «делали деньги», а деньги, как известно, «должны работать». Постоянные отъезды и телефонные звонки, шумные люди, бесконечные кредиты и долги, коробки с товаром, что размещались в прихожей, детской, в ванной...
Комната деда, в которой он жил тихо, как мышь, чудом спасенная от евроремонта и ещё хранившая запах былой жизни и прежние воспоминания, была самой маленькой и не самой светлой. Здесь, сидя в одиночестве, старик часами перебирал старые письма и фотографии, вздыхая, смотрел на портрет жены, пришивал пуговицы к рубашкам. Одежды у него было много - сын отдавал ему почти новую, просто вышедшую из моды. Но почему-то отец предпочитал носить свою - ещё ту, которую покупала ему супруга. И продуктов было в доме много. Чтобы не мешать молодым - кухня тесновата - дед ждал, когда они без него позавтракают и разбегутся кто куда: на работу, в школу.
- Ешь, папаня, что хочешь! - заглянув перед уходом в его комнату, говорил сын, махнув рукой в сторону холодильника. Есть не хотелось. Открыв дверцу холодильника, старик внимательно изучал надписи на красивых баночках и пакетах с полуфабрикатами, рассматривал отборные, как на картинке, яблоки и апельсины. Потом пил чай и придумывал, чем будет заниматься днем. По вечерам сын и сноха обычно уходили в гости, а с детьми занималась учительница. Видя, как эта худощавая женщина, знающая несколько иностранных языков, изумленно смотрит на груды коробок с миксерами и кофемолками, стоящие в коридоре, старик приглашал её к себе в комнату и угощал чаем. Здесь гостья чувствовала себя комфортнее, и старик радовался, глядя, как учительница, подрабатывающая частными уроками, ест пирожные и шоколадные конфеты. Уходя, она каждый раз говорила одно и то же: - А внуки у вас хорошие. Все в дедушку!
И этот нехитрый комплимент наполнял душу старика гордостью. Больше ему общаться было не с кем. Когда в дом приходили гости, то, среди шумного застолья, уже изрядно выпив, сын распахивал дверь в комнату старика и басил: - Вот отец мой! На заслуженном отдыхе. Как сыр в масле катается. Комната у него отдельная, еды полно. Туфли вот недавно купил ему... австрийские.
Гости сына с вежливыми улыбками, как на доисторическое ископаемое, смотрели на деда, и дверь закрывалась. Старик ждал еще немного - а вдруг кто зайдет поговорить? - и доставал коробку с обувью. Австрийские туфли оказались на размер меньше, чем требовалось, но он все равно не уставал ими любоваться: в пору его молодости кожаная обувь была редкостью, да и стоила всегда дорого. Нет, дед не осуждал вечно занятого сына. Ему надо было кормить и обеспечивать семью. Но отчего-то тоскливо жилось в этом обеспеченном доме, и поговорить было не с кем.
Конечно, по традиции в день пенсии к дедушке в комнату приходили внуки, и он с гордостью выделял им деньги на карманные расходы. И замечал, что мальчики удивляются тому, какую маленькую пенсию заработал их дед, проживший честную трудовую жизнь. Так и получилось, что самым главным собеседником и самым понимающим существом в доме стал для пожилого человека кустик алоэ. Он ухаживал за цветком, поливал только теплой водой и удобрял землю. И растение, будто отзываясь на ласку, росло и зеленело всем на диво. Дед рассказывал своему единственному другу о прошедшей жизни, о своей жене, которую цветок просто не успел узнать - слишком был мал, делился своими опасениями насчет внуков - не вырастут ли тунеядцами? Они вместе радовались первому солнечному лучу и ласковому майскому дождику - дождинки иногда залетали в форточку! - грустили, когда за окном бушевала непогода. А по вечерам, как когда-то маленькому сыну, дед рассказывал алоэ сказки. Конечно, в этот день, как и всегда, я была очень занята. Меня ждала работа, вечером предстояла важная встреча, и ещё эти бесконечные домашние дела. Но я стояла у рыночного прилавка и слушала, слушала. Ах, такие истории сейчас не редкость! Но почему-то я не могла уйти, прервав старика на полуслове. Притихли, прислушавшись, и продавщицы, забывшие на время о своих азалиях, фикусах и пальмах. В их глазах я видела искорки сочувствия к чужой судьбе, судьбе живущего рядом человека, о котором они ничего не знали. А ведь старик не один день приходил на своё торговое место рядом с ними!
Сын, как всегда ненадолго, зашел в комнату старика и сообщил, оглядываясь по сторонам:
- Всё, отец, пришло время и нашлись средства, чтобы сделать ремонт и в твоей комнате. А то ведь живешь в таких условиях, что перед людьми стыдно.
- Может, я и так... - заикнулся было дед, но его перебили на полуслове.
- Никаких «и так»! Высокопоставленные, понимаешь, люди приходят, всё должно быть на уровне.
- И колючку свою пусть с окна уберет, - крикнула из кухни сноха. - Лучше на подоконник фиалки поставить, они так мило смотрятся! И цветут!
Сноха им досталась неплохая: хозяйка хорошая, заботливая мать, только вот алоэ она почему-то невзлюбила и упорно называла его колючкой. Дед долго думал, что делать с цветком, и решил его продать. Он давно копил деньги на похороны, чтобы не обременять сына лишними расходами. Вот и эта копейка пригодится.
- Но как же можно продать своего друга? - задала я очередной бестактный вопрос. - И с кем Вы теперь будете разговаривать?
- Да разговаривать, похоже, недолго осталось, - как-то равнодушно сказал старик и отвел глаза в сторону.
- А хотите, я подарю алоэ Вам? - вдруг встрепенулся он. - Совсем бесплатно, просто так. Хороший цветок, смирный, и очень целебный. У Вас такие добрые глаза, Вы с ним обязательно поладите.
- Что Вы! - удивилась я. - Наверное, он дорого стоит, да и за что такой подарок?
- Просто за то, что выслушали. Отдаю в добрые руки на добрую память.
И, хотя я возражала, старик все протягивал мне чуть дрожащими руками своё последнее сокровище.
Теперь старинный цветочный горшок с алоэ стоит у меня на подоконнике. Но, несмотря на то, что я поливаю его теплой водой, а окно выбрала самое солнечное, вид у алоэ не такой горделивый, как прежде, а нижние листья пожелтели. Может быть, потому, что теперь некому разговаривать с цветком и рассказывать ему на ночь сказки?
Н.Кутуева
ХОЧУ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Старое фото. Время на нем остановилось и донесло до наших дней один миг из жизни этих людей. Миг спокойной жизни, полной надежд. Для читателя это просто ещё одно чёрно-белое фото, но если я расскажу историю этой семьи, быть может, вы по другому вглядитесь в их лица. Жили они в селе Киселёвка Херсонской области. Глава семьи, Пётр Лянзберг, от своего отца перенял любовь к земле и труду. Его отец, Михал Лянзберг, всегда стремился иметь земли побольше. В селе его прозвали «дед нужда». Из-за того, что когда его спрашивали.
- Михал, как жизнь?
Он тяжело вздыхал и отвечал.
- Ох, нужда замучила… Землицы ещё бы хоть немного.
- Куда тебе ещё? У тебя и так тридцать десятин!
- Землицы много не бывает, - отвечал он с улыбкой.
Привыкший к физическому труду, он и в старости не мог сидеть на месте. Еле передвигаясь по дому, шаркая ногами, он шёл в мастерскую и целыми днями там что-то строгал, стучал, пилил. Соседи спрашивали.
- Михал, что ты всё там стучишь? Мастеришь что?
- Хоромы себе делаю дубовые, ни у кого таких не будет.
- Гроб что ли? – изумлялись они. – Побойся Бога, живи ещё, Михал!
- Дак, я помирать и не собираюсь, куда спешить? Мне ещё узоры вырезать, шлифовать, ого, сколько работы!
Больше года вырезал узоры на своём гробе Михал, а, как закончил, так и помер тихо.
Пётр построил большой светлый дом с просторными комнатами. Как же, ведь он всегда мечтал о большой семье. Жена его, Мария, спокойная женщина с добрыми глазами, всегда поддерживала мужа. Со временем дом наполнился детским смехом. Почти каждый год семья ждала пополнения. Пётр, трудолюбивый, хозяйственный, сам обрабатывал свою землю. Заработанные деньги не жалел на образование детей. Так как в Киселёвке проживали в основном поляки, дети учились в польской гимназии. Общительный жизнерадостный, Пётр был всегда душой компании, он играл на баяне, и ни одно мероприятие не проходило без него. Любовь к музыке он передавал и своим детям, и даже купил для них пианино – по тем временам это была невиданная роскошь. Мария качала головой, глядя на своего жизнерадостного мужа.
- Петенька, ты бы поосторожней, не гнал бы, детки ведь малые дома, - причитала она, смотря, как он запрягает пару лошадей в бричку.
- Не в первой! Чай и обгоним! А? Обгоним мы железяку?! – кричал он и ждал сигнала.
Железнодорожная станция Заселье находилась в трёх километрах от села. Подъезжая к станции, паровоз давал гудок, который и был сигналом к старту. Услышав сигнал, Пётр тут же выезжал на проселочную дорогу вдоль железнодорожного полотна, из всех сил погоняя лошадей. В селе это было целое событие. Люди выбегали из домов, поднимались на пригорок и наблюдали, обгонит Пётр паровоз или нет.
- Перегонит! Ещё немного осталось.
- Нет слабо, не обгонит, нет.
- Подожди сейчас, сейчас…
Когда же в 1929 году проводилась коллективизация, Пётр одним из первых вступил в колхоз. Его назначили бригадиром. Он верил в доброе светлое будущее. И всё повторял:
- Жаль батя не дожил, он всё хотел землицы побольше, а теперь вся земля наша! Вся общая! Да мы теперь такое будущее построим для наших детей!!
Мария плакала и убивалась от горя, когда уводили коров, лошадей и всю остальную живность. Он её успокаивал: - Что ты, Маричка, не плачь, теперь у нас всё общее, как ты не поймёшь глупая, радоваться надо!
А в 1931 г. из города приехали люди в форме. Они долго ходили по селу, смотрели колхозное хозяйство. Затем собрали всех в клубе на собрание. С трибуны выступил председатель Егор Захарович. Трясущимися руками он налил себе стакан воды, выпил и начал.
- Товарищи! Все вы знаете, как мы тяжело трудимся на благо Родины, но в тоже время среди нас остались ещё люди, которые держатся за пережитки прошлого. Партия поставила нам задачу выявить кулацкий элемент и их прихвостней - кричал он, поглядывая в сторону людей из города. Те сидели с каменными лицами.
- Так вот, - продолжил он, - кто из вас может назвать таких?
В зале воцарилась тишина. Люди боялись пошевелиться. Дело в том, что в селе практически все были связаны родством. В семьях было по 6-8 детей. А у Поплавских вообще было 16 дочерей, которые подрастая, выходили замуж за своих односельчан. Теперь же нужно было называть кого-то из своих.
- Хорошо… Я смотрю никто не хочет проявлять инициативу, - сказал Егор Захарович.
- Почему же никто, - послышался хриплый голос вечно подвыпившего Коли Бобенко, - все давно поняли кто у нас кулачара!
Он отдёрнул руку жены и продолжил.
- Да, да и пианина, и баян и барахло разное, даже болонка имеется у Петьки Лянзберга.
Люди в форме оживились, закачали головами. Председатель сразу выкрикнул
- Голосуем товарищи! – и первый поднял руку.
Несмело, поглядывая друг на друга, люди поднимали руки.
- Хорошо, товарищи. Единогласно! Теперь продолжим по списку, Скрицкие! Вишняковские!! – кричал он с трибуны. Люди с замиранием слушали новые фамилии, боясь услышать свою, и с тяжёлым сердцем поднимали руки…В дом вошли люди в форме они стали спокойно оценивать имущество…
- Так, пианино в школу и баян туда же, что тут ещё, глобус, и стол дубовый тоже в школу.
Плакали дети, голосила Мария, только Пётр стоял с бледным неподвижным лицом. Он теребил в руках шапку и молчал.
- А вы что стали? Собирайтесь, можете взять только одежду, всё остальное у вас конфискуется, через несколько дней вас проведут на станцию Заселье.
- Куда? Зачем? За что? – кричала Мария, пытаясь перекричать плач детей.
- В Сибирь, красавица, в Сибирь, теперь там будете наслаждаться жизнью,- сказал молодой комиссар с насмешкой.
- Всё пошли!
Их стали толкать, выгоняя на двор.
- Куда же нам с детками на мороз? – спросила Марья.
- В свинарнике переночуете, там вам и место! Коля! Коля Бобенко, иди сюда, будешь их сторожить. Смотри, сбегут – пристрелю!
Всю ночь в селе слышались крики – людей выгоняли из домов, женщины и дети рыдали. На телеги грузили зерно, выгребая всё до последнего зёрнышка. Забрали даже колхозное зерно. Ночью сильный студёный ветер продувал дощатый сарай. Дети жались друг к другу, пытаясь хоть немного согреться. Пётр сидел неподвижно.
- Петенька, как же так? Что мы им сделали? Всё хозяйство отдали, землю, скотину. За что? – она посмотрела на него и замерла.
- Что c тобой, родной мой? – кинулась она к мужу.
По его щекам лились слёзы, он хрипел и с трудом дышал.
- Помогите! Человеку плохо!! Помогите!!! – она кричала и колотила в запертую дверь. – Сейчас, потерпи Петенька, потерпи родной.
-Коля! Коля, открой!! – кричала она. Но её никто не слышал. Коля Бобенко, проверив надёжность засова, выпил и уснул в их же доме. Утром, когда открыли дверь свинарника, на полу лежало застывшее тело Петра.
- Завести на время в дом, пусть отогреются, а то все дуба дадут. Будем решать, что с ними делать, - сказал комиссар. Так как глава семьи умер, было решено отправку в Сибирь пока отложить. Марии с детьми разрешили пожить в свинарнике. Она оказалась в ужасном положении: потеряв мужа, осталась одна с 9-ю детьми. Старшему Станиславу было тогда 15, за ним Тина 13-ти лет, Франчишек, Ольга, Анна, Павел, Иосиф, София и годовалый Петенька.
В селе начался голод. Люди доедали последние крохи. От голода малыши опухли и всё время плакали. Мария пыталась найти хоть какое-то пропитание. От отчаянья она решилась пойти к председателю. Мария плакала и умоляла ей помочь.
- Что? – возмутился он. – У меня люди умирают от голода, а я буду кулацким ублюдкам помогать! Пошла вон отсюда!!
Рыдая, она выбежала от него, не зная, что ей делать. А ночью под снегом рыла землю в поле, в надежде найти опавшее зерно. Ей даже удалось отыскать несколько почерневших колосков. С ними её и поймали… Колоски отобрали, объявив её врагом народа. Но так как в селе свирепствовал голод, отпустили со словами: «Иди, всё равно сдохнешь».
Старшие дети Станислав и Тина, чтоб не умереть подались в город. Ночью, боясь, как бы их не поймали, они разошлись в разные стороны. Станислав подался в Николаев, а Тина в Херсон. Станислав устроился на завод. Смышлёный, грамотный парень он смог добиться там уважения, несмотря на то, что поляк и сын врага народа. Тина устроилась прислугой в семью инженера. В его доме она выполняла всю домашнюю работу. Он платил ей жильём и едой. Тина откладывала для мамы и малышей еду, сушила хлебные корочки. Наконец, она что-то собрала и в выходной день приехала в Киселёвку. С тревогой подошла к свинарнику, открыла дверь и ощутила запах смерти… На полу лежал распухший, мёртвый Франчишек, возле него на коленях стоял маленький Иосиф. Он дёргал Франчишека за ногу и слабым голоском просил, - Пошли, поиграем, ну же, пошли играть.
Тина прошла вглубь сарая. В самом углу на соломе лежала мертвая Мария, она обнимала холодное тельце Ольги. Боль и мука исказили её застывшее лицо. Рядом в разных позах лежали тела Софии, Анны и Павла. Петенька лежал сверху на матери и жадно сосал грудь, пытаясь выдавить из неё хоть каплю. Тина выпустила на пол узелок с хлебными корочками… Люди умирали массово. По улице, скрипя колёсами, медленно ехала телега до верха заполненная опухшими трупами людей. Тина укрыла Иосифа одеялом, подняла узелок и дала его малышу.
- На, держи, я сейчас приду, - сказала она и вышла. Заплаканная худенькая девчушка подбежала к телеге и попросила людей забрать мать и малышей, чтоб похоронить их. Когда она вернулась, Иосиф был мертв, ни одеяла, ни узелка рядом уже не было… Маленького Петю забрали в детский приют, который организовали в Киселёвке. Прошло несколько лет, голод закончился. К нему иногда приходила родственница, тётя Фильцианна. Приносила гостинцы, гладила малыша по кудрявой головке. Однажды когда она уходила, Петенька кинулся ей в ноги, обхватил их своими маленькими ручками и заплакал,- Тётенька заберите меня, пожалуйста! И она не смогла оставить его в приюте, взяв на воспитание к себе. Из большой, дружной семьи выжило только трое: Тина, Станислав и мой дедушка Петя.
Спасибо, Вам, что прочитали эту историю. Смотрю на фото, плачу и повторяю. - Хочу, чтобы помнили…
А.Март
ЕЖИК

В 1-ом классе Лере сменили 3-х преподавательниц по фортепьяно. Две из них ей категорически не нравились. Лерка бузила и саботировала уроки. Третья «приняла эстафету» за месяц до экзамена - симпатичная 27-летняя девушка с веснушками на вздернутом носике. Впервые Лера появилась в ее кабинете взъерошенная, настороженная. Шлепнула серую, с черными ручками-веревочками папку на крышку пианино. Вытащила учебники. Сыграла домашнее задание. Приготовилась к скучным поучениям, повторениям, одергиваниям. Вместо этого новая училка спросила, нравится ли девочке то, что она играет. И попала в точку. Пьесы Лерке выбирались без учета ее пожеланий. Лерку пренебрежение ее мнением ужасно злило. Остаток занятия они разговаривали о музыке, школе, весне, игрушках, поездках за город. В общем, болтали. На прощание Жанна Владимировна пообещала подобрать несколько новых пьес, на выбор – чего Леркина душенька пожелает. Впервые девчонка покинула класс в счастливом убеждении, что теперь все будет по справедливости: то есть так, как она хочет.
На следующем уроке Жанна сидела перед инструментом. Рядом, на столе – стопка раскрытых нот.
- У меня есть для тебя пьеска «Ежик». Надеюсь, тебе понравится.
Лера слушала и, ей казалось, как будто видела этого ежика. Вот он выскочил из травы на дорожку, спешит куда-то по своим «ежиным» делам. Двигается перебежками. У него гладкие иголки, остроконечные ушки. Черный нос принюхивается. Глазки-бусины «стреляют» по сторонам - можно ли чего вкусненького раздобыть? Нет ли какой опасности, чтоб вовремя свернуться в колючий клубок?.. Пересек дорожку, фыркнул несколько раз и исчез в высокой траве. 4 недели спустя Лера, без единого признака волнения, предстала перед экзаменационной комиссией. Взглянула на Жанну Владимировну, выдохнула, объявила: - «Е-ожик!» Исполняю… я! Сыграла. С достоинством, то ли поклонилась, то ли кивнула комиссии и стремительно вышла в коридор. Вскоре там появилась Жанна.
- Конечно же, это - «пять»! - говорила она Лериной матери. – Всем понравилось очень. И исполнение, и Лерочка.
Довольная мама кивала, бормотала слова благодарности. Спохватилась, что, от волнения, оставила в другом конце коридора букет, поспешила за ним. Жанна опустилась на корточки, обняла счастливую Лерку и тихо сказала: «Ты – мой ежик!»
Маэми
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 21 Янв 2014, 23:02 | Сообщение # 14 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | МУЗЫКА ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД

Август. Мой самый любимый после мая месяц. Колдовство в самом названии – август – будто вздыхает кто-то восторженно «Ах!» Сижу на скамье под старой яблоней. Иногда раздается гулкий шлепок, сорвалось спелое яблоко, сработал закон земного притяжения. Со мной на скамье расположились Джейка, наша непутевая сторожиха, и рыжий кот Альберт, баловень и горе-охотник. Догорает багряный закат, окрашивая полоски редких перистых облаков и след пролетевшего лайнера ярким малиновым цветом. Где-то на лугу стрекочут цикады, вроде их время уже прошло, а вот, поди ты, стрекочут и стрекочут. После дневной жары вечер кажется приятно прохладным. Аромат доцветающих флоксов перемешался с ароматом маттиолы – ночной фиалки – светло-сиреневые цветки, которой раскрываются, как звездочки. Вечер густеет. Лиловое молоко ночи тонюсенькой струйкой стекает на луг, на крыши домиков, на яблоню, под которой уютно расположилась наша компания. Вот из-за раскидистой рябины на холме показался остренький серпик луны, а неподалеку от нее яркая точка Венеры. Одна за другой зажигаются звездочки на небе, будто любопытные девчонки, высыпали из своих светелок посмотреть, а кто это там внизу на скамейке сидит, в небо поглядывает. Чего сидят, чего ждут?..
И вдруг одна, особо шустрая и любопытная, выпрыгнула из светелки, да и полетела к земле, наигрывая на волшебной флейте прощальную мелодию оставшимся подружкам. Флейта плакала и смеялась, флейта недоумевала – что же делаешь ты, глупенькая? Куда и зачем сорвалась? А мы сидели и переживали: долетит – не долетит? Не долетела. Какая жалость! Ой, еще одна сумасшедшая прыгнула в Ничто. Милая, ну куда ты? Пропадешь ведь! Так и есть, прочертила небо наискосок огненным росчерком, сопровождая последний полет трогательной мелодией, и тоже погасла. А вот еще две отправились в притягательную неизвестность, ну, точно, как отчаянные неразумные девчонки, дуэтом исполняя свою песню. И чего вам не сидится на небе, кружили бы свой звездный хоровод, а мы восторженно любовались бы, и не загадывали бы глупые, несбыточные желания, не тешили бы себя иллюзиями. Нет, все-таки август – колдовской месяц. Ишь, какие фантазии наплел! Я-то знаю, что причина звездопадов в том, что в августе наша Земля пересекает орбиту пояса астероидов, между Марсом и Юпитером, (в школе на уроках астрономии учили.) Но как это скучно! Пусть уж лучше будут звездочки-девчонки, спешащие ко мне в гости, очертя голову бросаясь во влекущее своей таинственностью и неизвестностью Ничто.
Алла Нашивочникова
ДОМ НАДЕЖДЫ

Такая странная, настырная – живет у меня в душе, и не считается ни с разумом, ни с чувствами, ни с памятью. Не стремится узнать, разобраться в окружающем мире. Она не порхает в облаках, как её подружка Вера, что бы заглянуть тебе в глаза, пытаясь найти понимание. Не ищет оправдания своих замыслов. Она лишь спрашивает меня о моих заветных желаниях, и покорно подчиняет им все свое существо. Она не покидает мою душу никогда, поскольку знает, что уходя, мой дом души без неё рухнет... Хранительница иллюзий, она и сама не прочь создавать их из фантазий и домыслов. И обустраивая свою обитель, мою доверчивую душу, Надежда ведет меня в странный неопределенный мир, вдаль от реальности, вдаль от забот, проблем и душевных переживаний. Но что бы не угасать в одиночестве, Надежда всегда в компании со своими подругами: Уверенностью, Радостью, а иногда и с Печалью или Упрямством. Без них она бледна и безлика. У них Надежда учится, приобретая особые черты: то становясь упертой, то глупой, то наивной, то радостной. И в этой изменчивой компании незаметно пролетают дни того дома, где проживает Надежда.
Я знаю, что Надежду часто путают с Верой, считая их сестрами. Но это совершенно не правильно. Вера невероятно ранима, её легко обидеть и потерять. Вера всегда устремлена вдаль, она влечет в окружающий мир, зовет к не изведанному, туда, где смыкается Небо и Земля. А Надежда устойчива и непоколебима, она не стремится за горизонт. Её заботы связаны с наполнением своей обители, своего дома. И пусть эти заботы лишены всякого смысла, но она трудится не покладая рук. И я, порой, сомневаюсь. Я не знаю, как относиться к своей Надежде. Беречь её, любить и лелеять, или ненавидеть и проклинать. Ведь Надежда не разумна. Она не ведет, не освещает мой предстоящий путь. Она лишь сулит своими вымышленными иллюзиями. И, что бы я ни начинал делать, к чему бы ни прикасался, Надежда предвещает мне неизменный успех и свершение моих замыслов. Странно, но говоря о Надежде, я много раз применял отрицание: не освещает, не зовет, не стремится, не считается - словно этими отрицаниями я стремлюсь отстраниться от неё, изгнать из своей души, что бы в очередной раз не почувствовать разочарование от не сбывшегося, не оказаться обманутым. Но это не так. Я знаю, что отстраняясь от Надежды, я опустошаю свою душу, становясь пустым и нелюдимым. Расставаясь с Надеждой, я теряю последнее, что у меня есть...
Виктор Плашкин
СКАЗКИ..

Тихо, едва слышно, ветер гуляет по чистым полям, колыхая высокую траву. Солнце клонится к горизонту, сползая по голубому своду будто варенье с хлеба. Розово-красные лучи ласкают землю, стараясь согревать ее как можно дольше, чтобы та могла дарить свое тепло другим. Вокруг – тишина, над головой – небеса, под ногами – трава. Мне кажется, я уже когда-то была здесь, в этом самом месте, давно, может даже в детстве. Или в бессвязных снах и грезах. Я не помню, но знаю – все это было и есть рядом со мной, стоит закрыть глаза и отречься от суетливой реальности.
Где-то далеко, в отражениях воды и зеркал, прячется мир. Обычные люди называют его мимолетными видениями, но другие… Те, кто способен увидеть и ощутить его, нарекают Страной Чудес. Останавливаясь перед огромной витриной и всматриваясь в отражение, можно увидеть, как за спиной проскачет белый кролик. А над головой пролетит златокрылый дракон, весело подмигнув. Тебе покажется это всего лишь игрой света, но это не так. Заходя в переполненное вечно спешащими людьми метро, ты услышишь перешептывание цветов, ласковое пение тамошней принцессы и, может даже, если очень повезет, ты услышишь топот копыт и звон лат. Не волнуйся и не бойся – это Белые рыцари приветствуют тебя.
Сказки – реальность, а те, кто забыл об этом, навсегда обречен жить суетой и шумом. Дети самые счастливые, они верят в это, а взрослые… Взрослые слишком взрослые, чтобы ощутить эту грань и шагнуть за нее. Они не верят в случайности и совпадения, для них чудеса уже не чудеса… Им не ведом настоящий восторг, они не знают, что такое счастье… Настоящее, осязаемое счастье цвета лета. Мы спешим взрослеть и не осознаем, что пора детства самая прекрасная и самая искренняя.
Детство – время исполнений желаний и веры во все, что приносит улыбку. В детстве все картинки живые, а мир красочен и многолик. Для детей не существует границ, они гуляют по мирам, к их ногам ложатся все чудеса света, а тропинки стелятся красным ковром. Но иногда родители препятствуют этому – мешают мечтать, запрещают играть с «воображаемыми» друзьями, хотя те на самом деле сидят рядом и огорчаются. Детей, которых лишили возможности воображать, очень много. Кто создает сотни миров за раз? Кто способен вдохнуть жизнь в безжизненный камень или бесплодную землю? Ребенок. Это их дар – дарить жизнь, чудеса и радость. Так давайте же будем ценить это и не убивать, давайте будем мечтать вместе с ними и помогать детям взрослеть медленно и постепенно. Ведь ребенок – чудо каждого родителя и нужно оберегать его всеми силами от злобных чар. Иначе их дар может попасть в лапы злобной Жизни и тогда… Тогда сотня миров, ранее построенных и населенных, попросту исчезнут…
Тасия Лукина
ВОЛШЕБНОЕ ЯБЛОКО
В детстве я видел яблоки, только когда их привозили из Ленинграда. В нашем поселке они тогда не росли - десятилетия, миновавшего после войны, не хватало, чтобы ожила выжженная гвардейскими минометами поселковая земля. Правда, в окрестных деревнях яблони сохранились, но они уже окончательно одичали от безпросветной колхозной жизни, и на них росли кислые и твердые плоды, больше похожие на картофельные яблоки, чем на фрукты. Настоящие яблоки всегда были связаны с праздником и сами были праздником.

Помню, бабушка, взяв привезенное отцом яблоко в руки, задумалась, а потом сказала, что когда они только вернулись в Вознесенье из эвакуации - странник у них ночевал.
- Шурка-то наша не любила странников, но она на совещание была в Ленинград уехавши, - сказала бабушка. - Вот я и пустила человека… А он когда уходил, такое же яблоко подарил…
- Нет, мамаша - ревниво сказал отец. - Это из Крыма яблоко… А тогда война еще не кончилась, откуда у странника такое яблоко взялось?
- Дак ведь не с Крыма, Миша - вздохнув, согласилась бабушка. - Откуда в Крыму таким яблокам взяться? Сколько живу, а такого яблока больше не видела…
- Сладкое было? - спросил я.
- Наверное, сладкое, Миколя - сказала бабушка. - А главное - не кончалось…
- Как это не кончалось?!
- А так, Миколя… У нас-то хоть тебя и на свете еще не было, детей в дому несчитано жило. Домов в поселке почти не осталось, вот и селили эвакуированных друг к другу. По две, по три семьи в комнате жили. И все с ребятами. И все ребята это яблоко видели, потому что странник при всех его мне дал. Положил на стол, а сам в сторонку отошел. А детишки чего? Обступили меня и глядят на яблоко, глаз не спускают. Ну, я взяла тогда нож и каждому по ломтику отрезала. А половинку яблока в ящик буфета убрала, на вечер… И вот вечером открываю ящик, а там целое яблоко лежит, такое же, какое и было…
Подивилась я, конечно, но перекрестилась и снова половинку яблока на всех поделила, а половинку в шкаф спрятала. А утром снова целое яблоко нашла. И так я три дня дитёнков тем яблоком кормила. Иногда и по четыре раза в день им по ломтику давала, а яблоко не кончалось.
- А потом что?- спросил я. - Кончилось?
- А не знаю, Миколя - вздохнула бабушка. - Тогда ведь Шурка с райцентра, с совещания вернулась. Первым делом она странника, квартиранта моего, выгнала, а потом увидела, как я соседских детей яблоком одаряю, выхватила его у меня из рук.
- Совсем, - говорит, - с ума съехала, старая… Родные внучки без витаминов растут, а она чужих детей яблоками кормит… Спрятала яблоко, и больше я его не видела.
- Дак, может, Люся с Галей и ели его потом? - спросил я, когда бабушка, баюкая в руках привезенное отцом яблоко, замолчала.
- Не, Миколя…- бабушка покачала головой. - Когда Шурка вечером разрезала яблоко, червивое оно оказалось. Так и пришлось выбросить…
- Что же это было?
- А не знаю, Миколя… - бабушка аккуратно положила румяное крымское яблоко в вазу. - Откуда мне знать, если Шурка говорит, что никакого ума от старости не стало… Да и на что мне ум этот?
Николай Коняев, Санкт-Петербург
http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=38&article=14079
БОГОМОЛ
Рассказ-исповедь
Подростки бывают очень жестокими. Иногда безпричинно, а иногда - нет. Это я по себе знаю. Вроде бы и зла никому не желаешь, и добро готов творить чуть ли не первому встречному-поперечному. В теории, конечно. А вот на практике так получается далеко не всегда. Часто - совсем не получается.

Но бывают ситуации, когда совершаешь настоящее злодейство, даже не осознавая этого, как-то бездумно и походя. То ли из-за врожденной дури, то ли из-за инфантильного озорства... С болью и омерзением вспоминаю один случай из далекого детства, который произошел четверть века назад.
Был август месяц. Копали картошку. Почти весь день я ползал на коленках, выбирая картошку из черной хорошо унавоженной земли. Дело это хоть и простое, но очень нудное. И хотя я родился в деревне и с малых лет познал многие тонкости крестьянского труда, выбирать картошку я все-таки не любил. Больше того, занятие это в то время я терпеть не мог. Наверное, как и многие дети, которых взрослые оторвали от безделья в самую благодатную летнюю пору. Деду и Бабушке было легче. Для них, не понаслышке знавших голод, жевавших лебеду вперемежку со слезами, копка картошки была настоящим праздником. Они заранее готовили инструмент. Всегда одевались в чистую одежду. Начинали трудиться утром, но не слишком рано, когда спадала роса.
«Господи, благослови», - говаривал Дед. Медленно, с одному ему понятной нежностью, он втыкал лопату в землю и неторопливо выкапывал первый рядок картошки. А за ним - второй, третий… пятидесятый… сотый. Напротив, Бабушка выбирала картошку с фантастической сноровкой. При этом она умудрялась не только переговариваться с Дедом и зорко следить за поведением непутевых внуков, но и сортировать картошку по каким-то ей одной ведомым признакам. Вся ее работа была похожа на красивую песню. При этом и Дед, и Бабушка не напоказ, тихо и проникновенно, но так, что при желании можно было расслышать, благодарили Бога за то, что послал хороший урожай. Ведь картошка - второй хлеб. И его посылает нам Господь. Так получалось, что я, младший внук, помогал Бабушке выбирать картошку. Хотя пользы от меня было не очень много. Я с грехом пополам выбирал один куст, а она пять! В это же время мой двоюродный брат, старший внук, с каким-то остервенением дергался на лопате, помогая Деду.
Удивительное дело: спокойный и рассудительный Дед никогда не резал лопатой картошку. Он ее выкладывал как на блюдечке, россыпью. Вся картошка оказывалась наверху. Выбирать картошку за Дедом было очень легко и приятно. Медлительность Деда в работе была лишь кажущейся. А вот с двоюродным братом было гораздо сложнее. Лопатой он разрезал картошку почти в каждом кусте. Картошка от него пряталась. За ним приходилось буквально рыть землю, срывая хрупкие ногти. К тому же он, человек избалованный, не приученный к домашнему труду, через некоторое время начинал заедаться, исподтишка кидаться комьями земли. Хотя и я почти всегда отвечал ему тем же, злом за зло. Поистине удивительный факт. Неразлучные друзья во всякого рода проказах, заслуживавших хорошего ремня, на огороде мы становились злейшими врагами. Жестокими и непримиримыми друг к другу. Хотя взрослые всячески старались этому помешать, настраивая нас на миролюбивый и деловой лад. Часа за 2 до окончания работы и старший, и младший внуки, словно по мановению волшебной палочки, успокаивались, начинали работать хорошо, всем своим видом показывая дружелюбие и солидарность. Приятно было смотреть на такую работу. Убедившись, что мы наконец-то испытываем братские чувства друг к другу, нас отпускали домой. Для вида нам давали очень важное поручение - разжечь костер и испечь картошку. И мы это делали с радостью.
В тот день все было как обычно. Был тихий летний вечер. В траве стрекотали кузнечики. Мы быстро принесли заготовленные дрова, разожгли костер. Однако эта пейзанская идиллия была нарушена внезапным появлением рядом с нами богомола, удивительного насекомого нежно-салатового цвета величиной с мизинец, с маленькой головкой и умильно сложенными верхними лапками. Старший внук поймал богомола, посадил его себе на ладонь, со всех сторон разглядел это диковинное насекомое, а потом сказал: «Дай-ка сюда листок бумаги». Он завернул богомола в протянутую мною бумагу, окунул ее в банку с остатками солярки, а затем бросил в пылающий костер. И мы оба с каким-то звериным любопытством следили, как языки пламени пожирали завернутое в бумагу невесомо хрупкое тельце…
Несколько лет назад мне довелось побывать в удивительном месте - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Неподалеку от Ближних пещер служили молебен о здравии. Набежал разночинный народ. В основном, конечно, болящие. Здоровых людей среди собравшихся практически не было. Из Ближних пещер вышел седенький дьякон, который привлек всеобщее внимание своей какой-то удивительной кротостью и добротой. На его плече сидел невесть откуда взявшийся нежно-салатовый богомол с молитвенно сложенными верхними лапками.
- Ой, кто это?- зашушукались люди, - Батюшка, кто у вас сидит на плече?
- Это мой брат, - ответил Старец и как-то особенно, пронзительно посмотрел мне в глаза. Я невольно смутился. Боль и стыд зашевелились в сердце. У меня загорелось лицо. Я с большим трудом отстоял молебен, после которого был помазан елеем от мироточивых Глав. А потом я, дрожа от страха, исповедовался какому-то очень строгому Архимандриту, обратившись к нему со словами: «Батюшка, исповедуйте, грехи душу жгут…»
Немотивированное, ничем не обусловленное убийство созданных Богом живых существ - это ведь грех. Что и говорить о таких существах, которые как бы специально отмечены Господом - божьей коровке или богомоле…
Несколько дней назад я работал на огороде у своих родителей. Соленый пот застилал глаза. Сердце как-то странно трепыхалось в груди. Казалось, что мы до ночи не управимся с работой. «Господи, помоги!» - мысленно молился я. Решили отдохнуть. Присели на траву. Вдруг я ощутил какое-то легкое покалывание на своей правой ладони. На ней сидел… нежно-салатовый богомол. Посидев некоторое время на ладони, он быстро пополз по руке и замер, устроившись у меня на левом плече. Так и сидел минут пять. Пока я его не снял и осторожно не посадил в густую траву. Ну а работу мы доделали как-то легко, быстро и незаметно…
Анатолий Трунов
http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=38&article=14070
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 09 Июн 2014, 18:11 | Сообщение # 15 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
Глава VI
Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, - любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатленье какой-нибудь заметной особенности, - все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный дом, известной архитектуры с половиною фальшивых окон, один-одинешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков, круглый ли правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, франт ли уездный, попавшийся среди города, - ничто не ускользало от свежего тонкого вниманья, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфект, глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо - я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей, и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в монистах или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали сквозь древесную зелень красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады и он покажется весь с своею, тогда, увы! вовсе не пошлою, наружностью; и по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам, или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.
Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомый деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!..
http://gogol.lit-info.ru/gogol/text/mertvye-dushi/dushi-6.htm

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица - красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта.
А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, - все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!
Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофей; нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавший вчера, как муха, с шоколадом, вылезает, с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ: иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до двенадцати часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах, с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, - никто этого не заметит.
В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностью изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки, идут величаво позади своих легеньких, вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект - педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец выпивших чашку кофию и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников.
Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, мамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, - предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, - пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми, вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и, если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако же, ничуть не бывало: они большею частию служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, - словом, большею частию всё порядочные люди. В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим добром, другой - греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая - пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый - перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая - ножку в очаровательном башмачке, седьмой галстук, возбуждающий удивление, осьмой - усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается, толпа редеет... В три часа - новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтиться по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову: им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих; они еще не вполне оторвались от забот своих; в их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел; им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии.
С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкою в руках, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика, пущенная по миру во фризовой шинели, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикюлем и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине, с узенькою бородою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару, иногда низкий ремесленник; больше никого не встретите вы на Невском проспекте.
Но как только сумерки упадут на домы и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большею частию холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами Полицейского моста. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большею частию сидят дома, или потому, что это народ женатый, или потому, что им очень хорошо готовят кушанье живущие у них в домах кухарки-немки. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такою важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим, а более всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках гуляющим целою толпою и обыкновенно под руку.
http://gogol.lit-info.ru/gogol/text/nevskij-prospekt.htm

Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, - все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь.
Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, - и ничего более. Грустно! мне заранее грустно!..
http://gogol.lit-info.ru/gogol/text/starosvetskie-pomeschiki.htm
Антон Чехов

В МОСКВЕ НА ТРУБНОЙ ПЛОЩАДИ
Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую называют Трубной, или просто Трубой; по воскресеньям на ней бывает торг. Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну. Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение и запах сена чувствуются сильнее, и это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется ряд возов. На возах не сено, не капуста, не бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дрозды, синицы, снегири. Всё это прыгает в плохих, самоделковых клетках, поглядывает с завистью на свободных воробьев и щебечет. Щеглы по пятаку, чижи подороже, остальная же птица имеет самую неопределенную ценность.
- Почем жаворонок?
Продавец и сам не знает, какая цена его жаворонку. Он чешет затылок и запрашивает сколько бог на душу положит - или рубль, или три копейки, смотря по покупателю. Есть и дорогие птицы. На запачканной жердочке сидит полинялый старик-дрозд с ощипанным хвостом. Он солиден, важен и неподвижен, как отставной генерал. На свою неволю он давно уже махнул лапкой и на голубое небо давно уже глядит равнодушно. Должно быть, за это свое равнодушие он и почитается рассудительной птицей. Его нельзя продать дешевле как за сорок копеек. Около птиц толкутся, шлепая по грязи, гимназисты, мастеровые, молодые люди в модных пальто, любители в донельзя поношенных шапках, в подсученных, истрепанных, точно мышами изъеденных брюках. Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых... Они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманешь. Любитель издали видит и понимает птицу.
- Положительности нет в этой птице, - говорит любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его хвосте. - Он теперь поет, это верно, но что ж из эстого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой; запой в одиночку, ежели можешь... Ты подай мне того вон, что сидит и молчит! Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме...
Между возами с птицей попадаются возы и с другого рода живностью. Тут вы видите зайцев, кроликов, ежей, морских свинок, хорьков. Сидит заяц и с горя солому жует. Морские свинки дрожат от холода, а ежи с любопытством посматривают из-под своих колючек на публику.
- Я где-то читал, - говорит чиновник почтового ведомства, в полинялом пальто, ни к кому не обращаясь и любовно поглядывая на зайца, - я читал, что у какого-то ученого кошка, мышь, кобчик и воробей из одной чашки ели.
- Очень это возможно, господин. Потому кошка битая, и у кобчика, небось, весь хвост повыдерган. Никакой учености тут нет, сударь. У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ела. Недели две полосовал кнутищем, покудова выучил. Заяц, ежели его бить, спички может зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто! Возьмет в рот спичку и - чирк! Животное то же, что и человек. Человек от битья умней бывает, так и тварь.
В толпе снуют чуйки с петухами и утками под мышкой. Птица всё тощая, голодная. Из клеток высовывают свои некрасивые, облезлые головы цыплята и клюют что-то в грязи. Мальчишки с голубями засматривают вам в лицо и тщатся узнать в вас голубиного любителя.
- Да-с! Говорить вам нечего! - кричит кто-то сердито. - Вы посмотрите, а потом и говорите! Нешто это голубь? Это орел, а не голубь!
Высокий, тонкий человек с бачками и бритыми усами, по наружности лакей, больной и пьяный, продает белую, как снег, болонку. Старуха-болонка плачет.
- Велела вот продать эту пакость, - говорит лакей, презрительно усмехаясь. - Обанкрутилась на старости лет, есть нечего и теперь вот собак да кошек продает. Плачет, целует их в поганые морды, а сама продает от нужды. Ей-богу, факт! Купите, господа! На кофий деньги надобны.
Но никто не смеется. Мальчишка стоит возле и, прищурив один глаз, смотрит на него серьезно, с состраданием. Интереснее всего рыбный отдел. Душ десять мужиков сидят в ряд. Перед каждым из них ведро, в ведрах же маленький кромешный ад. Там в зеленоватой, мутной воде копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большие речные жуки с поломанными ногами шныряют по маленькой поверхности, карабкаясь на карасей и перескакивая через лягушек. Лягушки лезут на жуков, тритоны на лягушек. Живуча тварь! Темно-зеленые лини, как более дорогая рыба, пользуются льготой: их держат в особой баночке, где плавать нельзя, но всё же не так тесно...
- Важная рыба карась! Держаный карась, ваше высокоблагородие, чтоб он издох! Его хоть год держи в ведре, а он всё жив! Неделя уж, как поймал я этих самых рыбов. Наловил я их, милостивый государь, в Перерве и оттуда пешком. Караси по две копейки, вьюны по три, а малявки гривенник за десяток, чтоб они издохли! Извольте малявок за пятак. Червячков не прикажете ли?
Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими грубыми, жесткими пальцами нежную малявку или карасика, величиной с ноготь. Около ведер разложены лески, крючки, жерлицы, и отливают на солнце пунцовым огнем прудовые червяки. Около возов с птицей и около ведер с рыбой ходит старец-любитель в меховом картузе, железных очках и калошах, похожих на два броненосца. Это, как его называют здесь, "тип". За душой у него ни копейки, но, несмотря на это, он торгуется, волнуется, пристает к покупателям с советами. За какой-нибудь час он успевает осмотреть всех зайцев, голубей и рыб, осмотреть до тонкостей, определить всем, каждой из этих тварей породу, возраст и цену. Его, как ребенка, интересуют щеглята, карасики и малявки. Заговорите с ним, например, о дроздах, и чудак расскажет вам такое, чего вы не найдете ни в одной книге. Расскажет вам с восхищением, страстно и вдобавок еще и в невежестве упрекнет. Про щеглят и снегирей он готов говорить без конца, выпучив глаза и сильно размахивая руками. Здесь на Трубе его можно встретить только в холодное время, летом же он где-то за Москвой перепелов на дудочку ловит и рыбку удит.
А вот и другой "тип", - очень высокий, очень худой господин в темных очках, бритый, в фуражке с кокардой, похожий на подьячего старого времени. Это любитель; он имеет немалый чин, служит учителем в гимназии, и это известно завсегдатаям Трубы, и они относятся к нему с уважением, встречают его поклонами и даже придумали для него особенный титул: "ваше местоимение". Под Сухаревой он роется в книгах, а на Трубе ищет хороших голубей.
- Пожалуйте! - кричат его голубятники. - Господин учитель, ваше местоимение, обратите ваше внимание на турманов! Ваше местоимение!
- Ваше местоимение! - кричат ему с разных сторон.
- Ваше местоимение! - повторяет где-то на бульваре мальчишка.
А "его местоимение", очевидно, давно уже привыкший к этому своему титулу, серьезный, строгий, берет в обе руки голубя и, подняв его выше головы, начинает рассматривать и при этом хмурится и становится еще более серьезным, как заговорщик. И Труба, этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучают, живет своей маленькой жизнью, шумит и волнуется, и тем деловым и богомольным людям, которые проходят мимо по бульвару, непонятно, зачем собралась эта толпа людей, эта пестрая смесь шапок, картузов и цилиндров, о чем тут говорят, чем торгуют.
http://bibliotekar.ru/rusChehov/21.htm
И ПРЕКРАСНОЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ СВОИ ПРЕДЕЛЫ
В записной книжке одного мыслящего коллежского регистратора, умершего в прошлом году от испуга, было найдено следующее:
Порядок вещей требует, чтобы не только злое, но даже и прекрасное имело пределы. Поясню примерами: Даже самая прекрасная пища, принятая через меру, производит в желудке боль, икоту и чревовещание. Лучшим украшением человеческой головы служат волосы. Но кто не знает, что сии самые волосы, будучи длинны (не говорю о женщинах), служат признаком, по коему узнаются умы легкомысленные и вредоносные?
Один чиновник, сын благочестивых и добронравных родителей, считал за большое удовольствие снимать перед старшими шапку. Это прекрасное качество его души особенно бросалось в глаза, когда он нарочно ходил по городу и искал встречи со старшими только для той цели, чтобы лишний раз снять перед ними шапку и тем воздать должное. Натура его была до того почтительная и уважительная, что он снимал шапку не только перед своим непосредственным и косвенным начальством, но даже и перед старшими возрастом. Следствием такого благородства души его было то, что ему каждую секунду приходилось обнажать свою голову. Однажды, встретясь в одно зимнее, холодное утро с племянником частного пристава, он снял шапку, застудил голову и умер без покаяния. Из этого явствует, что быть почтительным необходимо, но в пределах умеренности.
Не могу также умолчать и про науку. Наука имеет многие прекрасные и полезные качества, но вспомните, сколько зла приносит она, ежели предающийся ей человек переходит границы, установленные нравственностью, законами природы и прочим? Горе тому, который... Но умолчу лучше... Фельдшер Егор Никитыч, лечивший мою тетеньку, любил во всем точность, аккуратность и правильность - качества, достойные души возвышенной. На всякое действие и на всякий шаг у него были нарочитые правила, опытом установленные, а в исполнении сих правил он отличался примерным постоянством. Однажды, придя к нему в пять часов утра, я разбудил его и, имея на лице написанную скорбь, воскликнул: - Егор Никитыч, поспешите к нам! Тетенька истекает кровью!
Егор Никитыч встал, надел сапоги и пошел в кухню умываться. Умывшись с мылом и почистивши зубы, он причесался перед зеркалом и начал надевать брюки, предварительно почистив их и разгладив руками. Затем он почистил щеткой сюртук и жилетку, завел часы и аккуратненько прибрал свою постель. Покончив с постелью, он, как бы давая мне урок аккуратности, стал пришивать к пальто сорвавшуюся пуговку.
- Кровью истекает! - повторил я, изнемогая от понятного нетерпения.
- Сию минуту-с... Только вот богу помолюсь.
Егор Никитыч стал перед образами и начал молиться.
- Я готов... Только вот пойду на улицу, погляжу, какие надевать калоши — глубокие или мелкие?
Когда, наконец, мы вышли из его дома, он запер свою дверь, помолился набожно на восток и всю дорогу, идя тихо по тротуару, старался ступать на гладкие камни, боясь испортить обувь. Придя к нам, мы тетушку в живых уже не застали. Стало быть, и пунктуальность должна иметь пределы.
Писание, по-видимому, занятие прекрасное. Оно обогащает ум, набивает руку и облагороживает сердце. Но много писать не годится. И литература должна иметь предел, ибо многое писание может произвести соблазн. Я, например, пишу эти строки, а дворник Евсевий подходит к моему окну и подозрительно посматривает на мое писание. В его душу я заронил сомнение. Спешу потушить лампу.
http://bibliotekar.ru/rusChehov/195.htm
ПОСЛЕ ТЕАТРА
Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали "Евгения Онегина", и придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и в белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна.
"Я люблю вас, - написала она, - но вы меня не любите, не любите!" Написала и засмеялась.
Ей было только шестнадцать лет, и она еще никого не любила. Она знала, что ее любят офицер Горный и студент Груздев, но теперь, после оперы, ей хотелось сомневаться в их любви. Быть нелюбимой и несчастной - как это интересно! В том, когда один любит больше, а другой равнодушен, есть что-то красивое, трогательное и поэтическое. Онегин интересен тем, что совсем не любит, а Татьяна очаровательна, потому что очень любит, и если бы они одинаково любили друг друга и были счастливы, то, пожалуй, показались бы скучными.
"Перестаньте же уверять, что вы меня любите, - продолжала Надя писать, думая об офицере Горном. - Поверить вам я не могу. Вы очень умны, образованны, серьезны, у вас громадный талант и, быть может, вас ожидает блестящая будущность, а я неинтересная, ничтожная девушка, и вы сами отлично знаете, что в вашей жизни я буду только помехой. Правда, вы увлеклись мною и вы думали, что встретили во мне ваш идеал, но это была ошибка, и вы теперь уже спрашиваете себя в отчаянии: зачем я встретил эту девушку? И только ваша доброта мешает вам сознаться в этом!.."
Наде стало жаль себя, она заплакала и продолжала: "Мне тяжело оставить маму и брата, а то бы я надела монашескую рясу и ушла, куда глаза глядят. А вы бы стали свободны и полюбили другую. Ах, если бы я умерла!"
Сквозь слезы нельзя было разобрать написанного; на столе, на полу и на потолке дрожали короткие радуги, как будто Надя смотрела сквозь призму. Писать было нельзя, она откинулась на спинку кресла и стала думать о Горном. Боже мой, как интересны, как обаятельны мужчины! Надя вспомнила, какое прекрасное выражение, заискивающее, виноватое и мягкое, бывает у офицера, когда с ним спорят о музыке, и какие при этом он делает усилия над собой, чтобы его голос не звучал страстно. В обществе, где холодное высокомерие и равнодушие считаются признаком хорошего воспитания и благородного нрава, следует прятать свою страсть. И он прячет, но это ему не удается, и все отлично знают, что он страстно любит музыку. Бесконечные споры о музыке, смелые суждения людей непонимающих держат его в постоянном напряжении, он напуган, робок, молчалив. Играет он на рояле великолепно, как настоящий пианист, и если бы он не был офицером, то наверное был бы знаменитым музыкантом. Слезы высохли на глазах. Надя вспомнила, что Горный объяснялся ей в любви в симфоническом собрании и потом внизу около вешалок, когда со всех сторон дул сквозной ветер.
"Я очень рада, что вы, наконец, познакомились со студентом Груздевым, - продолжала она писать. - Он очень умный человек, и вы, наверное, его полюбите. Вчера он был у нас и просидел до двух часов. Все мы были в восторге, и я жалела, что вы не приехали к нам. Он говорил много замечательного".
Надя положила на стол руки и склонила на них голову, и ее волосы закрыли письмо. Она вспомнила, что студент Груздев тоже любит ее и что он имеет такое же право на ее письмо, как и Горный. В самом деле, не написать ли лучше Груздеву? Без всякой причины в груди ее шевельнулась радость: сначала радость была маленькая и каталась в груди, как резиновый мячик, потом она стала шире, больше и хлынула как волна. Надя уже забыла про Горного и Груздева, мысли ее путались, а радость всё росла и росла, из груди она пошла в руки и в ноги, и казалось, будто легкий прохладный ветерок подул на голову и зашевелил волосами. Плечи ее задрожали от тихого смеха, задрожал и стол, и стекло на лампе, и на письмо брызнули из глаз слезы. Она была не в силах остановить этого смеха и, чтобы показать самой себе, что она смеется не без причины, она спешила вспомнить что-нибудь смешное.
- Какой смешной пудель! - проговорила она, чувствуя, что ей становится душно от смеха. - Какой смешной пудель!
Она вспомнила, как Груздев вчера после чаю шалил с пуделем Максимом и потом рассказал про одного очень умного пуделя, который погнался на дворе за вороном, а ворон оглянулся на него и сказал: - Ах ты, мошенник!
Пудель, не знавший, что он имеет дело с ученым вороном, страшно сконфузился и отступил в недоумении, потом стал лаять.
- Нет, буду лучше любить Груздева, - решила Надя и разорвала письмо.
Она стала думать о студенте, об его любви, о своей любви, но выходило так, что мысли в голове расплывались и она думала обо всем: о маме, об улице, о карандаше, о рояле... Думала она с радостью и находила, что всё хорошо, великолепно, а радость говорила ей, что это еще не всё, что немного погодя будет еще лучше. Скоро весна, лето, ехать с мамой в Горбики, приедет в отпуск Горный, будет гулять с нею по саду и ухаживать. Приедет и Груздев. Он будет играть с нею в крокет и в кегли, рассказывать ей смешные или удивительные вещи. Ей страстно захотелось сада, темноты, чистого неба, звезд. Опять ее плечи задрожали от смеха и показалось ей, что в комнате запахло полынью и будто в окно ударила ветка. Она пошла к себе на постель, села и, не зная, что делать со своею большою радостью, которая томила ее, смотрела на образ, висевший на спинке ее кровати, и говорила: - Господи! Господи! Господи!
http://bibliotekar.ru/rusChehov/44.htm
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 14 Янв 2015, 18:55 | Сообщение # 16 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | ФОТОГРАФИЯ
Утром проснулась, заглянула в комнату - его нет! - испуганно ёкнуло сердце, но, все еще спокойная, поднялась в ремингтонную - и здесь нет! - и пошла, пошла, все убыстряя шаги. Путаясь в широкой юбке, вбежала в библиотеку. Нет! И навстречу с испуганно-большими глазами Саша, а в руке - письмо. Взяла листок и сразу увидела слова: «Мой отъезд огорчит тебя...».
Кто-то кричал за спиною, но не слышала. Сквозь голый облетевший сад бежала к пруду, не бросилась - просто скатилась с мостков в промерзшую зеленоватую тину. Подоспели. Несли домой на руках. Уложили в гостиной на диване. Когда очнулась, увидела в зеркале напротив: какая-то старуха, по толстым морщинистым щекам, не останавливаясь, ползут медленные слезы. А день был неуверенным. Только на минуту проглянуло солнце, сочными желтыми квадратами легло на полу, но ненадолго - на небо снова натянуло косматых туч, и снова заморосил серый дождик. Зачем-то диктовала телеграммы, умоляла, требовала, обманывала, а внизу сыновья писали письма и кто-то - медленное - играл на пианино. Иногда с чужим - она все, все знает! - лицом проходила Саша. Потом заснула. Снились лошади. Запрокидывая головы, бежали они к светлой озерной воде. Неясно, сквозь сон, слышала чьи-то голоса, потом снова медленную музыку, а когда проснулась, приехали репортеры. Долго говорила с ними, оправдывалась. Догадывалась, что оправдывается, и краснела. Репортеры курили и, прищурившись, рассматривали ее - им надо было туда, куда уехал он, но об этом знала только Саша. Она, закрывшись, сидела в своей комнате. Потом замолчала на полуслове - все новые люди возникали вокруг, с любопытством рассматривали ее.
В нетопленых комнатах было холодно, и Софья Андреевна зябла, кутаясь в пуховый платок.
Жизнь была долгой, была счастливой, потому что вся она - это он, да еще дети, которые тоже он... Жизнь была долгой, и осталось только тихо и счастливо умереть, но смерти не было, было вот это бегство, этот скандал, эти раскрасневшиеся от любопытства чужие лица. Господи! Да она и сама бы уехала с ним, пряталась бы от чужих людей, пересаживалась бы с одного поезда на другой, только чтобы с ним, только чтобы умереть рядом... На следующий день, вечером, сказали: Астапово. Только накинула на плечи пальто и поехала. Уже была ночь, когда бежала к дому начальника станции, а там люди, люди и уже узнавали ее, оглядывались, толкали друг друга, что-то говорили про нее, но она не слышала, торопливо бормотала, сбиваясь, путая слова: - Только посмотреть. Да, только посмотреть. Можно, я в окошко загляну, да? Сорок восемь лет жили…

С.А. Толстая у окна дома начальника станции Астапово И.М. Озолина
И неслышные слезы снова текли по лицу. И уже помогал кто-то перелезть через ограду палисадника, а она все бормотала: - Только посмотреть, только взглянуть, как он... И, спотыкаясь, хватаясь руками за деревья, брела к светящимся в этой неоглядной ночи окнам. Безжалостно ярко вспыхнул навстречу магний - снова ее, покинутую, фотографировали. Так и осталась. Старая, крадущаяся сквозь пустые деревья к дому... - За что ее так, а? - спросила стоявшая рядом девушка, и голос ее задрожал. А экскурсовод уже торопила в следующий зал. День был выходной, и яснополянский музей работал как конвейер.

На могиле Льва Толстого нет креста
Николай Коняе
http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=38&article=14061
ПОЛЕТ
Як-40, задрав кверху нос, набирал высоту и наконец выпрямился и замер. Внизу где-то далеко осталась Рига, тихие, старые улочки, Даугава. В салоне было тихо, спокойно. Кто-то дремал, прикрыв лицо газетой. Девушка читала книгу. Две женщины, перегнувшись через кресла, что-то вполголоса обсуждали. Светловолосый ребёнок с интересом рассматривал тёмное небо, яркое, какое-то одинокое солнце и медленно ползающие по цветным лоскутикам полей, облака-барашки. Только в пилотской кабине было неспокойно!
«Хоть обратно возвращайся»,- нервно барабаня пальцами по креслу, сказал первый пилот! «Да уж!» - сказал второй, медленно раскачиваясь в кресле. Из-за сильного тумана аэропорт назначения не принимал! «Идите на запасной», - пробубнили наушники. Но и запасной отказался принимать, как и другие близлежащие порты. И вдруг, удача, диспетчер аэропорта города «N» радостно прокричал: «Ребята идите к нам, полоса чистая! Облачность низкая, но полоса чистая! Видимость...» «Ну наконец-то», - обрадовано сказал второй! Быстро развернул карту, прикинул курс и... самолёт наклонился на правое крыло и замер. Только внизу перевёрнутая земля медленно поворачивалась. Высота. Курс. Вот и радиомаяк дальнего привода. «Ча-ша-то-нет, ти-та ти-та», - монотонно повторял маяк. «Снижаемся, - сказал первый, - сплошная облачность!» «Угу», - согласился второй!
Экипаж впервые шёл на незнакомый порт, да ещё эта, сплошная облачность! Диспетчер упорно повторял: «Полоса чистая, видимость, заходите на посадку, мы вас видим». Скорость снижена, закрылки выпущены. Самолёт шёл на посадку. Высотомер прыгал, показывая близость земли, но вокруг сплошное белое молоко! «Вижу полосу, огни!» - воскликнул второй. «Вижу,- ответил первый, -садимся». Вдруг, как молния пронзила сознание, на самолёт надвигалась пятиэтажка. Чуть не задев крышу, самолёт пролетел. Мгновение, ручку на себя, двигатели взревели и в то же время самолёт тряхнуло от резкого удара. До конца полёта осталось две секунды!
На заводе была пересменка. Первая смена уже не работала, вторая ещё не работала. Нам же, ещё час с лишним оставалось до конца рабочего дня. На улице стоял настолько густой туман, что только тёмные окна на противоположной стороне улицы выдавали почти невидимые коробки домов. Кто-то в лаборатории включил свет. У всех было сонное настроение. Кто-то шелестел чертежами, кто-то лениво щёлкал ручками приборов... Завлабораторией не то писал что-то, не то дремал. Ведущий конструктор соседней группы на листе бумаги рисовал какие-то каракули, тщательно выводя каждую завитушку. Как вдруг в коридоре послышался топот многочисленных ног, мужчина переводя дыхание кричал на весь коридор: «Самолёт, самолёт, упал, на дома, на заводские дома, самолёт!». Все оцепенели! Кто-то кинулся звонить домой, кто-то бросился к вешалке и начал одеваться. Паническое настроение мгновенно охватило всех! Все бросились на проходную, а там уже было настоящее столпотворение! Вахтёры наотрез отказывались пропускать. Кто-то, помоложе, перепрыгивали через ограждение, турникет. Когда наконец до вахтёров дошёл весь ужас происшедшего, турникет, увлекаемый толпой, завертелся как беличье колесо! На улице шёл, бежал, растекался людской муравейник. Вот сейчас нужно поворачивать к заводским домам. Но толпа почему-то двигалась в сторону, в сторону моего дома! Но, нет, повернула влево и вдруг стала замедляясь превращаться в людское море. Кругом стоял гомон, кто-то, что-то до хрипоты рассказывал, показывая разрушенную наполовину крышу типографии. Густой туман скрывал всё вокруг. На другой стороне проспекта еле-еле угадывались серые силуэты домов. Слева горел маршрутный автобус - четвёртка. Справа киоск «Союзпечать». Прямо, факелом, из разорванной трубы, горел газ. Чуть правее огромное пламя то стихая, то вновь разгораясь, полыхало, освещая густой туман. Вдруг раздался хлопок и в небо взвились ярко-белые искры, по-видимому горели магниевые сплавы. Я посмотрел вокруг. На земле валялись кирпичи, какие-то доски, провода листы шифера. Мужчина охватив окровавленную голову сидел на земле. Молодая женщина, перепачканная сажей, с распущенными волосами, держа на руках маленького ребёнка, с ужасом в глазах, бегала из стороны в сторону, кого-то заносили в «Скорую»!
Утро следующего дня выдалось ясным, солнечным, как бы в насмешку над людским горем! Идя на работу, я не удержался и повернул к месту трагедии. Серый четырёхэтажный дом был как бы расколот на две половинки. И хотя за ночь вокруг был построен высокий сплошной забор, но и он не мог скрыть трагедии. Куча строительного мусора возвышалась до третьего этажа. На самом верху, на уцелевшей чудом стене висела газовая плита. На стене виднелись вырезанные из журнала картинки, расколотое зеркало. Большой грузовик медленно отъезжал от дома, увозя груду искорёженного металла. На рваном куске виднелись уцелевшие иллюминаторы, смотревшие в последний раз на высокое, голубое небо!

Новгород. Трагедия 75-го. На следующий день, на месте падения ЯК-40. Кранами грузят на трейлеры останки самолёта. Внизу видны группы милицейского оцепления. Вдоль пешеходной дорожки за ночь построен фанерный, непрозрачный забор.
http://ua1tcr.narod.ru/rasskazy.htm
ЗАКОЛДОВАННАЯ РОЩА
Чего только не увидишь из окна деревенского дома! Вот через поле бежит тропинка. Ныряет в берёзовую рощу и спешит дальше. Обыкновенная полевая тропинка. И роща самая обыкновенная. Только вот что странно: люди идут по тропинке, входят в рощу, но никто из рощи не выходит! Вошли в рощу две девочки и не вышли. Въехал велосипедист и не выехал. Проковылял старичок и пропал. Уж не завёлся ли в роще Змей Горыныч? Или Соловей-разбойник? Смотрел я, смотрел, не вытерпел и тоже пошёл в рощу. Захожу, а там... Всё красно от костяники!

КАК МЕДВЕДИЦА РЫБУ ЛОВИЛА
В реке Амуре шла кета. На берег спустилась медведица с медвежонком и стала ловить рыбу. Медведица выхватывала из воды крупных, сверкающих рыбин и швыряла их через спину на песок. Рыбины били хвостами, добирались до воды и уходили в реку. Медвежонок бегал и подталкивал их к воде. А медведица всё швыряла и швыряла рыбин. Но вот она оглянулась, сердито рявкнула и, схватившись лапами за голову, закачалась из стороны в сторону... Наконец медведица пришла в себя, медвежонок получил такую затрещину, что укатился в кусты и притих там, а медведица снова стала ловить рыбу. Медведица ловила рыбу, убивала её и кидала на берег, подальше от воды. А медвежонок сидел в кустах и смотрел.
ФУЗЕЯ
У меня в комнате на стене висит старинное ружье - фузея. Ствол у неё длинный, широкий, курок тугой, как волчий капкан, и с насечкой. Дед с ней охотничал, и мне в войну довелось. Пороху в деревне у нас не было, и мы делали его сами - перетирали осиновый уголь с серой и селитрой. Иногда фузея выстреливала сразу, а иной раз долго шипела и только после этого стреляла. Но самым неудобным был курок. Один я его взвести не мог, и мне помогала бабушка. Мы зажимали фузею в дверях, брали полено и давили на курок изо всех сил, пока он не щёлкал. Бабушка взваливала мне, фузею на плечо, и я шёл на охоту. Уток у нас на озере было много, и я стрелял не целясь: наставлял на озеро фузею, нажимал на спусковой крючок и на всякий случай отползал в сторонку. Я лежал в сторонке, ловил кузнечиков или жевал травинку, а фузея шипела, тужилась и, наконец, выстреливала.
- Слышала, как ты пальнул! - встречала меня бабушка и вздыхала: - Хотя бы чирочка подстрелил, что ли! Возвожу тебе этот курок, возвожу.
Зато уж когда охота была удачной, в избе у нас царил настоящий праздник. Бабушка ощипывала утку и радостно приговаривала: - Экий баранище! А жиру-то, жиру - страсть!.. Намедни была у бригадирши. Санька её тоже подстрельнул чирёнка, так и глядеть не на что! Лежит, горемыка, лапки врастопырку, махонький, синий...
Прошло много лет. Были у меня разные ружья: одноствольные и двуствольные, курковые и бескурковые, тульские и немецкие, но самым дорогим из них до сих пор остаётся фузея - старинное дедовское ружье с тяжёлым стволом и тугим курком с насечкой.
БЕРЕЗА
На высокой гриве стоит берёза. Её корявый ствол оброс лишайником и тугим, как резина, трутом. С пожелтевших сучьев до самой земли свешиваются длинные молодые ветви. Эти ветви делают берёзу очень чуткой: кругом ни ветерка, а берёза покачивается, сверкает листьями и шумит, шумит... И тонут в этом родном сердцу шуме все обиды, горести и боязни. Войди в этот шум - и ты станешь самым счастливым!

http://ten2x5.narod.ru/biblio/st_beloz0.htm
СУШКИ
Как легко поругаться с женой из-за пустяка - попробуй примирись потом. Мы бредем лесом с прогулки, впереди - притихший ребенок. Ранняя весна. В оврагах снег еще. Поднимаемся на взгорок. И тут нас встречает одинокий куст орешника, унизанный весь... баранками. Настоящими сушками с маком, висящими на тонких ветках. Мы стоим, не веря глазам. Место безлюдное. На сучке записка: "Угощайтесь люди добрые". Детский почерк, бумажка в клетку. Мы начинаем смеяться. Мы начинаем прыгать вокруг куста. Мы не находим слов. Кто тебя придумал, чудо? Мы съели тогда с великим удовольствием лишь несколько сушек, чтобы и другие могли разделить с нами этот безымянный, маленький дар любви. Каждую весну я вспоминаю об этом и знаю, что буду вспоминать об этом всю жизнь. Он так и будет стоять у меня перед глазами, этот дивный куст орешника в весеннем лесу.
МОЙ ОТЕЦ
В те дни он не отходил от отца. Последние месяц-полтора, всюду с ним как хвостик. Раньше-то: с утра, да на улицу и в горы на весь день с ребятней, а тут ни на шаг. И отец брал его с собой, даже на покос бывало, полусонного. Завернет от прохлады и на телегу, тот проснется испуганно, а кругом уж все поет: и птицы, и отец вполголоса, и коса. Или вцепится в тяжелую отцовскую руку и не отпускает и ходит с ним. Отец остановится, разговорится со знакомым, зайдет в контору или на базар соберется, а ему ничего не надо, только быть рядом с отцом, только б не по потерять. И откуда он мог догадываться, что не увидит больше отца, что никогда уже больше не держаться ему за его большую теплую руку? Так и вышло: проводили на войну и погиб. Я часто вижу этого пацаненка, чумазого от пыли и слез, глядящего на дорогу и уже все знающего. Шесть лет ему было. Это был мой отец.
В ДЕТСТВЕ
В детстве моей 'вечной' обузой во дворе была сестра, она была младше меня на четыре года. Как-то зимой она увязалась за мною с санками, а мне надо было убежать со сверстниками по своим делам и я, посадив ее на эти санки, безжалостно мотал ее на них, резко разворачивая и опрокидывая на виражах, добиваясь того, чтобы она сама оставила меня и не просилась со мною к ребятам. И надо было видеть, как этот неуклюжий маленький человечек, перевязанный шарфом, в шубке, терпеливо страдая, вставал после каждого падения и усаживался обреченно в санки и опять вставал, не смея заплакать... Сейчас я возвращаюсь в детство и уже не убегаю, добившись-таки ее горького плача и отказа идти со мной, нет, я бегу к ней, к своей сестренке и целую ее, и отряхиваю ее от снега, и не нужны мне никакие ребята и никакие дела, я прижимаюсь к ее морозной щечке и шепчу: "Прости, прости меня, Юлька, не плачь, я никуда не уйду, я не брошу тебя..."
Максим Яковлев
http://yamalrpc.ru/articles/id/7
Антон Чехов
ДАЧНИЦА
Леля NN, хорошенькая двадцатилетняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Все далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в десяти шагах от палисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой. Кругом тишина... Леля думает... Хорошенькое лицо ее так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что, право, неделикатно и жестоко не поделиться с ней ее горем. Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама m-lle Morceau, забитое, больное и ужасно недалекое созданье с вечно испуганным лицом и большим, вспотевшим носом, водила выпускных в фотографию сниматься.
- Ах, умоляю вас, - просила она конторщицу в фотографии, - не показывайте им карточек мужчин!
Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого «демона» она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой, страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Morceau, но, пропитанные насквозь «идеалами», они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев-вольноопределяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники. Гляди на эту кишащую толпу и выбирай! В частности, Леля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых впередогонку трактуют все романы и даже все учебники по истории — древней, средней и новой...
В этом мае Леля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на все это, он (совестно сознаться перед поэтическим маем!) груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев. Просыпается он ровно в десять часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во все тщательно вычищенное и выглаженное, целует женину руку и в собственном экипаже едет на службу в «Страховое общество». Что он делает в этом «обществе», Леля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты, или, быть может, даже вращает судьбами «общества» - неизвестно. В четвертом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит все больше о высоких материях. Решает женский и финансовый вопросы, бранит за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актерам, студентам... «Молодежь ужжасно измельчала!» За один обед успеет сотню вопросов решить. Но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и может служить авторитетом.
- Нет у нас теперь хороших писателей! - вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает - ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже, а прочитав однажды, по совету Лели, Щедрина, нашел, что Щедрин «туманно» пишет.
- Пушкин, ma chere, лучше... У Пушкина есть очень смешные вещи! Я читал... помню...
После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно, хмурясь и морщась. О чем он думает, неведомо Леле. Она знает только, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и несет все ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и, в случае ошибки партнера, ровным, отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежачее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп.
- Извозчик! Извозчик! - услышала от него Леля на вторую ночь после свадьбы. Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, животе... Больше ничего не может сказать о нем Леля. Она стоит теперь у палисадника, думает о нем, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех; но ей не легче от этого. Священный ужас m-lle Morceau обещал ей больше.
http://bibliotekar.ru/rusChehov/182.htm
ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ
Иван Дмитрич, человек средний, проживающий с семьей тысячу двести рублей в год и очень довольный своей судьбой, как-то после ужина сел на диван и стал читать газету.
- Забыла я сегодня в газету поглядеть, - сказала его жена, убирая со стола. - Посмотри, нет ли там таблицы тиражей?
- Да, есть, - ответил Иван Дмитрич. - А разве твой билет не пропал в залоге?
- Нет, я во вторник носила проценты.
- Какой номер?
- Серия 9499, билет 26.
- Так-с... Посмотрим-с... 9499 и 26.
Иван Дмитрич не верил в лотерейное счастие и в другое время ни за что не стал бы глядеть в таблицу тиражей, но теперь от нечего делать и - благо, газета была перед глазами - он провел пальцем сверху вниз по номерам серий. И тотчас же, точно в насмешку над его неверием, не дальше как во второй строке сверху резко бросилась в глаза цифра 9499! Не поглядев, какой номер билета, не проверяя себя, он быстро опустил газету на колени и, как будто кто плеснул ему на живот холодной водой, почувствовал под ложечкой приятный холодок: и щекотно, и страшно, и сладко!
- Маша, 9499 есть! - сказал он глухо.
Жена поглядела на его удивленное, испуганное лицо и поняла, что он не шутит.
- 9499? - спросила она, бледнея и опуская на стол сложенную скатерть.
- Да, да... Серьезно есть!
- А номер билета?
- Ах, да! Еще номер билета. Впрочем, постой... погоди. Нет, каково? Все-таки номер нашей серии есть! Все-таки, понимаешь...
Иван Дмитрич, глядя на жену, улыбался широко и бессмысленно, как ребенок, которому показывают блестящую вещь. Жена тоже улыбалась: ей, как и ему, приятно было, что он назвал только серию и не спешит узнать номер счастливого билета. Томить и дразнить себя надеждой на возможное счастие - это так сладко, жутко!
- Наша серия есть, - сказал Иван Дмитрич после долгого молчания. - Значит, есть вероятность, что мы выиграли. Только вероятность, но всё же она есть!
- Ну, теперь взгляни.
- Постой. Еще успеем разочароваться. Это во второй строке сверху, значит, выигрыш в 75000. Это не деньги, а сила, капитал! И вдруг я погляжу сейчас в таблицу, а там - 26! А? Послушай, а что если мы в самом деле выиграли?
Супруги стали смеяться и долго глядели друг на друга молча. Возможность счастья отуманила их, они не могли даже мечтать, сказать, на что им обоим нужны эти 75000, что они купят, куда поедут. Думали они только о цифрах 9499 и 75000, рисовали их в своем воображении, а о самом счастье, которое было так возможно, им как-то не думалось. Иван Дмитрич, держа в руках газету, несколько раз прошелся из угла в угол и, только когда успокоился от первого впечатления, стал понемногу мечтать.
- А что, если мы выиграли? - сказал он. - Ведь это новая жизнь, это катастрофа! Билет твой, но если бы он был моим, то я прежде всего, купил бы тысяч за 25 какую-нибудь недвижимость вроде имения; тысяч 10 на единовременные расходы: новая обстановка... путешествие, долги заплатить и прочее... Остальные 40 тысяч в банк под проценты...
- Да, имение - это хорошо, - сказала жена, садясь и опуская на колени руки.
- Где-нибудь в Тульской или Орловской губернии... Во-первых, дачи не нужно, во-вторых, все-таки доход.
И в его воображении затолпились картины, одна другой ласковей, поэтичней, и во всех этих картинах он видел себя самого сытым, спокойным, здоровым, ему тепло, даже жарко! Вот он, поевши холодной, как лед, окрошки, лежит вверх животом на горячем песке у самой речки или в саду под липой... арко... Сынишка и дочь ползают возле, роются в песке или ловят в траве козявок. Он сладко дремлет, ни о чем не думает и всем телом чувствует, что ему не идти на службу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А надоело лежать, он идет на сенокос или в лес за грибами или же глядит, как мужики ловят неводом рыбу. Когда садится солнце, он берет простыню, мыло и плетется в купальню, где не спеша раздевается, долго разглаживает ладонями свою голую грудь и лезет в воду. А в воде, около матовых мыльных кругов суетятся рыбешки, качаются зеленые водоросли. После купанья чай со сливками и со сдобными кренделями... Вечером прогулка или винт с соседями.
- Да, хорошо бы купить имение, - говорит жена, тоже мечтая, и по лицу ее видно, что она очарована своими мыслями. Иван Дмитрич рисует себе осень с дождями, с холодными вечерами и с бабьим летом. В это время нужно нарочно подольше гулять по саду, огороду, по берегу реки, чтобы хорошенько озябнуть, а потом выпить большую рюмку водки и закусить соленым рыжиком или укропным огурчиком и - выпить другую. Детишки бегут с огорода и тащат морковь и редьку, от которой пахнет свежей землей... А после развалиться на диване и не спеша рассматривать какой-нибудь иллюстрированный журнал, а потом прикрыть журналом лицо, расстегнуть жилетку, отдаться дремоте...
За бабьим летом следует хмурое, ненастное время. Днем и ночью идет дождь, голые деревья плачут, ветер сыр и холоден. Собаки, лошади, куры - всё мокро, уныло, робко. Гулять негде, из дому выходить нельзя, целый день приходится шагать из угла в угол и тоскливо поглядывать на пасмурные окна. Скучно! Иван Дмитрич остановился и посмотрел на жену.
- Я, знаешь, Маша, за границу поехал бы, -сказал он. И он стал думать о том, что хорошо бы поехать глубокой осенью за границу, куда-нибудь в южную Францию, Италию... Индию!
- Я тоже непременно бы за границу поехала, -сказала жена. - Ну, посмотри номер билета!
- Постой! Погоди...
Он ходил по комнате и продолжал думать. Ему пришло на мысль: а что если в самом деле жена поедет за границу? Путешествовать приятно одному или же в обществе женщин легких, беззаботных, живущих минутой, а не таких, которые всю дорогу думают и говорят только о детях, вздыхают, пугаются и дрожат над каждой копейкой. Иван Дмитрии представил себе свою жену в вагоне со множеством узелков, корзинок, свертков; она о чем-то вздыхает и жалуется, что у нее от дороги разболелась голова, что у нее ушло много денег; то и дело приходится бегать на станцию за кипятком, бутербродами, водой... Обедать она не может, потому что это дорого...
"А ведь она бы меня в каждой копейке усчитывала, - подумал он, взглянув на жену. - Билет-то ее, а не мой! Да и зачем ей за границу ехать? Чего она там не видала? Будет в номере сидеть да меня не отпускать от себя... Знаю!"
И он первый раз в жизни обратил внимание на то, что его жена постарела, подурнела, вся насквозь пропахла кухней, а сам он еще молод, здоров, свеж, хоть женись во второй раз.
"Конечно, всё это пустяки и глупости, - думал он, - но... зачем бы она поехала за границу? Что она там понимает? А ведь поехала бы... Воображаю... А на самом деле для нее что Неаполь, что Клин - всё едино. Только бы мне помешала. Я бы у нее в зависимости был. Воображаю, как бы только получила деньги, то сейчас бы их по-бабьи под шесть замков... От меня будет прятать... Родне своей будет благотворить, а меня в каждой копейке усчитает".
Вспомнил Иван Дмитрич родню. Все эти братцы, сестрицы, тетеньки, дяденьки, узнав про выигрыш, приползут, начнут нищенски клянчить, маслено улыбаться, лицемерить. Противные, жалкие люди! Если им дать, то они еще попросят; а отказать -будут клясть, сплетничать, желать всяких напастей.
Иван Дмитрич припоминал своих родственников, и их лица, на которые он прежде глядел безразлично, казались ему теперь противными, ненавистными. "Это такие гадины!" - думал он. И лицо жены стало казаться тоже противным, ненавистным. В душе его закипала против нее злоба, и он со злорадством думал: "Ничего не смыслит в деньгах, а потому скупа. Если бы выиграла, дала бы мне только сто рублей, а остальные - под замок". И он уже не с улыбкою, а с ненавистью глядел на жену. Она тоже взглянула на него, и тоже с ненавистью и со злобой. У нее были свои радужные мечты, свои планы, свои соображения; она отлично понимала, о чем мечтает ее муж. Она знала, кто первый протянул бы лапу к ее выигрышу.
"На чужой-то счет хорошо мечтать! - говорил ее взгляд. - Нет, ты не смеешь!"
Муж понял ее взгляд; ненависть заворочалась у него в груди, и, чтобы досадить своей жене, он назло ей быстро заглянул на четвертую страницу газеты и провозгласил с торжеством: - Серия 9499, билет 46! Но не 26!
Надежда и ненависть обе разом исчезли, и тотчас же Ивану Дмитричу и его жене стало казаться, что их комнаты темны, малы и низки, что ужин, который они съели, не насыщает, а только давит под желудком, что вечера длинны и скучны...
- Чёрт знает что, - сказал Иван Дмитрич, начиная капризничать. - Куда ни ступишь, везде бумажки под ногами, крошки, какая-то скорлупа. Никогда не подметают в комнатах! Придется из дому уходить, чёрт меня подери совсем. Уйду и повешусь на первой попавшейся осине.
http://bibliotekar.ru/rusChehov/8.htm
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 25 Ноя 2015, 16:46 | Сообщение # 17 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
Лев Толстой отказался от Нобелевской премии, ненавидел деньги и выступал на стороне крестьян. Он был ярым противником власти и был первым, кто отказался от авторского права, а за отклонение религиозных авторитетов отлучен от церкви. В.Набоков использовал в своих лекциях интересный приём. Он закрывал все шторы в помещении, создавая полную темноту. Когда в зале звучала фраза: «На небосклоне русской литературы вот это Гоголь», - в конце помещения вспыхивала лампа.
«Вот это Чехов», - на потолке зажигалась звезда. «Это Достоевский», - переключал выключателем Набоков. «А вот это Толстой!» - Набоков открывал шторы, и помещение заливал яркий солнечный свет.
Лев Толстой:
1. Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя. Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это.
2. Все приходит к тому, кто умеет ждать.
3. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
4. Всякий пусть метет перед своей дверью. Если каждый будет делать так, вся улица будет чиста.
5. Мы только оттого мучаемся прошедшим и портим себе будущее, что мало заняты настоящим. Прошедшее было, будущего нет, есть только одно настоящее.
6. Всегда кажется, что нас любят за то, что мы так хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит.
7. Без любви жить легче. Но без неё нет смысла.
8. Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр и наоборот. В этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. Ты осудил, а он уже другой.
9. У меня нет всего, что я люблю. Но я люблю всё, что у меня есть.
10. Мир движется вперёд благодаря тем, кто страдает.
11. Сильные люди всегда просты.
12. Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же человек требует всего от других.
13. Величайшие истины — самые простые.
14. Дело не в том, чтобы знать много, а в том, чтобы знать из всего того, что можно знать, самое нужное.
15. Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.
16. Люди часто гордятся чистотой своей совести только потому, что они обладают короткой памятью.
17. Нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в каком-нибудь отношении хуже себя, и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой.
18. Одно из самых удивительных заблуждений - что счастье человека в том, чтобы ничего не делать.
19. Зло только внутри нас, то есть там, откуда его можно вынуть.
20. Человек должен быть всегда счастливым, если счастье кончается, смотри, в чём ошибся.
21. Я уверен, что смысл жизни для каждого из нас — просто расти в любви.
22. Все строят планы, и никто не знает, проживёт ли он до вечера.
23. Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все окружающие его живут так же.
24. Счастье охотнее заходит в дом, где всегда царит хорошее настроение.
http://www.cluber.com.ua/lifesty....olstogo

А.П. Чехов 100 лет назад написал письмо своему брату, талантливому художнику, но слабохарактерному и страдающему от беспробудного пьянства. Зная слабости своего брата, он всегда и переживал за него, расстраивался из-за наплевательского отношения Николая к своему дару. Он писал: «Гибнет сильный русский талант, гибнет ни за грош». И, конечно, пытался его вразумить, объяснить, что тот совершает ошибку, живя подобной жизнью. В одном из своих писем к брату он в довольно жесткой форме в очередной раз указал ему на его природу ужасного образа жизни и наплевательство по отношению к себе о качествах воспитанного человека.

Москва, 1886
Ты часто жаловался мне, что тебя «не понимают!». На это даже Гёте и Ньютон не жаловались. Жаловался только Христос, но тот говорил не о своём «я», а о своём учении. Тебя отлично понимают. Если же ты сам себя не понимаешь, то это не вина других… Уверяю тебя, что, как брат и близкий к тебе человек, я тебя понимаю и от всей души тебе сочувствую. Все твои хорошие качества я знаю, как свои пять пальцев, ценю их и отношусь к ним с самым глубоким уважением. Я, если хочешь, в доказательство того, что понимаю тебя, могу даже перечислить эти качества. По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, не эгоист, делишься последней копейкой, искренен; ты чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, не ехиден, незлопамятен, доверчив… Ты одарён свыше тем, чего нет у других: у тебя талант. Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на 2 000 000… Талант ставит тебя в обособленное положение: будь ты жабой или тарантулом, то и тогда бы тебя уважали, ибо таланту всё прощается. Недостаток же у тебя только один. В нем и твоя ложная почва, и твое горе, и твой катар кишок. Это - твоя крайняя невоспитанность. Извини, пожалуйста, но veritas magis amicitiae… Дело в том, что жизнь имеет свои условия.
Чтобы чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде, чтобы не быть среди неё чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом воспитанным. Талант занес тебя в эту среду, ты принадлежишь ей, но… тебя тянет от неё, и тебе приходится балансировать между культурной публикой и жильцами vis-a-vis. Сказывается плоть мещанская, выросшая на розгах, у рейнскового погреба, на подачках. Победить её трудно, ужасно трудно.
Качества воспитанного человека
Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям:
1. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних.
2. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом…
3. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.
4. Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще молчат.
5. Они не уничтожают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие и помощь. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: меня не понимают!..
6. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями, восторг встречного в Salon’e, известность по портерным…
7. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой…
8. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплёванному полу, питаться из керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить половой инстинкт… Воспитанные же в этом отношении не так кухонны. Им нужны от женщины не постель, не лошадиный пот, не ум, выражающийся в умении надуть фальшивой беременностью и лгать без устали. Им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность… Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи. Пьют они только, когда свободны, при случае. Ибо им нужна mens sana in corpore sano. И т.д. Таковы воспитанные…
Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть только Пиквика и вызубрить монолог из Фауста. Недостаточно сесть на извозчика и поехать на Якиманку, чтобы через неделю удрать оттуда… Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час… Поездки на Якиманку и обратно не помогут. Надо смело плюнуть и резко рвануть. Иди к нам, разбей графин с водкой и ложись читать хотя бы Тургенева, которого ты не читал…»
http://www.cluber.com.ua/lifesty....chehova
Эрих Мария Ремарк
"В ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА ХОРОШО ВИДНО СВЕТЛЫХ ЛЮДЕЙ"

Ремарк был невероятным человеком, он был интеллигентом с ранимой душой и с большим талантом, который он не признавал. Жизнь писателя была не простой, ведь, он в достаточно молодом возрасте отправился на войну, где был тяжело ранен. Нацисты сжигали его тексты, а отношения с женщинами были для него мучительными и достаточно болезненными. Переживания, которая дала ему жизнь, наложили огромный отпечаток на его творчество. Любовь и война - главные темы его книг. Он писал о страстной и пронизывающей любви, о войне, как страшной и разрушающей судьбы многих, о потерянном поколении переживших ужасы войны.
О жизни
1. Раскаяние - самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя. Ничего нельзя исправить. Иначе все мы были бы святыми. Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее.
2. Говорят, труднее всего прожить первые семьдесят лет. А дальше дело пойдет на лад.
3. Жизнь - это парусная лодка, на которой слишком много парусов, так что в любой момент она может перевернуться.
4. То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
5. Принципы нужно иногда нарушать, иначе от них никакой радости.
6. И что бы с вами ни случилось, ничего не принимайте близко к сердцу. Немногое на свете долго бывает важным.
7. Лучше умереть, когда хочется жить, чем дожить до того, что захочется умереть.
8. Самая большая ненависть возникает к тем, кто сумел дотронуться до сердца, а затем плюнул в душу.
9. Кто готов с улыбкой отпустить, того пытаются удержать.
О счастье
10. О счастье можно говорить минут пять, не больше. Тут ничего не скажешь, кроме того, что ты счастлив. А о несчастье люди рассказывают ночи напролет.
11. Только несчастный знает, что такое счастье. Счастливец ощущает радость жизни не более, чем манекен: он только демонстрирует эту радость, но она ему не дана. Свет не светит, когда светло. Он светит во тьме.
12. На самом деле человек по-настоящему счастлив только тогда, когда он меньше всего обращает внимание на время и когда его не подгоняет страх. И все-таки, даже если тебя подгоняет страх, можно смеяться. А что же еще остается делать?
13. Самый чудесный город это тот, где человек счастлив.
14. Счастье - самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете.
О любви
15. Только если окончательно расстанешься с человеком, начинаешь по-настоящему интересоваться всем, что его касается. Таков один из парадоксов любви.
16. Ни один человек не может стать более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил.
17. Что может дать один человек другому, кроме капли тепла? И что может быть больше этого? Ты только никого не подпускай к себе близко. А подпустишь - захочешь удержать. А удержать ничего нельзя…
18. Человеческая жизнь тянется слишком долго для одной любви. Просто слишком долго. Любовь чудесна. Но кому-то из двух всегда становится скучно. А другой остается ни с чем. Застынет и чего-то ждет… Ждет, как безумный…
19. Только тот, кто не раз оставался один, знает счастье встреч с любимой.
20. Любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки.
21. «Нет, - быстро сказал он. - Только не это. Остаться друзьями? Развести маленький огородик на остывшей лаве угасших чувств? Нет, это не для нас с тобой. Так бывает только после маленьких интрижек, да и то получается довольно фальшиво. Любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец».
22. Всякая любовь хочет быть вечной. В этом и состоит ее вечная мука.
23. Женщина от любви умнеет, а мужчина теряет голову.
24. Каким неуклюжим становится человек, когда он любит по-настоящему! Как быстро слетает с него самоуверенность! И каким одиноким он себе кажется; весь его хваленый опыт вдруг рассеивается, как дым, и он чувствует себя таким неуверенным.
О женщине
25. Женщинам ничего не нужно объяснять, с ними всегда надо действовать.
26. Запомни одну вещь, мальчик: никогда, никогда и еще раз никогда ты не окажешься смешным в глазах женщины, если сделаешь что-то ради нее.
27. Женщин следует либо боготворить, либо оставлять. Всё прочее - ложь.
28. Мне казалось, что женщина не должна говорить мужчине, что любит его. Об этом пусть говорят ее сияющие, счастливые глаза. Они красноречивее всяких слов.
29. Если женщина принадлежит другому, она в пять раз желаннее, чем та, которую можно заполучить, - старинное правило.
30. Я стоял рядом с ней, слушал ее, смеялся и думал, до чего же страшно любить женщину и быть бедным.
31. Женщина - это вам не металлическая мебель; она - цветок. Она не хочет деловитости. Ей нужны солнечные, милые слова. Лучше говорить ей каждый день что-нибудь приятное, чем всю жизнь с угрюмым остервенением работать на нее.
О человеке
32. Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения.
33. Ошибочно предполагать, будто все люди обладают одинаковой способностью чувствовать.
33. Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет.
34. Еще ничего не потеряно, - повторил я. - Человека теряешь, только когда он умирает.
35. Если хочешь, чтобы люди ничего не заметили, не надо осторожничать.
36. Самый легкий характер у циников, самый невыносимый у идеалистов. Вам не кажется это странным?
37. Чем меньше у человека самолюбия, тем большего он стоит.
38. Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы.
http://www.cluber.com.ua/lifesty....remarka

"ПОДСНЕЖНИК"
Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была масленица - и был гимназистик Саша, которого милая, чувствительная тетя Варя, заменившая ему родную мать, называла подснежником. Была оттепель, стояли теплые и сырые дни, русские, уездные, каких было уже много, много в этом старом степном городишке, и приехал к Саше отец из деревни. Отец приехал из глухой, внесенной сугробами усадьбы и, как всегда, остановился на Елецком подворье, в грязных и угарных номерах. Отец человек большой и краснолицый, курчавый и седеющий, сильный и моложавый. Он ходит в длинных сапогах и в романовском полушубке, очень теплом и очень вонючем, густо пахнущем овчиной и мятой. Он все время возбужден городом и праздником, всегда с блестящими от хмеля глазами. А Саше всего десять лет, и поистине подобен он подснежнику не только в этих мерзких номерах Елецкого подворья, но и во всем уездном мире. Он такой необыкновенный, особенный? Нет, ничуть не особенный: разве не каждому дает бог то дивное, райское, что есть младенчество, детство, отрочество?
На нем новая длинная шинель, светло-серая, с белыми серебряными пуговицами, новый синий картуз с серебряными пальмовыми веточками над козырьком: он еще во всем, во всем новичок! И до чего эта шинель, этот картуз, эти веточки идут к нему, - к его небесно-голубым, ясным глазкам, к его чистому, нежному личику, к новизне и свежести всего его существа, его младенчески-простодушного дыхания, его доверчивого, внимательного взгляда, еще так недавно раскрывшегося на мир божий, и непорочного звука голоса, почти всегда вопросительного! Живет Саша "на хлебах", в мещанском домишке. Грусть, одиночество, скучные, одинаковые дни в чужой семье. Какое же счастье, какой праздник, когда вдруг у ворот этого домишки останавливаются деревенские, набитые соломой сани, пара запряженных впротяжку лохматых деревенских лошадей! С этого дня Саша переселяется на Елецкое подворье.
Отец просыпается рано, наполняет весь номер, и без того душный, едким табачным дымом, затем кричит в коридор, требуя самовар, пьет чай и опять курит, а Саша все спит и спит на диване, чувствуя, что можно спать сколько угодно, что в гимназию идти не надо. Наконец, отец ласково будит его, шутя стаскивает с него одеяло. Саша молит дать поспать ему хоть одну минуточку, а потом сразу приходит в себя, садится на диване и, радостно оглядываясь, рассказывает, что снилось ему, будто у него передержка по латыни, но только не в гимназии, а где-то на голубятне. Умывшись, он становится во фронт и учтиво, но рассеянно крестится и кланяется в угол, потом шаркает отцу ножкой и целует его большую руку. Он счастлив, он свеж и чист, как ангел. Он кладет в стакан целых пять кусочков сахару, съедет целый калач и опять шаркает ножкой: - Мерси, папочка! Он совершенно сыт, но отец уже надевает полушубок: пора идти на базар, в трактир, - завтракать. И, одевшись, они выходят, бросив теплый, полный дыму номер раскрытым настежь. Ах, как хорош после комнаты зимний сырой воздух, пахнущий праздничным чадом из труб! И какой долгий прекрасный день впереди!
В трактире "чистая" половина во втором этаже. И уже на лестнице, необыкновенно крутой и донельзя затоптанной, слышно, как много в ней народу, как буйно носятся половые и какой густой, горячий угар стоит повсюду. И вот отец садится, сняв шапку, распахнув полушубок, и сразу заказывает несколько порций, - селянку на сковородке, леща в сметане, жареной наваги, - требует графин водки, полдюжины пива и приглашает за стол к себе знакомых: каких-то рыжих мужиков в тулупах, каких-то чернявых мещан в чуйках... Казалось бы, какое мучение сидеть в этом чаду, в этой тесноте, среди бесконечных и непонятных разговоров и споров без всякой меры пьющих, закусывающих и пьянеющих людей! Сколько их кругом, этих мужиков, извозчиков, толстых купцов, худых барышников! Сколько красных, распаренных едой, водкой и духотой лиц, потных лбов, лохматых голов, густых бород, чуек, армяков, полушубков, тулупов, громадных сапог и тающих валенок, разводящих под табуретами целые лужи! Как везде натоптано, наплевано, как дико и нелепо орут за некоторыми столиками и как ошалели половые в белых штанах и рубахах, носясь туда и сюда со сковородками и блюдами в руках, с задранными головами, меж тем как спокоен только один высокий и худой старик, строгим и зорким командиром стоящий за стойкой! И, однако, как незаметно летит этот счастливый день, как блаженно и широко раскрыты лазурные детские глаза!
А в понедельник все это сразу кончается. Город принимает смиренный и будничный вид, пустеет даже базарная площадь - и великое горе надвигается на Сашу: отец уезжает. Да, даже проснулся отец нынче уже совсем не таким, как просыпался все эти масленичные дни. Он прост, тих, чем-то озабочен. Он собирается, расплачивается. А там, во дворе, уже запрягают лошадей. Последний, самый горький час! Вот сию минуту вдруг войдет коридорный: - Подано, Николай Николаич! И отец, огромный, толстый от медвежьей шубы, надетой поверх полушубка, в черных, выше колен, валенках и в большой боярской шапке, сядет на диван и скажет; - Ну, присядем, Сашенька, и Христос с тобой. И тотчас же опять встанет и начнет торопливо крестить, целовать его, совать руку к его губам... А лошади уже стоят у крыльца. Они косматы, ресницы у них большие, на усах засохшее тесто - боже, какой родной, не городской, а деревенский, зимний, бесконечно милый вид у них! Милые, деревенские и эти сани, набитые соломой! И работник уже стоит в их козлах, в буром и грубом армяке, надетом на полушубок, с вожжами и длинным кнутом в руках... Еще минута - и побегут, побегут эти лошади, эти сани по Успенской улице вон из города, в серые снежные поля - и прости, прощай, счастливейшая в жизни неделя! - До свиданья, Сашенька, Христос с тобой.
1927.
https://classica-online.ru/catalog/podsnezhnik-bunin/
ИМЕНИНЫ
Вместе с громадной пыльно-черной тучей, заходящей из-за сада, из-за вековых берез и серых итальянских тополей, все более жгучим становится ослепительный солнечный свет, его сухой степной жар - и все более немеет усадьба, все мельче и серебристее струится листва на тополях. Черный ад обступает радостный солнечный мир усадьбы. В усадьбе преизбыток довольства, счастья. Дом полон гостей, соседей, родственников, своих и чужих слуг, - в доме именины. Идет обед, долгий, необычный, с пирожками, с янтарным бульоном, с маринадами к жареным индейкам, с густыми наливками, с пломбиром, с шампанским в узких старинных бокалах, по краям золоченых. И я тоже в усадьбе, в доме, за обедом, но вместе с тем, я весь этот день, усадьбу, гостей и даже себя самого только вижу: чувствую себя вне всего, вне жизни.
Я мальчик, ребенок, нарядный и счастливый наследник всего этого мира, и мне тоже празднично, - особенно от этих дедовских бокалов, полных горько- сладкого тонко-колючего вина, - но вместе с тем и несказанно тяжко, так тяжко, точно вся вселенная на краю погибели, смерти. Отчего? От этой страшной тучи, адом обступающей мир, от этой растущей тишины? А, нет! Оттого, что, оказывается, не я один вне всего, вне жизни: все, окружающие меня, тоже вне ее, хотя они и двигаются, пьют, едят, говорят, смеются. И еще оттого, что я чувствую страшную давность, древность всего того, что я вижу, в чем я участвую в этот роковой, ни на что не похожий (и настоящий, и имеете с тем т-v кой давний) именинный день, в этой столь мне родном - то же время столь далекой и сказочной стране. И в душе моей растет такая скорбь, что я наконец разрываю этот сон...Глубокая зимняя ночь, Париж.
09.05 1924.
http://bunin-lit.ru/bunin/rasskaz/imeniny.htm
"ПОЗДНИЙ ЧАС"

Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С 19 лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь 300 верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня. И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи. Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, - гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, - так молчалив он был, хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял.
Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые, темные, розовеет мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее и красное - русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ мою - я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила-архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового платья - и вот вдруг решился, взял, весь замирая, твою руку...
За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой. В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально - печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно, осторожно трепетали листвой от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел -большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени - только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены и траурным глянцем переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару, - он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого?
Цель моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улице. И я мог пройти туда другим, ближним путем. Но я оттого свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до нее, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвека назад; каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе - все так же казенно, скучно, как было когда-то, при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний - и не мог: да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это я? Старая улица показалась мне только немного уже, чем казалась прежде. Все прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обе стороны запыленные купеческие дома, тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше идти срединой улицы, в полном месячном свете... И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа, когда весь город пахнет яблоками, которые горами лежат на базарах, и так тепла, что наслаждением было идти в одной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком... Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?
Я все-таки не решился дойти до вашего дома. И он, верно, не изменился, но тем страшнее увидать его. Какие-то чужие, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат - все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерли; и не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе или приятельстве, начинал жизнь, давно ли начинали и они, уверенные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих глазах, - так быстро и на моих глазах! И я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в те далекие, наши с ней времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела... Это было начало нашей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости...
Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой и только изредка, для забавы, запуская колотушкой плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду, и я тайком проскользнул в него: тихо отворил калитку, заранее отпертую тобой, тихо и быстро пробежал по двору и за сараем в глубине двора вошел в пестрый сумрак сада, где слабо белело вдали, на скамье под яблонями, твое платье, и, быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз.И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя. И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно, - лег где-нибудь на скамье и задремал с трубкой в зубах старик, греясь в месячном свете. Когда я глядел вправо, я видел, как высоко и безгрешно сияет над двором месяц и рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, видел заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими яблонями, а за ними низко выглядывавшую из-за какого-то другого сада одинокую зеленую звезду, теплившуюся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно говорившую. Но и двор и звезду я видел только мельком - одно было в мире: легкий сумрак и лучистое мерцание твоих глаз в сумраке. А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал: - Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле.
Я вышел на середину светлой улицы и пошел на свое подворье. Обернувшись, видел, что все еще белеет в калитке. Теперь, поднявшись с тумбы, я пошел назад тем же путем, каким пришел. Нет, у меня была, кроме Старой улицы, и другая цель, в которой мне было страшно признаться себе, но исполнение которой, я знал, было неминуемо. И я пошел - взглянуть и уйти уже навсегда. Дорога была опять знакома. Все прямо, потом влево, по базару, а с базара - по Монастырской - к выезду из города. Базар как бы другой город в городе. Очень пахучие ряды. В Обжорном ряду, под навесами над длинными столами и скамьями, сумрачно. В Скобяном висит на цепи над срединой прохода икона большеглазого Спаса в ржавом окладе. В Мучном по утрам всегда бегали, клевали по мостовой целой стаей голуби. Идешь в гимназию - сколько их! И все толстые, с радужными зобами - клюют и бегут, женственно, щёпотко виляясь, покачиваясь, однообразно подергивая головками, будто не замечая тебя: взлетают, свистя крыльями, только тогда, когда чуть не наступишь на какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились крупные темные крысы, гадкие и страшные.
Монастырская улица - пролет в поля и дорога: одним из города домой, в деревню, другим - в город мертвых. В Париже двое суток выделяется дом номер такой-то на такой-то улице изо всех прочих домов чумной бутафорией подъезда, его траурного с серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столика лист бумаги в траурной кайме - на нем расписываются в знак сочувствия вежливые посетители; потом, в некий последний срок, останавливается у подъезда огромная, с траурным балдахином, колесница, дерево которой черно-смолисто, как чумной гроб, закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными белыми звездами, а углы крыши увенчаны кудреватыми черными султанами - перьями страуса из преисподней; в колесницу впряжены рослые чудовища в угольных рогатых попонах с белыми кольцами глазниц; на бесконечно высоких козлах сидит и ждет выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутафорский гробный мундир и такую же треугольную шляпу, внутренне, должно быть, всегда ухмыляющийся на эти торжественные слова: Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis 1.
Тут все другое. Дует с полей по Монастырской ветерок, и несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пестрым венчиком на лбу, над закрытыми выпуклыми веками. Так несли и ее. На выезде, слева от шоссе, монастырь времен царя Алексея Михайловича, крепостные, всегда закрытые ворота и крепостные стены, из-за которых блестят золоченые репы собора. Дальше, совсем в поле, очень пространный квадрат других стен, но невысоких: в них заключена целая роща, разбитая пересекающимися долгими проспектами, по сторонам которых, под старыми вязами, липами и березами, все усеяно разнообразными крестами и памятниками. Тут ворота были раскрыты настежь, и я увидел главный проспект, ровный, бесконечный. Я несмело снял шляпу и вошел. Как поздно и как немо! Месяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг, насколько хватал глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых, крестов и памятников ее узорно пестрело в прозрачной тени. Ветер стих к предрассветному часу - светлые и темные пятна, всё пестрившие под деревьями, спали. В дали рощи, из-за кладбищенской церкви, вдруг что-то мелькнуло и с бешеной быстротой, темным клубком понеслось на меня - я, вне себя, шарахнулся в сторону, вся голова у меня сразу оледенела и стянулась, сердце рванулось и замерло... Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем, неся его в себе, как тяжкую чашу, я двинулся дальше. Я знал, куда надо идти, я шел все прямо по проспекту - и в самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, остановился: передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная.
19.10. 1933
1Дай им вечный покой, господи, и да светит им вечный свет (лат.).
https://ilibrary.ru/text/1816/p.1/index.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 16 Апр 2016, 16:08 | Сообщение # 18 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Надежда Тэффе
ПОДЗЕМНЫЕ КОРНИ

Лиза сидела за чайным столом не на своем месте. "Свое место" было для нее на стуле с тремя томами старых телефонных книг. Эти книги подкладывали под нее потому, что для своих шести лет была она слишком мала ростом, и над столом торчал один нос. И в этих трех телефонных книгах было ее тайное мучение, оскорбление и позор. Ей хотелось быть большой и взрослой. Весь дом полон большими, сидящими на обыкновенных человеческих стульях. Она одна маленькая. И если только в столовой никого не было, она, будто по ошибке, садилась не на свой стул. Может быть, от этих трех телефонных книг и осталось у нее на всю жизнь сознание обойденности, незаслуженного унижения, вечного стремления как-то подняться, возвыситься, снять обиду.
- Опять пролила молоко, - брюзжал над ней старушечий голос. - И чего не на свое место села? Вот я маме скажу, она тебе задаст. Что "задаст" - это верно. Это без ошибки. Она только и делает, что задает. И всегда что-нибудь найдет. Ей и жаловаться не надо. То зачем растрепанная, то зачем локти на столе, то грязные ногти, то носом дергаешь, то горбишься, то не так вилку, то чавкнула. Весь день, весь день! За это, говорят, ее надо любить. Как любить? Что значит любить? Она любит маленького картонного слоника, простого елочного. В нем были конфетки-драже. Его она любит до боли. Она его пеленает. Его хобот вылезает из белого чепчика, такой жалкий, бедный, доверчивый, что ей хочется плакать от нежности. Она слоника прячет. Инстинкт подсказывает. Если увидят - засмеют, обидят. Гриша способен даже нарочно сломать слоника.
Гриша теперь совсем большой. Ему одиннадцать лет. Он ходит в гимназию, а по праздникам его навещают товарищи - пухлый Тулзин и черненький Фишер с хохолком. Они расставляют на столе солдатиков, прыгают через стулья и дерутся. Они могущественные и сильные мужчины. Они никогда не смеются и не шутят. У них нахмуренные брови, отрывистые голоса. Они жестоки. Особенно пухлый Тулзин, у которого дрожат щеки, когда он сердится. Но страшнее всех брат Гриша. Те чужие и не смеют, например, ее щипать. Гриша все может. Он брат. Ей кажется, что он стыдится за нее перед товарищами. Ему унизительно, что у него такая сестра, которая сидит на трех телефонных книгах. Вот у Фишера, говорят, сестра так сестра, - старая, ей семнадцать лет. За такую не стыдно. Сегодня как раз праздник, и оба они - и Тулзин, и Фишер придут. Боже мой, Боже мой! Что-то будет?
Утром водили в церковь. Мама, тетя Женя (эта хуже всех), нянька Варвара. Гриша - ему-то хорошо, он теперь в гимназии и пошел с учениками. А ее тиранили. Тетя Женя свистит в ухо: - Если не умеешь молиться, то хоть крестись. Она отлично умеет молиться. "Пошли, Господи, здоровья папе, маме, братцу Грише, тете Жене и мне, младенцу Лизавете". Знает "Богородица Дево радуйся".
В церкви темно. Грозные басы гудят непонятные и грозные слова "аки, аще, аху...". Вспоминается, что Бог все видит и все знает и за все накажет. Мама не все знает, а и то тошно. И Бога надо любить! Вот Варвара кланяется в пояс, крестится, закидывая голову назад и потом сжатой горстью дотрагивается до полу. Тетя Женя, та подкатывает глаза и качает головой, точно с укором. Вот, значит, так надо любить. Она поворачивается, чтобы посмотреть, как любят другие. И снова свистящий шепот около уха: - Стой смирно! Наказание Господне с тобой! Она истово перекрестилась, откинув голову, как Варвара, вздохнула, подкатила глаза, встала на колени. Постояла немножко. Больно коленкам. Присела на пятки. И опять около уха, но уже не свистящий шепот, а воркотливый говорок: - Встань сейчас же и веди себя прилично. Это мама. А сердитые басы гудят грозные слова. Это все, верно, о том, что Бог ее накажет. Как раз перед ней огромное паникадило. На нем потрескивают свечи, капает воск. Вон и внизу у самого пола налипло на него воску. Она тихонько подползла на коленках, чтобы отколупнуть кусочек. Тяжелая лапа поймала ее за плечо и подняла с полу.
- Балуй, балуй, - закрякала Варвара. - Вот ужо придешь домой, мама тебе задаст. Мама задаст. Бог тоже все видит и тоже накажет. Отчего она не умеет так делать, как все другие? Потом, через двадцать лет, она скажет в страшную, решающую минуту своей жизни: - "Почему я не умею так делать, как другие? Почему я ни в чем никогда не могу притворяться?"
После завтрака пришли Тулзин и Фишер. У Тулзина был замечательный носовой платок - огромный и страшно толстый. Как простыня. Отдувал карман барабаном. Тулзин тер им свой круглый нос, не развертывая, а держа, как пакет тряпья. Нос был мягкий, а пакет тряпья твердый, неумолимый. Нос багровел. Тот, кого Лиза полюбит через девятнадцать лет, будет носить тонкие, маленькие, почти женские платочки, с большой шелковистой монограммой. Четкая сумма любвиви состоит из стольких слагаемых... Что мы знаем?
Фишер, черненький, с хохолком, задира, как молодой петушок, суетится у стола в столовой. Он принес целую коробку оловянных солдатиков и торопит Гришу достать скорее своих, чтобы развернуть поле сражения. У Тулзина всего одна пушечка. Он ее держит в кармане и вываливает каждый раз, как достает свой носовой платок. Гриша приносит свои коробки и вдруг замечает сестру. Лиза сидит на высоком креслице и, чувствуя себя лишней, смотрит исподлобья на военные приготовления.
- Варвара! - бешено кричит Гриша. - Уберите отсюда эту дуру, она мешает. Приходит Варвара из кухни, с засученными рукавами. - Ты тут чего скандалишь, постреленок? - говорит она сердито. Лиза вся сжимается, крепко цепляется за ручки креслица. Еще неизвестно - может быть, ее будут тащить за ноги...
- Хочу и буду скандалить, - огрызается Гриша. - А ты мне не смеешь делать замечания, я теперь учусь.
Лиза отлично понимает смысл этих слов. "Я учусь" значит, что теперь он перешел в ведение другого начальства, - и имеет полное право не слушать и не признавать бабу Варвару. С детской и с няньками покончено. Очевидно, Варвара все это отлично сама понимает, потому что отвечает уже менее грозно: - А учишься, так и веди себя по-ученому. Чего ты Лизутку гоняешь? Куда мне ее деть? Там тетя Женя отдыхает, а в гостиной чужая барыня. Куда я ее дену. Ну? Она же сидит тихо. Она никому не мешает.
- Нет, врешь! Мешает, - кричит Гриша. - Мы не можем расставить как следует солдатиков, когда она смотрит.
- А не можешь, так и не расставляй. Важное кушанье!
- Дура баба!
Гриша весь красный. Ему неловко перед товарищами, что какая-то грязная старуха им командует. Лиза втянула голову в плечи и быстро переводит глаза с Варвары на Гришу, с Гриши на Варвару. Она прекрасная дама, перед которой сражаются два рыцаря. Варвара защищает ее цвета.
- Все равно ей здесь не сидеть! - кричит Гриша и хватает Лизу за ноги. Но та уцепилась так крепко, что Гриша тянет ее вместе с креслом. Тулзин и Фишер не обращают ни малейшего внимания на все эти бурные события. Они спокойно вытряхивают солдатиков из круглых лубяных коробочек и расставляют их на столе. Такой дракой их не удивишь. У самих дома дела не лучше. Тетка, нянька, младшие братья, старшие сестры, старые девки, лет по шестнадцати. Словом, их не удивишь.
- Ну, Гришка Вагулов, ты скоро? - деловито справляется Тулзин и выволакивает свой чудесный платок. Пушечка падает на пол. - Ах, да, - говорит он. - Вот и артиллерия. Куда ее ставить?
Гриша отпускает Лизины ноги, внушительно подносит к самому ее носу кулак и говорит: - Ну все равно. Сиди. Только не смей смотреть на солдат и не смей дышать, иначе ты все мне тут перепортишь. Слышишь? Не смей дышать! У-у, коровища!
"Коровища" вздыхает глубоким, дрожащим вздохом, набирает воздуху надолго. Неизвестно ведь, когда ей позволят снова вздохнуть. Мальчики принимаются за дело. Фишер достает своих солдатиков. Они совсем не подходят к Гришиным. Они вдвое крупнее. Они ярко раскрашены.
- Это - ренадеры, - с гордостью говорит Фишер. Грише неприятно, что они лучше его солдатиков.
— Но их слишком мало. Придется расставить их по краям стола, как часовых. Тогда по крайней мере будет понятно, почему они такие огромные.
- А почему? - недоумевает Тулзин.
- Ну, ясное дело. Часовых всегда выбирают великанов. Опасная служба. Все спят, а он бодра... бурда... бордовствует. Фишер доволен.
- Еще бы, - говорит он. - Это герои!
Лизе безумно любопытно взглянуть на героев. Она понимает, что теперь не до нее. Она тихонько сползает со стула, подходит к столу, вытягивает шею и близко-близко, словно обнюхивая, смотрит.
Тррах! Гриша ударил ее прямо по носу кулаком.
- Кровь! Кровь! - кричит кто-то. На поле сражения брызнула первая кровь. Лиза слышит свой острый визг. Глаза у нее закрыты. Кто-то вопит. Варвара? Лизу несут. Через много лет она скажет: - Нет, я никогда не полюблю вас. Вы - герой. Самое слово "герой" вызывает во мне, я не знаю почему, такую тоску, такое отчаяние. Я же говорю вам, что не знаю почему. Мне близки тихие-тихие люди. С ними мне спокойно. Ах, не знаю, не знаю почему.
http://chto-takoe-lyubov.net/rasskaz....i-teffi
ДОМОВОЙ

У нашей старой нянюшки было два врага - внешний и внутренний. Внешний - безбровый, курносый и белоглазый - звался в глаза Эльвирой Карловной, а за глаза чертом чухонским. Занимал этот враг место бонны и представлял собою вторую ступень лестницы нашего воспитания. К ней в нашей семье переходили дети лет пяти прямо из детской от нянюшки для изучения наук. Эльвира Карловна обучала азбуке и начаткам Закона Божия. Учила бодро, когда нужно подшлепывала. Думается мне, что сама она в науках не очень была тверда. На лукавые вопросы отвечала шлепками и мудрой поговоркой: - Много будешь знать, скоро состаришься. Помню, читали мы о чудесном исцелении младенца каким-то пророком. Сказано было: «пророк простерся над младенцем». Я и спросила: - А что значит «простерся»?
- «Простерся» значит лег на него голова к голове, руки к рукам, ноги к ногам.
- Да как же так? - удивилась я. - Ведь пророк-то был большой, а ребеночек маленький!
- Ну на то он и святой, - последовал ответ.
Поговорки у Эльвиры были все какого-то разбойничьего уклона: - Шито, крыто и концы в воду.
- Не за то вора бьют, что украл, а за то, что попался.
Вот эту самую бонну, Эльвиру, ненавидела нянюшка всеми силами души. Я думаю, что в ненависти этой немалую роль играла ревность. «Ребенка» уводили из детской под начало курносой бабищи, которая терзала науками и шлепала, а нянюшкина власть кончалась.
Другой враг, внутренний, был домовой и назывался за глаза «хозяином». Чего он только с нянюшкой не выделывал! Положит ей вод самый нос катушку, а глаза отведет, и ищет нянюшка злосчастную катушку, ползает по полу, - нету и нету катушки! И вдруг - глянь, она тут как тут. Стоит на столе рядом с ножницами! Или сдвинет старухе очки на лоб, а та тычется по всем углам: - Кто мне очки запрятал? В общем домовой был не злой, а только дурил. В сырую погоду не любил, чтобы печку топили. Экономный был, дрова жалел. Топи в мороз сколько угодно, а коли затопит старуха печурку в оттепель- залезет домовой в трубу и ну дуть, и весь дым гнать в комнату. А то еще туфли старухины любил ночью засунуть подальше под кровать. Одним словом, дурил. Но зла особого не делал. Нянька хоть и ворчала на домового, но сама сознавалась, что жить с ним можно.
- У нас «хозяин» добрый, а вот как я жила у господ Корсаковых, так там такой сердитый был, что все мы в синяках ходили. Девкам ночью в волоса перьев насыпет, повару в тесто наплюет - не подымается опара, хошь ты что! Барыню и ту по ночам щипал. Ну, а наш ничего, веселый. Веселый был, дурил, да вот еще не любил, когда детей осенью в город отправляли. Он был деревенский домовой, жил в нашем деревенском доме. И верно, скучно ему было одному зиму зимовать. Как только начиналась укладка вещей и дорожные сборы - принимался домовой по ночам вздыхать. Все мы эти вздохи слышали и очень его жалели. Но в эту осень, о которой хочу рассказать, проявил себя наш домовой и с другой стороны. Оказалось, что может он разозлиться и кого-нибудь невзлюбить.
Поздней осенью, когда старших братьев и сестер уже отправили в город учиться и оставались в деревне с мамой только мы, маленькие, произошло в доме необычайное событие: подъехала к крыльцу грязная старая бричка с еврейским возницей на козлах и вылезла из брички маленькая, худенькая дама с крошечной девочкой. Дама долго обдергивала и оправляла свое пальто движениями мелкими и быстрыми, словно птица, отряхивающая перья, потом взяла девочку за руку и повела в дом. Девочка с трудом передвигала тонкими заплетающимися ногами. Мы заметили, что у нее разорван чулок и щечка повязана грязным белым платочком. Все это видели мы из окна столовой, где сидели с нашей нянюшкой. Дама вошла, посмотрела на нас испуганно, заискивающе улыбнулась, посадила девочку на диван и спросила торжественно: - Не разрешите ли вы мне поговорить с Варварой Александровной? Так звали мою мать.
- Барыня отдыхает, - ответила нянюшка. Дама умоляюще сложила руки:
- Я не потревожу ее покой, я только должна сейчас же переговорить, потому что извозчик ждет. Она там? - указала она на дверь в гостиную и сейчас же побежала мелкими шажками. Мы видели, как, пройдя гостиную, она приостановилась, несколько раз перекрестилась и, приоткрыв дверь, торжественно сказала: - Дорогая тетечка! Я пришла просить вашей защиты и покровительства. И больше мне идти некуда... Потом вошла в мамину спальню и закрыла за собой дверь. Все это было очень странно. Потом мы узнали, что она была женою какого-то дальнего родственника, поэтому и решила называть маму тетечкой. О чем говорили в спальне - неизвестно. Но говорили долго. А мы в это время молча рассматривали маленькую девочку, которая сидела на диване, скрючив не хватавшие до полу ножки, и не шевелилась.
- Как вас зовут? - спросила сестра. Вместо ответа она быстро закрыла глаза, словно спряталась, и так, зажмурившись, и просидела почти все время. Странная была девочка. Наконец двери спальной открылись и мама вышла, ведя за собой новоприезжую. По маминому лицу было видно, что она чем-то недовольна и даже расстроена. Дама терла платком покрасневший носик и все повторяла: - Вы делаете великое дело! Великое дело!
И вдруг, взглянув на девочку, спохватилась: - Ах, я и забыла! Со мной мой ребенок... Люся, сделай же реверанс!
Девочка скользнула с дивана, сморщила личико жалобно, точно собираясь заплакать, и неловко согнула обе коленки.
- Это мое дитя! - восторженно воскликнула дама. - И я не отдам ее никому, ни за что на свете! Она прижала к себе голову девочки. Та осторожно поправила тряпочку на своей щеке. Ей было неловко так стоять, с притиснутой головой, но она только терпеливо сжала губки и зажмурилась.
- Люся! Детка! - продолжала декламировать дама. - Никому, никогда, помни это! Мы умрем вместе!
Потом, много лет спустя, встретила я как-то такую маменьку с дочкой, ужасно напоминавшую мне эту даму с Люсей. Где-то в Италии вечером в вагоне. Русская дама - такая же худая, только высокого роста, прощалась с провожавшим ее маленьким и коренастым итальянским офицериком. Дама, извиваясь, склонялась к нему сверху, как змея с дерева, и восторженно говорила: - Addio! Addio! Io t'amo, o bel idol mio! А маленькая ее девочка, которую она притиснула к скамейке, тихо скулила: -Мама! Мама! Мне же больно!
А мама извивалась: - Addio! Addio! О, la profondita del mio dolore!
- Мама, ты мне на ножку наступила. Мама, ну что же это ты!..
Ужасно остро вспомнилась мне тогда далекая девочка Люся и ее декламирующая маменька. Они остались жить у нас. Девочка Люся играла с нами редко. Она была хилая, слабая, у нее вечно что-нибудь болело. Мы называли ее «Люся подвязанная». Было ей тогда лет шесть. Тихая была девочка, испуганная и старательная. Все что-то писала, скрипела на доске грифелем или шила какую-нибудь тряпочку. Платьица на ней были всегда рваные и грязные, но с претензией, с дырявыми и мятыми бантиками. Маменька с гордостью говорила, что эти платьица она сама сшила.
- Я люблю красоту! - декламировала она. - И я хочу воспитывать моего ребенка в красоте. Впрочем, о красоте заговорила она попозже, когда уже обжилась. Первое же время была какая-то растерянная и точно ко всем подлизывалась.
- Ваша мама - это ангел доброты, - говорила она нам, - Да, да, типичный ангел!
- Нянюшка, в вас много народной мудрости.
- Боже! Какое грациозное дитя!
Это было сказано про мою четырехлетнюю сестру, толстую коротышку Лену. Все засмеялись.
- Нет, серьезно, - не смутившись, щебетала дама, - она обещает развернуться в настоящую балерину. Сама дама развернулась вовсю только после маминого отъезда в Москву. Мы, маленькие, остались зимовать в деревне, и она решила погостить у нас до каких-то окончательных выяснений разных сложных своих обстоятельств. Девочкой своей она совсем не занималась. Иногда даже как будто забывала о ее существовании. Странная была дама. Она декламировала перед зеркалом стихи, на ночь обкладывала лицо свежим творогом, часто уходила в большую нетопленую залу, тихо напевая тоненьким фальшивым голоском, долго вальсировала, а потом, прижавшись лбом к окну, также долго плакала.
Причесывалась она иногда очень затейливо, иногда ходила весь день с нечесаными волосами. На почту посылали у нас два раза в неделю, и в эти дни она очень нервничала и часто бегала под дождем встречать посланного. Звали даму Алевтина Павловна. Но как-то раз она сказала нам: - Зовите меня, пожалуйста, Ниной. Я обожаю Тургенева.
При чем тут был Тургенев - не знаю. Девочка, кажется, очень любила ее и все как-то за нее мучилась.
- Мама! Не надо в зале плясать!
- Мама! Это нехорошо! И зачем ты щечки творогом трешь! Мамочка, не надо!
Глаза у девочки были маленькие, голубенькие, волосы жиденькие и вились золотыми шелковыми колечками.
- Ее «хозяин» любит! - говорила нянюшка, гладя ее по голове. - Ишь какие колечки завивает!
Девочку все любили особой жалостью.
- Посиди, Люсенька, в моей комнатке, - просила ключница. - От тебя в комнатке теплее делается.
- От ей и лампочки ярче горят,- басом вставляла прачка Марья. И все многозначительно переглядывались. - «Хозяин» ее любит...
Как-то привезли с почтой Алевтине Павловне письмо. Она взглянула на конверт, ахнула и убежала в залу - читать. А потом несколько дней все что-то писала и ходила от одного зеркала к другому, рассматривая свое лицо, закручивая и взбивая волосы на разные лады. Потом расстегнула ворот своего потасканного платьица и загнула внутрь в виде декольте. Все эти дни девочка все ходила за ней и мучилась.
- Мама, зачем у тебя шейка голая? Мамочка, не надо так...
Скоро с почты привезли мамочке еще письмо, а потом, по-видимому, переписка совсем наладилась, и уже было странно, если письма не было. И вот настали события...
Прошло уже почти два месяца со времени водворения у нас Люси с маменькой. Пошла уже поздняя осень, звонкая, морозная. Затвердела земля, облетели листья, все на свете стало виднее и слышнее. Мы уже не болтались весь день в саду, а выходили в определенное время на прогулку. Квелая Люсенька гуляла с нами редко. Все больше сидела дома, подвязанная. Маменька ее часто стала заглядывать к Эльвире Карловне. Ей, вероятно, очень хотелось излить перед кем-нибудь душу, да никого подходящего не было - все дети да прислуга. С Эльвирой она говорила больше намеками и загадками. Расстегнет на груди две пуговки, вытащит туго сложенное письмецо и скажет: - Вот за это письмо я, может быть, заплачу своей жизнью. Или вздохнет и скажет: - Есть женщины, жизнь которых - самый удивительный роман Тургенева, и никто об этом не знает. Но, к сожалению, о «романе Тургенева» узнали...
В тот вечер она пришла к Эльвире унылая и заплаканная. Съежилась около печки и бормотала, глядя не на Эльвиру, а на догорающие угольки: - Ни разу не пустил даже на каток. Все, все ходили. Старая председательша и та ходила... Все-таки музыка... За что же так? Ведь мне было всего семнадцать... А сейчас уже двадцать четыре и жизнь уходит... Эльвира равнодушно собирала в комоде какие-то мотки, даже выходила из комнаты, а Алевтина и не замечала, что она уходит, и все бормотала, бормотала...
- Ни одного нарядного платья. За что? За все семь лет только раз была на вечере... переделала венчальное. Нельзя было меня не повезти, начальство. Так ведь как злился. Конечно, я была прелестна, мои плечи сверкали. В меня влюбился поэт. Разве я виновата, что у меня поэтический облик?.За эти стихи он выгнал меня ночью, чтобы я стояла до утра под окном. Люся побежала за мной, она мне верный друг. Мне сегодня так грустно, так страшно... Отчего так воет в трубе?
Ночь наступила странная, беспокойная. Я почему-то не могла спать. Кто-то все выл в трубе, ходил вокруг дома, стучал в ставни. В соседней комнате плакала во сне маленькая Люся и звала свою маму, но та спала на другом конце дома, и к Люсе подходила наша няня.
- Няня! Кто там стоит в углу? Няня! На меня кто-то в окошечко смотрит... Мне страшно!..
А глухой ночью услышала я шаги, блеснул огонек в коридоре. Громко вскрикнув, я села на постели. Няня вскочила. Тихо отворив дверь, вошла какая-то девочка с распущенными волосами, неся свечу в дрожащей руке.
- Няня! Няня! Это я! Я, Алевтина Павловна! Какая она крошечная была в эту ночь! Я, правда, подумала, что это девочка.
- Няня, мне страшно, - лепетала Алевтина. - Там всю ночь кто-то ходит и вздыхает. Можно мне у вас посидеть? Няня зашептала что-то и повела Алевтину в Люсину комнатку. Может быть, уложила ее там на диванчик... Утром, проснувшись, услышала я разговоры. Говорили в коридоре за дверью.
- Домовой-то домовой, за ночь всех лошадей загонял. Гривы взбил, хвосты закрутил, все лошади в мыле! Прямо беда! Конюх говорит, беспременно надо козла в конюшню, а то, что же это такое...
- И чего он раскуражился? Быть беде?
- Быть беде!..
- Всю ночь вздыхал, по дому бродил...
- И к чему бы это?
- Быть беде!..
После завтрака хлопнула дверь на крыльце. Слышим, вбежал кто-то. И как подъехал, что никто не заметил? Мы с сестрой сидели в столовой и нянюшка с нами. И вдруг дверь распахивается и вваливается кто-то в шубе, огромный, бородатый. Задел за стул, повалил и даже не заметил. Оглянулся кругом и заорал на нянюшку козлиным голосом: - Отвечай, старуха, где она? Вы ее, подлые, прячете! Вы все заодно! Я ее по этапу приведу! Я вас всех в Сибирь!.. Закон на моей стороне!
Тут мы с сестрой, конечно, заревели, а на пороге появилась Алевтина Павловна. Она словно бы ничуть не удивилась и не испугалась, только была совсем белая и как-то странно смеялась и очень быстро говорила: - Здравствуй, Коля! Какой ты странный... Я здесь... мы здесь...«Коля» быстро обернулся, повалил другой стул, увидел Алевтину и остановился, выпуча глаза.
- Вы... вы...
- Ну да, я!.. Конечно, я. Я гощу у тетечки. Куда же мне было деваться: ты капризничал. Нам на улице было холодно, Люся могла захворать. Пойди ко мне, вымойся с дороги. Хочешь ветчины?
Он растерянно развел руками: - Ветчины? Ветчины?.. И вдруг опомнился. - Это вы мне смеете ветчины предлагать после вот этого... после вот этого...
Он дрожащими руками вытащил из кармана бумажник, а из бумажника, рассыпав по полу квитанции и деньги, - сложенный листок, развернул и начал читать, трясясь и задыхаясь: - Посвящается А.П. Ха-ха! А. П. ... «Что, если мне порой в прекрасном сновиденьи...» Эдакая свинья!
«Приснится, что э-э-э... лю-бим я пла... я пламенно тобой...»
Ему, идиоту собачьему, изволите ли видеть — приснится!
«Неправда ль, ты про... пропу... простишь мне это упоенье...»
А? Каково? Замужней женщине, матери - упоенье! Ведь это до чего надо опуститься, чтобы получить такую порнографию от уголовного типа... Упоенье!
«Не изольешь свой гнев»... - ч-черт!
- Коля! Перестань! Коля! Умоляю тебя! - дрожащими губами дребезжала Алевтина. - Заклинаю тебя!
- Нет, пусть теперь все слушают!
«Ведь про любовь твою мне может только сниться...» Видели мерзавца?
Было что-то до ужаса нелепое - эта декламация нежного любовного стихотворения трясущимся от бешенства бородачом, в шубе, в каком-то зверином треухе на голове.
- Коля! Это Байрона стихи...
- Врешь! Станет тебе Байрон стихи посвящать. Это акцизный. Акцизный Волорыбов. «...Она доступна лишь для мира...»
- Коля! Я бедная маленькая птичка, не добивай меня!
- Птичка? - удивился он и прибавил почти безгневно, с глубоким убеждением: - Стерва ты, а не птичка.
Алевтина закрыла лицо руками и побежала из комнаты. Он бурей двинулся вслед и захлопнул за собою дверь. И когда дверь закрылась, мы увидели, что за нею стояла Люсенька. Она была бледная, словно неживая, с закрытыми глазами, с ручками, прижатыми к груди. Из детской, куда нас увели, мы слышали вскрики и грохот, точно что-то падало. Потом прибежала горничная и, крутя выпученными глазами, крикнула нянюшке: - Живо Люсенькины вещи собирать. Сам ее увозит. Бегу к кучеру, велено лошадей...
Нянюшка нехотя стала вынимать из комода рваные Люсины тряпочки. Мы ничего не смели спрашивать. Потом опять прибежала горничная, радостно взволнованная необычайными событиями.
- Ой, няничка, ну и дела! От возовни замок сломался, не достать коляски. За кузнецом побегли пробои тащить. И что такое, и как оно сломалось, этакое железо! Нечистая сила!
Нянька строго взглянула на нее поверх очков: - А ты молчи. Может, так и надо.
Нам очень хотелось выйти посмотреть на все эти диковинные дела, но нас не пустили. Прошло не меньше часа, и мы уж было успокоились: - Не достанут коляску и Люсеньку не увезут. И вдруг дикий грохот, звон, рев... Нянька вскочила: - Ну, конечно. Убил он ее. И бросилась к двери. Мы хотели было побежать за ней, но испугались и притихли.
Нянька вернулась растерянная: - Господи, сохрани и помилуй! Рама на него упала. Михайла утром вмазывать хотел, вставил, гвоздиками прикрепил, а она вылетела, да как грохнет прямо на него, на этого. Еле успел отскочить, а то бы на месте. Господи, Господи!
- Нянюшка, смотрите, едут! - крикнула сестра, подбегая к окну. Но коляска была еще пустая. Это кучер проезжал лошадей. Но почему-то лошади неслись как угорелые, били копытами по передку коляски, и кучер повис на вожжах, и шапка у него свалилась. Потом узнали, что лошади, подъезжая к крыльцу, вдруг чего-то испугались и понесли к воротам. Пристяжная проскочила, а коренник сплечился.
- Не пускает «хозяин» девочку. Жалеет, - бормотала нянька. - Против него не пойдешь. Били бы друг друга по темени, а чего девчонку-то мучить? Вот он один за нее и вступается.
Уже заголубели сизые сумерки, когда увидели мы, как проехала мимо окон коляска с поднятым верхом. Что-то такое было безнадежно тоскливое в этом мутном силуэте, в низко опущенном верхе, чуть-чуть подпрыгнувшем на повороте. И вот, и нет ничего - одна сизая дымка, которая сгустится, потемнеет и покроет все. Во время обеда мы неожиданно услышали голос Алевтины. Она, значит, не уехала. Она сидела в гостиной и говорила кому-то: - Это он нарочно увез ее. Нарочно, чтобы меня добить. С кем она говорила - не знаю. Должно быть, сама с собой.
- И почему он думает, что шестилетнему ребенку лучше жить с отставным гусаром, чем с матерью?
- Ешьте, ешьте, - шептала няня. - Нечего вам тут слушать.
- Я не поеду! Я не поеду! Я не поеду! - вдруг закричала Алевтина. Эльвира Карловна побежала к ней и закрыла дверь. Рано утром, мы еще лежали в постели, вошла Алевтина в детскую. На ней было то самое пальтецо, в котором она приехала, и та же шляпка. В руках она держала пачку писем, перевязанных сиреневой ленточкой, которую она по праздникам завязывала себе на шею - единственная ее роскошь. Лицо у нее было очень грустное и совсем больное: - Нянюшка, вы ведь неграмотная. Вы, значит, не будете читать... Вот, умоляю вас, сохраните это... это до того времени, когда я смогу взять. Я вас потом щедро вознагражу.
Она закрыла глаза и на минутку прижала пакет к груди. И в эту минуту страшно стала похожа на Люсеньку, когда та закрывала глаза, чтобы спрятаться от людей.
- Нянюшка! Я должна ехать туда, где девочка. Я не могу здесь оставаться. Когда ее уносили, она обернулась и сказала мне: «Мама, ты, пожалуйста, не беспокойся». Если бы она этого не сказала, я бы, может быть, и могла... «Не беспокойся!» - сказала. Замучает ее палач. Все на ней выместит. Она помолчала.
- Здесь нельзя оставаться. Сегодня ночью весь дом вздыхал и плакал, как живой. Я должна ехать... Эльвира Карловна добрая, дала мне тридцать два рубля. Я ее тоже очень вознагражу... Прощайте, нянечка!
Она опустила голову и пошла к двери, но тут вспомнила, что не отдала пакета, улыбнулась так горько, словно заплакала: - Вот я и забыла. Спрячьте. Поцелуйте меня на прощанье. Ведь я... ведь я здесь была ужасно счастлива!..
http://chto-takoe-lyubov.net/rasskaz....j-teffi

«ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
Ее выцветшее от сырости и дождей пальто и шляпа с перьями, сбившимися от времени в странный удивительный комок, не вызывали у прохожих Невского проспекта того восхищения, на которое рассчитывала обладательница шляпы и пальто. Мало кто обращал внимание на эту шаблонную девицу, старообразную от попоек и любви, несмотря на свои двадцать пять лет, уныло-надоедливую и смешную, с ее заученными жалкими методами обольщения. Если прохожий имел вид человека, не торопящегося по делу, она приближалась к нему и шептала, шагая рядом и глядя на крышу соседнего дома: - Мужчина... Зайдем за угол. Пойдем в ресторанчик - очень недорого: маленький графин водки и тарелка ветчины. Право. А? И все время ока смотрела в сторону, делая вид, что идет сама по себе, и если бы возмущенный прохожий позвал городового, она заявила бы нагло и бесстыдно, что она не трогала этого прохожего, а наоборот - он предлагал ей разные гадости, которые даже слушать противно. Ходила она так каждый день.
- Мужчина, поедем в ресторанчик. Неужели вам жалко: графинчик водки и тарелка ветчины. Право. А?
Иногда предмет ее внимания, какой-нибудь веселый прохожий, приостанавливался и с видом шутника, баловня дам, спрашивал: - А, может быть, ты хочешь графинчик ветчины и тарелку водки?
И она раскрывала рот, схватывалась за бока и хохотала вместе с веселым прохожим, крича: - Ой-ой, чудак! Уморил... Ну и скажет же... В общем, ей совсем не было так весело, как она прикидывалась, но, может быть, веселый прохожий, польщенный ее одобрением, возьмет ее с собой и накормит ветчиной и водкой, что, принимая во внимание сырую погоду, было бы совсем не плохо.
Сегодня прохожие были какие-то необщительные и угрюмые, - несколько человек в ответ на ее деланно-добродушное предложение поужинать совместно ветчиной и водкой посылали ее ко "всем чертям", а один, мрачный юморист, указал на полную возможность похлебать дождевой воды, набравшейся в тротуарном углублении, что, по его мнению, давало полную возможность развести в животе лягушек и питаться ими вместо ветчины. Юмориста эта шаблонная девица ругала долго и неустанно. Он уже давно ушел, а она все стояла, придерживая шляпу и изобретая все новые и новые ругательства, запас которых, к ее чести, был у нее велик и неисчерпаем. В это время навстречу шли два господина. Один приостановил своего спутника и указал ему на девицу: - Давай, Вика, ее пригласим.
Другой засмеялся, кивнул головой и пошел вперед. Оба, приблизившись к девице, осмотрели ее с ног до головы и вежливо приподняли свои цилиндры.
- Сударыня, - сказал Петерс, - приношу вам от имени своего и своего товарища тысячу извинений за немного бесцеремонный способ знакомства. Мы, знаете, народ простой и в обращении с дамами из общества не совсем опытны. Оправданием нам может служить ваш благосклонный взгляд, которым вы нас встретили, и желание провести вечер весело, просто, скромно и интеллигентно.
Девица захохотала, взявшись за бока.
- Ой, уморили! Ну и комики же вы!
Господин по имени Петерс всплеснул руками: - Это очаровательно. Ты замечаешь, Вика, как наша новая знакомая весела? Вика кивнул головой.
- Настоящая воспитанность именно в этом и заключается: простота и безыскусственность. Вы извините нас, сударыня, если мы сделаем вам нескромное одно предложение...
- Что такое? - спросила девица, замирая от страха, что ее знакомые повернутся и уйдут.
- Нам, право, неловко... Вы не примите нашего предложения в дурную сторону...
- Мы даем вам слово, - заявил Петерс, - что будем держать себя скромно, с тем уважением, которое внушает к себе каждая порядочная женщина.
Девица хотела хлопнуть себя по бедрам и крикнуть: "Ой, уморили!" - но руки ее опустились, и она молча, исподлобья взглянула на стоящих перед ней людей.
- Что вам нужно?
- Ради Бога, - засуетился Вика, - не подумайте, что мы хотели употребить во зло ваше доверие, но.., скажите... Не согласились бы вы отужинать вместе с нами, - конечно, где-нибудь в приличном месте?
- Да, да, - согласилась повеселевшая девица, - конечно, поужинаю.
- О, как мы вам благодарны!
Петерс нагнулся, взял загрубевшую руку девицы и тихо коснулся ее губами.
- Эй, мотор! - крикнул куда-то в темноту Вика.
Девица, сбитая с толку странным поведением друзей, думала, что они сейчас захохочут и убегут... Но вместо того к ним подъехал, пыхтя, автомобиль. Вика открыл дверцу, бережно взял девицу под руку и посадил ее на пружинные подушки.
"Матушки ж вы мои, - подумала пораженная, потрясенная девица. - Что же это такое?"
Ей пришло в голову, что самое лучшее, в благодарность за автомобиль, обнять Вику за шею, а сидевшему напротив Петерсу положить на колени ногу: некоторым из ее знакомых это доставляло удовольствие. Но Вика деликатно отодвинулся, давая ей место, и сказал: - А ведь мы еще не знакомы. Моя фамилия - Гусев, Виктор Петрович, а это мой приятель - Петерс, Эдуард Павлович, - писатель. Мы хотя и не осмеливаемся настаивать на сообщении нам вашей фамилии, но имя...
Девица помолчала.
- Меня зовут Катериной. Катя.
- О, помилуйте, - ахнул Петерс, - разве мы осмелимся звать вас так фамильярно. Екатерина... как по отчеству?..
- Степановна.
- Мерси. Вика... Как ты думаешь, куда мы повезем Екатерину Степановну?.. Я думаю, в "Москву" неудобно.
- Да, - сказал Вика. - Там с приличной дамой нельзя показаться... Форменный кабак. Рискуешь наткнуться на кокотку, на пьяного... Самое лучшее - к "Контану".
- Прекрасно. Вы, Екатерина Степановна, не бойтесь, туда смело можно привести приличную даму.
Девица внимательно посмотрела в лицо друзьям: серьезные, невозмутимые лица, с той немного холодной вежливостью, которая бывает при первом знакомстве. И вдруг в голове мелькнула ужасная, потрясающая мысль: ее серьезно приняли за даму из общества. У "Контана" заняли отдельный кабинет. Порыжевшее пальто и слипшиеся перья были при ярком электрическом свете убийственны, но друзья не замечали этого и, разоблачив девицу, посадили ее на диван.
- Позвольте предложить вам закуску, Екатерина Степановна: икры, омаров... Что вы любите? Простите за нескромный вопрос: вы любите вино?
- Люблю, - тихо сказала девица, смотря на цветочки на обоях.
- Прекрасно. Петерс, ты распорядись.
Весь стол был уставлен закусками. Девице налили шампанского, а Петерс и Вика пили холодную, прозрачную водку. Девице вместо шампанского хотелось водки, но ни за что она не сказала бы этого и молча прихлебывала шампанское и заедала его ветчиной и хлебом. На белоснежной скатерти ясно выделялись потертые рукава ее кофточки и грудь, покрытая пухом от боа. Поэтому девица искусственно-равнодушно сказала: - А за мной один полковник ухаживает... Влюблен - невозможно. Толстый такой, богатый. Да он мне не нравится.
Друзья изумились.
- Полковник? Неужели? Настоящий полковник? А ваши родители как к этому относятся?
- Никак, они живут в Пскове.
- Вы, вероятно, - сказал участливо Петерс, - приехали в Петроград развлекаться. Я думаю, молодой неопытной девушке в этом столичном омуте страшно.
- Да, мужчины такие нахалы, - сказала девица и скромно положила ногу на ногу.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 13 Май 2016, 23:14 | Сообщение # 19 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | - Мы вам сочувствуем, - тихо сказал Вика, взял девицу за руку и поцеловал деликатно.
- Послушай, - пожал плечами Петерс. - Может быть, Екатерине Степановне неприятно, что ты ей руки целуешь, а она стесняется сказать... Мы ведь обещали вести себя прилично.
Девица густо покраснела и сказала:
- Ничего... Что ж! Пусть. Когда я у папаши жила, мне завсегда руки целовали.
- Да, конечно, - кивнул головой Петерс, - в интеллигентных светских домах это принято.
- Кушайте, Екатерина Степановна, артишоки.
- Вы какая-то скучная, - сказал участливо Вика. - Вероятно, у вас мало развлечений. Знаешь, Петерс, хорошо бы Екатерину Степановну познакомить с моей сестрой... Она тоже барышня, и им вдвоем было бы веселей выезжать в театры и концерты.
Девица с непонятным беспокойством в глазах встала и сказала: - Мне пора, спасибо за компанию.
- Мы вас довезем до вашей квартиры в автомобиле.
- Ой, мет, нет, не надо! Ради Бога, не надо. Ой, нет, нет, спасибо!
Когда девица вышла из кабинета, друзья всплеснули руками и, захлебываясь от душившего их хохота, повалились на диван...
Девица шагала по опустевшему Невскому, спрятав голову в боа и глубоко задумавшись. Сзади подошел какой-то запоздалый прохожий, дернул ее за руку и ласково пролепетал: - Мм...мамочка! Идем со мной.
Девица злобно обернулась: - Ты, брат, разбирай, к кому пристаешь. Нельзя порядочной даме на улицу выйти... Сволочь паршивая!
http://poesias.ru/proza/averchenko-arkadiy/averchenko1006.shtml

БЕДСТВИЕ
«Неожиданный урожай тек... года поставил в большое затруднение - как минпутей сообщения, так и сельских хозяев, принужденных продавать хлеб почти даром». («Торгово-промышл.газета»)
I
Перед директором департамента стоял чиновник и смущенно докладывал
- Мы получили самые верные сведения. Сомнений больше нет никаких! Так и лезут из земли.
- Что ж это они так. Недоглядели, что ли?
- Да что ж тут доглядывать, ваше пр-во. Дело божье!
- Конечно, божье. Но ведь и пословица говорит: на бога надейся, а сам не плошай. А вы говорите -лезут?! Что же лезет больше?
- Многое лезет, ваше превосходительство. Рожь, пшеница...
- Но я не понимаю... Теперь, когда агрономическая культура сделала такие шаги, неужели нельзя принять какие-нибудь меры?
- Какие меры, ваше пр-во?
- Чтоб они не лезли, эти самые пшеницы, ржи и прочее.
- Тут уж ничего не поделаешь. Раз полезло из земли - с ним не справишься. Зерно маленькое-маленькое, а силища в нем громадная! Нет уж, видно, судьба такая, чтобы быть урожаю!
- Ну, а мужики что?
- Да что ж мужики - плачут. Сколько лет уже, говорят, не было этих самых урожаев, а тут разгневался господь - послал.
Директор осмотрел уныло свои ногти и вздохнул:
- Мужиков жаль!
- Да-с. Сюрпризец! Вот уж правду говорят: многострадальный русский народ.
- Э?
- Многострадальный, говорю. И они многострадальные, и мы... Нам-то еще хуже, ваше пр-во! Как начнут это вагоны требовать, пробки разные устраивать, в газетах нас ругать - чистейшей воды драма.
- А может еще и недород будет?
- Нет ни малейшей надежды. Я наводил справки. В один голос все - урожай!
- Опять эта кутерьма пойдет: бесплатные столовые, общеземские организации на местах, пострадавших от урожая, крестьянское разорение. Эх ты, русский народ!
В голосе директора послышались лирические нотки.
- Эх ты, русский народ! Кто тебя выдумал, как говорит незабвенный Гоголь. До того ты темен и дик, что от простого урожая отвертеться не можешь.
- Трудно отвертеться, ваше пр-во. Лезет.
- Кто лезет?
- Все, что в земле есть. Поверите - в некоторых местах опасаются, что и фрукты могут дать урожай!!
- Что вы говорите! Эх, хорошо говорил покойный Гоголь: урожай, кто тебя выдумал?
II
Мужик Савельев стоял у межи своего поля и ругался:
- Ишь ты! Ишь ты, подлая! Так и прет! У людей как у людей - или градом побьет и скот вытопчет, а у нас - хучь ты ее сам лаптем приколачивай!
- Что ты, кум, ворчишь? - спросил, подойдя к Савельеву, мужик Парфен Парфенов.
- Да что, брат дядя, рожь у меня из земли лезет. И недоглядишь, как урожай будет.
- Ну? — сказал Парфен Парфенов. - Влопаешься ты, кум!
- И то! Сколько лет по-хорошему было: и о прошлом годе - недород, и о позапрошлом - недород, а тут - накося! Урожай. Пойтить в кусочки потом и больше никаких апельцинов!
- А во, брат, тучка оттеда идет. Помочить может, - на корню она, подлая, подгниет. Все лучше, чем потом по двугривенному за пуд расторговываться.
Глаза Савелия Савельева загорелись надеждой.
- Где? Где туча?..
- Во. Гляди, может, градом осыплется.
- Вашими бы устами, Парфен Лукич, да мед пить! - сказал повеселевший Савельев.
Задрав рыжие бороды кверху, долго стояли кумовья и следили за ползущей тучей.
III
Газета «Голос мудрости» писала в передовой статье: «Мы давно призывали общество к более тесному единению и борьбе со страшным бичом русского крестьянина - урожаем! Что мы видим: в нормальное, спокойное время, когда ряд недородов усыпляет общественное внимание, все забывают, что коварный враг не спит и в это же самое время, может быть, продирает ростками землю, чтобы выбиться наружу зловещими длинными колосьями, словно рядом бичей, угрожающих нашему сельскому хозяйству. А потом ахают и охают, беспомощно мечась перед призраком бедствия:
- Ах, урожай! Ох, урожай!..
И нищает сельское хозяйство, и забиваются железные дороги пробками, тормозя нормальное развитие отечественной промышленности. Сельские хозяева! Помните: враг не дремлет!»
IV
По улице большого города шел прохожий. Истомленные оборванные люди, держа на руках 2-х ребят, подошли к нему и зашептали голодными голосами:
- Господин! Помогите пострадавшим от урожая!
- Неужели вы пострадавшие? Может, вы только симулируете пострадавших от урожая? - спросил сердобольный прохожий.
- Де там! Хворменный был урожай!
- И много у вас уродилось?
- Сам-двадцать!
- Несчастные! - ахнул прохожий. - Нате вам три рубля. Может, поправитесь.
1910
https://bookscafe.net/read/averchenko_arkadiy-bedstvie-184687.html#p1
ЛЮДИ, БЛИЗКИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказало разнеженным голосом:
- Ах, вы знаете, какая прелесть это искусство! Вот на днях я был в Эрмитаже, такие есть там картинки, что пальчики оближешь: Рубенсы разные, Тенирсы, голландцы и прочее в этом роде. Секретарь подумал и сказал:
- Да, живопись - приятное времяпрепровождение.
- Что живопись? А музыка! Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь... Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли...
- Гуно, - хороший композитор, - подтвердил секретарь. - Вообще музыка - увлекательное занятие.
- А поэзия! Стихи возьмите. Что может быть возвышеннее?
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
И я понял в одно мгновенье...[/i]
Ну, дальше я не помню. Но, в общем, хорошо!
- Да-с. Стихи чрезвычайно приятны и освежительны для ума.
- А науки!.. - совсем разнежась, прошептало его превосходительство. - Климатология, техника, гидрография. Я прямо удивляюсь, отчего у нас так мало открытий в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах.
- Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в безвестности.
- Надо их открывать и... как это говорится, вытаскивать за уши на свет божий.
- Некому поручить, ваше превосходительство!
- Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению?
- Полиция, ваше превосходительство!
- И прекрасно! Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят! Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится.
- О-о, какая чудесная мысль! Ваше превосходительство, вы будете вторым Фуке*!
- Почему вторым? Я могу быть и первым!
- Первый уже был. При Людовике XIV. При нем благодаря ему расцветали Лафонтен, Мольер и др.
- А-а, приятно, приятно! Так вы распорядитесь циркулярчиком.
Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчивость и затем еще раз перечитал полученную бумагу: «2 февраля 1916 г. Второе делопроизводство департамента.
Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чипам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества, или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи, или музыки, техники в широком смысле, или климатологии, - немедленно доводить о том до вашего сведения, и затем по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в министерство внутренних дел по департаменту полиции».
Очнулся.
- Позвать Илью Ильича! Здравствуйте, Илья Ильич! Я тут получил одно предписаньице: узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией ила вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснении лиц, занимающихся означенными предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению!
- Слушаю-с.
- Илья Ильич, вы вызывали исправника. Он ожидает в приемной.
- Ага, зовите его! Здравствуйте! Вот что, мой дорогой! Тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией, и по разыскании и выяснении их знания и прочего сообщать об этом нам. Понимаете?
- Еще бы не понять? Будьте покойны, не скроются.
- Становые пристава все в сборе?
- Все, ваше высокородие!
Исправник вышел к приставам и произнес им такую речь:
- До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам, господа, таковых лиц обнаруживать и, по снятии с них показаний, сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения.
Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава:
- Ребята! До сведения начальства дошло: что тут некоторые из населения занимаются художеством - музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и, по выяснении их художеств, направлять в стан. Предупреждаю: дело очень серьезное, и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли?
-Поняли, ваше благородие! Они у нас почешутся. Всех переловим.
- Ну вот то-то. Ступайте!
- Ты Иван Косолапов?
- Я, господин урядник!
- На гармонии, говорят, играешь?
- Это мы с нашим вдовольствием.
- А-а-а... «С вдовольствием»? Вот же тебе, паршивец!
- Господин урядник, за что же? Нешто уж и на гармонии нельзя?
- Вот ты у меня узнаешь «вдовольствие»! Я вас, мерзавцев, всех обнаружу. Ты у меня заиграешь! А климатологией занимаешься?
- Что вы, господин урядник? Нешто возможно? Мы, слава богу, тоже не без понятия.
- А кто же у вас тут климатологией занимается?
- Надо быть, Игнашка Кривой к этому делу причинен. Не то он конокрад, не то это самое.
- Взять Кривого. А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор, пока всех сообщников не покажешь.
- Ты - Кривой?
- Так точно.
- Климатологией занимался?
- Зачем мне? Слава богу, жена есть, детки...
- Нечего прикидываться! Я вас всех, дьяволов, переловлю! Песни пел?
- Так нешто я один. На лугу-то запрошлое воскресенье все пели: Петрушака Кондыба, Фома Хряк, Хромой Елизар, дядя Митяй да дядя Петряй...
- Стой не тарахти! Дай записать. Эка, сколько народу набирается. Куда его сажать? Ума не приложу.
Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции донесения: «Согласно циркуляра от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем, после некоторого запирательства, изобличены и в настоящее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения».
Второй Фуке мирно спал, и грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мольер разыгрывал перед ним «Проделки Скапена». А Лафонтены и Мольеры, сидя по «холодным» и «кордегардиям» необъятной матери-России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.
(*Фуке - министр финансов при французском короле Людовике XIV, был меценатом и покровительствовал известным писателям - Лафонтену, Мольеру и другим).
https://knigi.mirtesen.ru/blog....u%C2%BB
УНИКИ
Петербург. Литейный проспект. 1920 год. В антикварную лавку входит гражданин самой свободной в мире страны и, в качестве завсегдатая лавки, обращается к хозяину, потирая руки, с видом покойного основателя Третьяковской галереи, забредшего в мастерскую художника:
– Ну-ну, посмотрим… Что у вас есть любопытного?
– Помилуйте. Вы пришли в самый счастливый момент: уник на унике и уником погоняет. Вот, например, как вам покажется сия штукенция?
«Штукенция» – передняя ножка от массивного деревянного кресла.
– Гм… да! А сколько бы вы за нее хотели?
– Восемьсот тысяч!
– Да в уме ли вы, батенька!.. В ней и пяти фунтов не будет.
– Помилуйте! Настоящий Луи Каторз.
– А на черта мне, что он Каторз. Не на стенке же вешать. Каторз не Каторз - все равно, обед буду сегодня подогреват
- По какому это случаю вы сегодня обедаете?
– По двум случаям, батенька! Во-первых – моя серебряная свадьба, во-вторых, достал полфунта чечевицы и дельфиньего жиру.
– А вдруг Чека пронюхает?
– Дудки-с! Мы это ночью все сварганим. Кстати, для жены ничего не найдется? В смысле мануфактуры?
– Ну, прямо-таки вы в счастливый момент попали. Извольте видеть – самый настоящий полосатый тик
.– С дачной террасы?
– Совсем напротив. С тюфячка. Тут на целое платьице, ежели юбку до колен сделать. Дешевизна и изящество. И для вас кое-что есть. Поглядите-ка: настоящая сатиновая подкладка от настоящего драпового пальто-с! Да и драп же! Всем драпам драп.
– Да что же вы мне драп расхваливаете, когда тут только одна подкладка?!
– Об драпе даже поговорить приятно. А это точно, что сатин. Типичный брючный материал.
– А вот тут, смотрите, протерлось. Сошью брюки, ан – дырка.
– А вы на этом месте карманчик соорудите.
– На колене-то?!!
– А что же-с. Оригинальность, простота и изящество. Да и колено – самое чуткое место. Деньги тащить будут – сразу услышите.
– Тоже скажете! Это какой же карман нужен, ежели я, выходя из дому, меньше двенадцати фунтов денег и не беру. Съедобного ничего нет?– Как не быть! Изволите видеть: настоящая «Метаморфоза» – Перль-де-неж!– Что же это за съедобное: обыкновенная рисовая пудра!
– Чудак вы человек: сами же говорите – рисовая, и сами же говорите – несъедобная. Да еще в 18-м году из нее такое печенье некоторые штукари пекли…
– Ну, отложите. Возьму. Да, позвольте, что же вы ее на стол высыпаете?!
– А коробочка-с отдельно! Уник. Настоящий картон и буквочки позолоченные. Не я буду, если тысяченок восемьсот за нее не хвачу.
– Вот коробочку-то я и возьму. Жене свадебный подарок. Бижутри, как говорится.
– Бумажным отделом не интересуетесь? Рекомендовал бы: предобротная вещь!
– Это что? Меню ресторана «Вена»? Гм… Обед из пяти блюд с кофе – рубль. А ну, что ели 17 ноября 1913 года? «Бульон из курицы. Щи суточ. Пирожки. Осетрина по-русски. Индейка, рябчики, ростбиф. Цветная капуста. Шарлотка с яблоками». Н-да… Взять жене почитать, что ли…
– Берите. Ведь я вам не как меню продаю… Вы на эту сторону плюньте. А обратная-с… ведь это бристольский картон. Белизна и лак. На ней писать можно. Я вам только с точки зрения чистой поверхности продаю. И без Совнархоза сделочку завершим. Без взятия на учет.
http://rulibs.com/ru_zar/prose_rus_classic/averchenko/1/j458.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 28 Апр 2017, 17:58 | Сообщение # 20 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Валентин Курбатов

«ПО СНЕГУ РУССКОМУ - ДОМОЙ»
День такой тихий, что этой тишиной заражается снег и идет реденько и стеснительно, стараясь не попадаться на глаза. Сад Михайловского пуст и как-то равнодушно скучен - перемогается до весны.

худ. Ася Ашеварова
Седая прошлогодняя трава утомлена, бессильна и не смягчает неровного шага по иззябшей, окаменевшей земле, застывшей на бегу, как взморщенное море. Сорока-игуменья в черной мантии и белом подряснике (все на ней такое новое, что она вначале вертится во все стороны, но смотреть на нее некому) устраивается на спящем улье и больше не суетится, сидит. По-домашнему покойно, как сидят коты или курицы. (А еще летом они летали по саду с чеченской перестрелкой, длинные, как немецкие гранаты).

Ни души. Только далеко за разливом Сороти, на озере Кучане, в его еще не вскрывшейся части, черными точками сидят рыбаки, и полоса льда похожа на неровно оторванный лист, засиженный мухами.

Рижские издатели привезли в Михайловское выпуск своего альманаха «Лукоморье». Он по-нынешнему наряден, с щегольской версткой, чудной бумагой, и это поначалу смущает, внешне противореча печали интонации об ослаблении почвы русской культуры в Прибалтике, но понемногу слово загораживает одежду альманаха, и, когда я дохожу до посмертной публикации стихов ушедшего эмигрантского поэта И.Чиннова,

наследника долгого рода «золотопогонников» и средней руки помещиков, душа уже сбита одиночеством и предчувствием тоски, словно и сам уже не дома, не на родной земле. И вот уже не одному поэту, а и мне -
…Мне нужно вернуться
за скрипом колодца,
за криком детей у реки,
за плеском в тумане,
за плеском у сходней,
за лесом у светлой реки,
за иволгой ранней,
за ивой прохладной,
за тихим дыханьем реки.
Да ведь, похоже, и впрямь нам всем нужно вернуться за этими простыми, необходимыми сердцу «вещами». Почему я и гляжу так жадно на Михайловское и думаю вовсе не о Пушкине, а о том, как бы «починить» сердце и не ловить себя на странной наблюдательности, словно стараешься наглядеться, запомнить или вернуть утраченную связь. И все лучше понимаю побуждение рижских издателей напечатать эту подборку И.Чиннова, как будто и они, оставаясь дома, там, где жили с колыбели, тоже обречены не жить посреди родной природы, а только вспоминать ее:
Чем-то нежным и русским
Пахнет поле гречихи,
Утешением грустным
День становится тихий.
Пахнет чуть кисловато
Бузина у колодца…
Это было когда-то
И едва ли вернется...
Именно так - «это было когда-то…». Дикость какая-то. Ведь есть, есть! Вот же вокруг - этот присмиревший сад, этот разлив Сороти, эти деревни под дальним солнцем, а разум ухватился за строку и не оторвется - это было когда-то… Было там, в прошлой жизни, где мы, говорят, были бедны, унижены, загнаны преследованием (да, кажется, и впрямь были таковы), но почему тогда при воспоминании о минувшем, как и у тех, изгнанных и ушедших, так невпопад и вопреки очевидности вспоминается совсем не это, и -
Душа становится далеким русским полем,
В калужский ветер превращается,
Бежит по лужам
В тульском тусклом поле,
Ледком на Ладоге ломается.
Душа становится
Рязанской вьюгой колкой,
Смоленской галкой в холоде полей
И вологодской иволгой, и Волгой…
Соломинкой с коломенских полей.
Мы, кажется, потому с такой жадностью и кинулись читать эмигрантскую поэзию и прозу, что затосковали о Родине. И не в одном этом противоестественном «ближнем зарубежье», внезапно выкинувшем человека из дому, не коснувшись его ни пальцем, и не в одних наших стремительно забывающих «мать-отца» столицах, но уж и в калугах, тулах, рязанях…Началось, конечно, не сейчас. Когда я, торопясь, читал чинновские стихи гостю Михайловского, директору Грибоедовского музея «Хмелита» В.Е. Кулакову, он не зря тотчас вспомнил Рубцова. Ведь и там, странно сказать, нас уже волновало, почти мучило это острое чувство прощания, словно «тихая наша Родина» отплывала на наших глазах в необратимое минувшее, а мы оставались на чужом берегу. И вот остались…
В тот же день подвернулся мне в Михайловском и недавний, уже нашего издания, Г.Иванов, его «Зеркальное дно». Вначале я удивлялся тому, как книги поджидают нас «в кустах», чтобы прийти в то мгновение, когда душа готова или неожиданно зажжена болезненной мыслью, но теперь уж знаю, что когда мысль действительно ранит душу, необходимое подтверждение ее современности найдет тебя хоть в чистом поле. Книги ждут нас на всех путях, и не всегда с утешением. Иногда, как вот в этот михайловский день, они приходят, чтобы ты мог отчетливее почувствовать опасность и успеть защититься хоть самим ведением о ней. Г.Иванова я уж лет двадцать читаю, но все как будто эстетика и умозрение перевешивали, а уж теперь не до красоты, хоть лицо руками закрывай. Чиннов еще утешает светом, печалью и как будто тенью надежды на возвращение домой. А этот уж нет. И ослепительность формы только усугубляет остроту боли.
…Грустно, друг. И тем еще грустнее,
что надежды больше нет.
Это уж не романтизм. Какая
Там Шотландия! Взгляни: горит
Меж черных лип звезда большая
И о смерти говорит…
И как-то буднично говорит, почти скучно, с житейской обиходностью, с чеховской безжалостностью, как - помните? - в «Скучной истории», где старый профессор на горячий шепот героини о спасении: «Вы умны, образованны, вы долго жили, вы были учителем… Что мне делать?» - отвечает: «По совести, Катя, не знаю… Давай, Катя, завтракать». Вот и Г.Иванов:
Ну, мало ли что бывает?
Мало ли что бывало -
Вот облако проплывает,
Проплывает, как проплывало…
А кончит:
Сегодня меня убили.
Завтра тебя убьют.
И это все о том же - о России, о чувстве ее в сердце, о неотступности ее, когда уж, наконец, она делается так тяжела своим преследованием, что хочется защититься вызовом, срывом, желанием расчесться с этой настойчивой мыслью хорошо сыгранным равнодушием:
Мне больше не страшно. Мне томно
Я медленно в пропасть лечу,
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу.
И не отзываются дрожью
Банальной и сладкой тоски
Поля с колосящейся рожью,
Березки, дымки, огоньки.
А только себя не обманешь - отзываются, отзываются дрожью и поля, и березки, и чинновские галки, дожди, «тонкий запах осенних лесов, серосизые краски реки» - все отзывается, и уже не заговоришь себя, не спасешься готовностью к окончательному разочарованию: «Россия - счастье, Россия - свет. А может быть, России вовсе нет…» Не было бы, не болела бы она так в русской поэзии. Но не зря вопрос вертится. И сегодня уже не только в той «тамошней» поэзии - у нас теперь завертелся. Вот-вот и мы теперь засомневаемся: «А может быть, России вовсе нет» - так легко она ускользает из реальности в отвлеченную эстетику, в предмет спекуляций и пререканий, в художественный образ, в рекламный буклет на продажу.
Удалая, бесстыдная общественная жизнь с иллюзиями ежедневных обновлений и перемен все настойчивее выталкивает человека из реальности в газетно-телевизионное умозрительное пространство, в бумажный мир, где прежние земные нравственные законы слишком «неповоротливы» и слишком «мешают жить». И мы сдаемся, сдаемся…Но душа, слава Богу, не поспевает за умом и вот внезапно, в нежданный час и на нежданном слове, вдруг схватывает нас за полу, останавливая на бегу, и мы со смятением обнаруживаем себя вовсе не там, где собирались находиться. И стихи, пленявшие Г.Адамовича «перламутровыми переливами», и смущавшие В.Вейдле тем, что «в каждом затаились слова», что «и в раю - я», открываются иной, куда более горькой стороной, напоминая о Родине, которая все ждет нас и все светит ненаглядной красотой, дожидаясь нашего возвращения из всеобщей эмиграции.

худ.В.Кранц. 1978.
Выглядывает солнце, и Сороть вспыхивает ликующим зеркалом - молодая, весенняя, давняя, вечная… Это было когда-то… Это будет всегда.
http://pskovpisatel.ru/wp-cont....%A3.pdf
Виктор Петрович Астафьев

ЗЕМЛЯНИКА
Подружились Ваня и Нюра с дядей Соломиным давным-давно. В ту пору они еще и в школу не ходили. Чуть не каждый день бывали ребята у реки, бегали, играли, зарывались в песок и порой купались на неглубоких местах. Особенно интересно было им наблюдать за рыболовами. Их собиралось столько, что всем не хватало рыбы и многие, просидев бесплодно полдня, а то и больше, уходили домой ни с чем. С рыбаками было интересно: иногда они рассказывали ребятам о счастливых уловах и о таких здоровых рыбинах, что Ваня и Нюра замирали от удивления. Но рыбы эти почему-то всегда срывались. Однажды на берегу появился незнакомый рыбак в военной, немного поношенной форме без погон. У него тоже не клевало. Рыбак скучал и сидел неподвижно, уставившись взглядом куда-то вдаль. Он не видел, как требовательно начал нырять похожий на китайское яблочко поплавок и настойчиво закачалась вершинка удилища. Ребята не выдержали, подскочили и, задыхаясь, прошептали разом:
- Дяденька, клюет!
Рыбак вздрогнул и, оглядываясь по сторонам, растерянно спросил: - А? Что?.. - опомнился и дернул удилище. Окунь, ощетинившись, пролетел в воздухе, но от поспешного рывка сорвался и запрыгал в траве около самой воды. Ваня не растерялся и плюхнулся на окуня животом. Рыбак долго держал в руках зеленоватого горбача, сердито дрыгающего хвостом, и, блестя глазами, приговаривал: -Ах, красавец! Силен, силен! Кэ-эк он сиганул, а? - потом поглядел на улыбающихся ребят и торжественно, словно награду, протянул им окуня: - Нате, держите! За находчивость! Так завязалась дружба.
С того памятного дня прошло несколько лет. Ребята стали школьниками, сами рыбачить научились. Ивана Павловича они по старой привычке зовут дядей Соломиным. Он называет Нюру пичужкой, потому что у нее острый носик, круглые глаза, и хоть заплетает она волосы в куцые косички, все равно на лбу торчит хохолок, который делает ее действительно похожей на птичку. А Ваня- - крепкий, лобастый, упрямый, и дядя Соломин величает его тезкой. Мама ребятишек, Надежда Николаевна, говорит, что и видом и характером Ваня похож на отца. Но правда ли это, Ваня не знает: он был еще маленьким, когда отец ушел на войну. Потом с фронта пришло письмо, которое мама до сих пор хранит в ящике, перечитывает и плачет. Ваня на год старше Нюры и на голову выше ростом. Учатся они в разных классах и тоже по-разному: Нюра на пятерки, а у Вани арифметика хромает. И старается он одолеть эту самую арифметику, да терпения маловато. Услышал Ваня однажды, что есть такие люди, с которыми бейся - не бейся, а раз не даются им точные науки - толку не будет. И поэтому сказал маме: «Не стоит голову ломать над тем, что в нее не лезет». Но на веский Ванин довод мама ответила: «Я вот возьму ремень да всыплю тебе в определенное место - сразу, как по маслу, пойдут у тебя и точные и неточные науки».
Мама, она, конечно, человек хороший, пожалуй, лучше всех на свете, но понять Ваню не может. Вот дядя Соломин, тот сразу догадался в чем дело и сказал Ване: «Э-э, друг, ты соображать ленишься, пользуешься тем, что легко дается. Так дело не пойдет!» И начал приучать Ваню соображать.
Иван Павлович работает ревизором на пассажирских поездах и заочно учится в железнодорожном институте. Однако как-то умудряется выкроить время и для ребят: иногда в лес по ягоды с ними сходит, а то на рыбалку с собой возьмет. Нюра, конечно, рыболов так себе, прямо надо сказать - никудышный, не то что Ваня. Но ей тоже интересно бывать с дядей Соломиным. Уж очень много знает он сказок и умеет лепить из глины такие игрушки, каких даже в магазине не сыскать. Жаль только, что про войну и про свои геройские дела он мало рассказывает. Но Ваня и Нюра знают, почему: во-первых, он скромный, а во-вторых, в войну у него погибли жена и маленький сын, Славик.
Нюра любит наблюдать за Соломиным, когда он занимается с Ваней. Решает он, решает с Ваней задачки и неожиданно спросит: - О чем сейчас думаешь?
Ваня растеряется и не знает, что ответить.
- Да так… обо всем…
Нюра прыснет со смеху, Ваня незаметно покажет ей кулак, а дядя Соломин скажет: - А ну-ка, почтенный тезка, спускайся с небес и вникай в суть задачи. Ваня нехотя «спускается с небес», где он только что летал на разных ракетопланах до самой луны, и начинает заниматься скучнейшим делом на свете - решением задач. Арифметика все-таки пошла на лад. Зимой, в день рождения Вани, Иван Павлович подарил ему книгу про Миклуху-Маклая и коробку конфет.
Ваня пять дней подряд читал подаренную книгу и за это время сумел получить три двойки. Мама сильно рассердилась и пошла к Соломину, которого считала виновником всего. О чем они там говорили, неизвестно, но возвратилась Надежда Николаевна совсем не сердитая и с этих пор была особенно ласкова и даже нежна с ребятами. Теперь Надежда Николаевна знает: коль нет их дома, значит, у Соломина.
- А непоседы мои опять к родне отправились, - иногда говорит она соседям. - Ну, прямо хоть привязывай! И чем он их приворожил?
Соседи-просмешники шутят над ней: - Соломин петушиное слово знает. Смотри, Надежда Николаевна, как бы он и тебя не приворожил! Надежда Николаевна покраснеет и только отмахнется от шутников. Если бы ребятам кто-нибудь сказал, что дядя Соломин не родной им человек, они бы, пожалуй, не поверили. И радостью, и детской бедой они привыкли делиться с ним. Вот и сегодня после утренника в школе ребята спешат к дяде Соломину, потому что мама еще на работе и дома никого нет. Впрочем, спешит только Нюра: в табеле у нее за весь учебный год сплошь пятерки, а Ваня плетется позади. У него по арифметике получилась только тройка. Ну, что ты поделаешь, не везет человеку! И кто эту арифметику придумал? Уж Ваня ли не старался? Одно утешительно - учительница говорит, что эту тройку можно считать с плюсом. Но все равно мама будет недовольна, ругать начнет, а дядя Соломин, может, и ничего не скажет, но все-таки нехорошо получается, с тройкой-то…
Хозяйка, у которой снимал комнату Иван Павлович, встретила их со слезами: - Нету, детки, Ивана Павловича, в больнице он, ногу ему повредило…
- К-как повредило? Где? - оторопели ребята.
- В поездке вчера. Пассажир какой-то, подвыпивший должно быть, упал между вагонами, поймался за скобу и орет. Павлыч-то и полез человека спасать. Выручил пассажира, а самому ногу и придавило. - Хозяйка высморкалась в передник. - Ходила я в больницу. По разговорам фершалов получается, что худы дела у Павлыча, отрежут ему ногу, - хозяйка черкнула ребром ладони повыше своего колена, - вот до сих пор и отпласнут…
Низко опустив головы, ребята ушли на берег и уселись под тополями, которые, радуясь наступившему лету, пустили в небо свежие зеленые стрелы. Ваня выводил пальцем на песке любимую цифру - пятерку, а Нюра сквозь слезы смотрела на заречный лес.
- Вань, а земляника поспела? - вдруг тихо спросила она.
- А я откуда знаю? Не до земляники сейчас.
- Ты не сердись. Я это вот к чему. Если поспела, поплывем за реку, наберем и дяде Соломину отнесем…
- Нюрка! - загорелся Ваня. - Ух, и голова у тебя!
В проходной будке больницы дежурил низенький курносый дед, щеголявший, невзирая на жару, в подшитых валенках, в шапке и ватной фуфайке. Вид у него был строгий, как у начальника.
- На передачу опоздали, - заявил он тоном, не допускающим возражений, - а свиданки разрешаются по воскресеньям да по средам с двух до шести.
Ребята принялись упрашивать деда, хитрить, даже земляники немного предлагали, но дед твердо стоял на своем посту и на ягоды не соблазнился. В конце концов дед разозлился и прогнал их. Ваня погрозил кулаком захлопнувшейся двери будки, а Нюра бойко крикнула: - По-оду-у-маешь, начальник какой, а мы все равно пройдем к дяде Соломину! Дед не удостоил их ответом. Пришлось терпеливо ожидать кого-нибудь из других работников больницы. Ждали долго, истомились… Ваня отправился искать дырку в заборе, чтобы пролезть в больничный двор, но в это время к воротам подкатила «Победа». По тому, как засуетился дед, ребята поняли, что приехало начальство. Они подскочили к машине и наперебой закричали: - Мы к дяде Соломину, разрешите, дяденька?
Из машины выглянул тучный мужчина с бритой головой. Строго сдвинув седые брови, он совсем не строгим тоном обратился к деду: - Федотыч, что за шум?
Федотыч встал «во фрунт» и доложил: - Непорядок, товарищ главврач, пострелята в больницу прут, а сегодня свиданок не положено…
Нюра не дала Федотычу договорить и так затараторила, что дед недовольно смолк. Главврач с любопытством посмотрел на стакан земляники в Ваниных руках и удивленно воскликнул: - Уже земляники набрали, ну и ну! Взял одну ягодку, осмотрел ее со всех сторон, бросил в рот.
«Ишь, какой, даже не спросил… Думает, начальство - так что угодно брать можно, - с неприязнью глядя на врача, подумал Ваня. - Этот, наверно, и хочет отпласнуть ногу дяде Соломину».
Врач раздавил ягодку языком, причмокнул от удовольствия.
- Ты, герой, и ты, щебетуха, - кем вы приходитесь Ивану Павловичу?
Нюра растерялась:
- Ну кем… кем…- Но тут же нашлась и выпалила: - Мы лучшие его друзья. Вот!
- А-а, лучшие друзья, - понимающе протянул врач, - тогда, Федотыч, ничего не поделаешь, придется пропустить. Нарушить правило во имя дружбы - не грех.
- Непорядок это - правила нарушать. Землянику, в крайнем случае, передать можно, - буркнул дед.
- Ничего ты, Федотыч, не понимаешь в землянике. Целебные свойства есть в ней, - сказал главврач и, озорно сверкнув глазами, скомандовал: - В машину, друзья-гвардейцы, подвезу…
И вот они, заплетаясь ногами в полах длинных халатов, идут следом за медсестрой по больничному коридору. В нос ударяет густой запах лекарств, кругом тишина и чистота. Стакан с земляникой, потонувший в длинном рукаве халата, прилипает к потной Ваниной ладони. Робко вошли они в палату. В ней тоже тихо, бело, поэтому удивительно красиво выглядят на окнах живые цветы. Больные лежат на кроватях, тихо переговариваются. Двое сидят на постели и сражаются в шахматы.
- А где же наш дядя Соломин?
Медсестра подошла к кровати, на которой лежал, закрывшись с головой одеялом, какой-то человек, и, тронув его за плечо рукой, сказала: - Больной, к вам пришли.
Человек откинул одеяло: - Ко мне? Кто может ко мне прийти?
Ребята замерли, пораженные - так изменился дядя Соломин. Только позавчера были у него светлые волнистые волосы, а сейчас голова голая, стриженая, от этого лицо кажется продолговатым и уши как-то странно торчат. Но самая разительная перемена в глазах. Нет той ласковой усмешки, которая часто искрилась в них, нет и грусти. Глаза Соломина словно стекляшки - ровные, безразличные.
Преодолевая робость, ребята двинулись к его кровати, с радостью замечая, что под тонким одеялом обе ноги. Нюра задрожавшим голосом сказала: - Это мы пришли, дядя Соломин… Мы… я и Ваня.
- Ах, вот кто ко мне пожаловал, - попытался улыбнуться Иван Павлович, с трудом потянулся с кровати и подвинул табуретку. - Садитесь, ребятки.
Ваня и Нюра чинно уселись рядышком.
- Ну, как дела?
- Все на пять, - почему-то шепотом ответила Нюра.
- Тройка по арифметике, - промямлил Ваня, угрюмо глядя в распахнутое настежь окно.
- Как же ты это подкачал, тезка? Ваня только вздохнул.
Иван Павлович потрепал Ваню по плечу.
- Ничего, тезка… не горюй…
Нюра толкнула Ваню под бок и повела глазами на рукав халата, где хранился стакан с ягодой.
- Это… вот… дядя Соломин, вам, — неловко предложил Ваня подарок.
Иван Павлович, как завороженный, протянул руки к стакану.
- Земляника! — прошептал он и возбужденно крикнул на всю палату: - Товарищи, ребята землянику принесли!
- Да ну! Неужели поспела?
- Факт налицо! - Иван Павлович поднял стакан так, чтобы все видели: - Угощаю первой ягодой! Нюра, надели всех.
Он сунул ей ложечку, и она пошла по палате, насыпая землянику в ладони больных. Как величайшую драгоценность, принимали ягоду больные, подолгу рассматривали ее, вдыхали аромат и растроганно благодарили: - Ай, спасибо, детки, вот удружили, вот обрадовали…
- А я думаю: откуда это лесом, земляникой потянуло? - говорил Иван Павлович, - мерещится, думаю, с тоски, а тут оказывается, первооткрыватели ягодного сезона явились… Ну, а вы сами-то почему не пробуете? Берите!
Нюра взяла две ягодки, а Ваня заявил:
- Ел, ел, аж опротивели.
- Тезка, не ври. Сколько раз я тебе говорил, что вранье - последнее дело.
- Я и не вру.
- Нет, врешь. Это - первые ягоды, и в такую пору полный стакан набрать не так просто. Уверен, что вы только зеленцом пробавлялись. Правду я говорю, пичужка?
- Правду.
Ваня сконфузился, метнул сердитый взгляд на сестру и взял щепотку ягод. Иван Павлович откинулся на подушку, полюбовался ягодами, положил одну из них в рот и блаженно закрыл глаза.
- Хороша! - восхищенно сказал он.
Она была самой его любимой ягодой, эта земляника. Неприхотливая красавица, в траве она растет крупная, налитая. Отыщешь кустик, внизу на нем висит, как маленький бочоночек, ягодка на зеленой звездочке, а повыше — другая, остроносая, с белым боком. Еще выше — совсем маленькая и желтенькая ягодка. И на самой вершинке из травы выглядывает беленький цветочек. На припеке земляника мельче. Здесь, точно багряный ковер, расстилаются по сухой земле красные земляничные листья, а сами ягодки - с золотыми крапинками...
- Хороша! - повторил Иван Павлович. - Не знаю, как я теперь в лес с вами пойду, - добавил он и взглянул на свою неподвижную ногу.
- Да это ерунда, дядя Соломин, - горячо заговорил Ваня. - Вон у Витьки Артамоненки отец на деревяшке и рыбачить, и охотничать ходит, а у вас обе ноги…
-Увидев, что лицо у Ивана Павловича помрачнело при упоминании о деревяшке, Ваня запальчиво спросил:
- Вы, может, не верите, что на деревяшке и рыбачить и охотиться можно? Еще как можно! Вот свожу вас к Витькиному отцу, все вместе рыбачить станем… А с ним какой случай случился, с Витькиным-то отцом, - захлебываясь, продолжал Ваня. - Пошли они, Витька с отцом и еще один парнишка. Взяли бредень…
- На деревяшке и с бреднем? Ты что-то, тезка, того, перехватил…
- Не верите?
- Он правду, правду говорит, - подтвердила Нюра.
- И что же дальше? - с интересом спросил Иван Павлович.
- Ну вот, пошли они, бродили-бродили, рыбы поймали, уху сварили, наелись и спать легли. Витькин отец деревяшку отвязал и к огню сушить положил, а ночью и загори у него тужурка на спине. Артамоненко как заорет, ребята перепугались спросонья и бежать. Он цап-царап, деревяшка отвязана, а тужурка на все пуговицы застегнута. Расстегивать некогда, и ребята удрали, а спину жжет. Но Артамоненко не растерялся, запрыгал на одной ноге к реке и бултых в воду во всем…
В палате хохотали, смеялся от всей души и Соломин.
- Значит, пацаны наутек, а он бултых в воду? О, чтоб вам…
Лежавший в углу больной держался за живот обеими руками и радостно взвизгивал: - Ой, уморили, ой, швы разойдутся…
Иван Павлович вытер краешком простыни выступившие от смеха слезы, и, отдышавшись, сказал:
- М-да-а, вообще-то смешного тут мало. Да что с вас спросишь - ребятишки вы и есть ребятишки. Ну ладно, с этим Витькиным отцом вы меня обязательно познакомите. А сейчас бегите домой. Еще вот что: в следующий раз принесите мои книги, а то я занятия забросил.
Иван Павлович прижал детей к своей широкой груди, отпустил и сказал: - Ну, бегите, бегите… дорогие.
Ребята направились к двери, но в палату вошла Надежда Николаевна. Они остановились, удивленные и обрадованные. Надежда Николаевна немного смутилась и, торопливо завязывая тесемки на рукаве халата, проговорила: - Заболтались вы здесь. Я уж вас потеряла.
- Добрый день, Надежда Николаевна, - радостно улыбаясь, приподнялся на кровати Соломин.
- Здравствуйте, здравствуйте, Иван Павлович. Я на минуточку, вон за чадами, ушли и ушли, - будто оправдываясь, сказала Надежда Николаевна и положила на тумбочку небольшой сверток. - Что это на вас за напасти?
- Да вот, видите, угораздило…
Ребята были очень довольны тем, что и мама догадалась прийти проведать дядю Соломина. Им расхотелось идти домой. Оба приготовились слушать, о чем же будут говорить мама и дядя Соломин. Но разговор оказался неинтересным: о самочувствии Ивана Павловича, о том, как кормят в больнице, о домашних делах Надежды Николаевны. Словом, о всяких пустяках. Только непонятно, почему об этаких пустяках они - мама и дядя Соломин - говорят с воодушевлением и в глазах обоих - радость… И ребятам вдруг тоже почему-то стало еще радостнее.
- Нюр, глянь, - шепнул Ваня сестре и показал на больного, который, полулежа в постели, с интересом читал книгу. - Усы как у Чапая. Такие же закрученные.
- Подойдем? - предложила Нюра.
Усач, увидав подошедших ребят, отложил книгу.
- Так, значит, поспевает земляника? - с добродушной улыбкой спросил он. - Ну, и много ее нынче? Здорово, поди, цветет?
- Белым-бело, дяденька, особенно на бугорках, только вот спелых ягодок еще мало.
- Рановато. Вот с недельку пройдет, тогда она дозреет. Земляника солнце любит. На солнышке-то она наливается не по дням, а по часам…
- Ничего страшного, Иван Павлович, - донесся до ребят голос мамы, - у нас инвалидам почет, а вы поправитесь, и все будет хорошо. Вы вон какой сильный и… умный…
- И на малину урожай хороший должен быть, - продолжал усач. - В масленицу снег здорово валил.
- А если в масленицу снег здорово идет, то от этого малины много бывает? - с интересом спросила Нюра.
- Примета такая. Есть и другие приметы. Как, например, угадать назавтра погоду, знаете? Если вечером на небосводе заря красная, то завтра жди ветер, а если на горизонте густые облака и солнце садится за них, то завтра, верняком, будет дождь, да мелкий-мелкий, такой нехороший, надоедливый. Еще есть, ребята, лесные приметы. Заблудишься в лесу, а приметы и помогут обязательно выбраться.
Это было интересно. Ваня и Нюра все свое внимание сосредоточили на том, чтобы запомнить приметы. А Иван Павлович с Надеждой Николаевной все говорили и говорили.
Бывает так: пройдет лесной пожар и начисто слизнет ненасытными языками все живое на пригорке. Стоит пригорок, маячит, весь черный, неприветливый. Но проходят года. Ветер наносит на пригорок семян с окружающего леса, щедро посеет их на черную, потрескавшуюся землю. И глядишь, весной после обильного дождика настойчиво пробиваются из-под черных пней и уродливых валежин бледные, но упрямые ростки и настойчиво тянутся к солнцу. Скромно укрывшись от глаз, между узловатых корней начинает наливаться и зреть первая ягода - земляника. И зацветает пригорок вновь! Будут шуршать на нем молодые кудрявые березки; от утреннего прохладного ветерка затрепещут листья на робких осинках; приподнимется на гибких ветвях колючий малинник, празднично зарозовеет кипрей, крепко уцепятся за землю молодые лапчатые пирамидки пихт и елочек. Все это, радуясь простору, будет тянуться к солнцу, разрастаться так, что сразу и не пробраться сквозь густо сплетенные кусты, травы, цветы. И только внизу, укрытые от глаз, еще долго будуг лежать, напоминая о пожарище, обгорелые валежины, но и они со временем сгниют, развалятся, уступив место свежей, молодой поросли…
- Ну, вот что, ягодники, - сказал усач, рассказав о всех приметах, которые знал. - Отправляйтесь-ка домой, сейчас у нас главврач с обходом пойдет.
- Идите, идите, - сказала и мама. - Я сейчас. Я догоню вас.
Ребята помялись немного у двери: нельзя ли еще минутку побыть в палате? Но никто их не задержал. Они вздохнули и вышли. По коридору расхаживал главврач, заложив руки за спину.
- Ну, как, друзья-гвардейцы, повидались с дядей Соломиным?
- Повидались, спасибо, - ответила Нюра и, помедлив, спросила: - Дядя доктор, ногу ему будете отрезать или нет?
- Хм… Это зависит от того, как вы его земляникой подкармливать будете.
- Земляникой! - обрадовался Ваня. - Да мы каждый день и лес ходить станем и рыбы наудим, он еще рыбу любит, только вы не режьте ему ногу. Ладно?
- Постараемся, друзья-гвардейцы, постараемся сохранить вашему дяде ногу, - взъерошив волосы на головах ребят, вздохнул главврач и пошел в палату, из которой они только что вышли. Во дворе Нюра остановила брата и предложила: - Вань, давай всех ребят с нашей улицы сговорим за земляникой? Много в больницу принесем.
Ваня постукал пальцем по голове и серьезно проговорил: - Крепко у тебя тут, Нюрка, варит…
Дед в проходной хотя и бурчал, но встретил их сейчас совсем по-иному:
- Пронырнули все-таки, пострелята!.. Ладно уж, ходите, особая вам статья, товарищ главврач велел пропускать вас беспромедлительно.
Ребята поблагодарили деда и пошли вначале медленно, но потом, не удержавшись, припустили во весь дух. Под белыми воротничками от быстрого бега у них трепетали галстуки цвета спелой земляники.
1952.
http://www.dolit.net/author....ead
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 05 Авг 2017, 10:58 | Сообщение # 21 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
СЧАСТЛИВЧИК
У меня есть старший брат, которому всегда везет. Он родился на 3 года раньше меня и всю жизнь меня поколачивал. Когда ему было 10 лет, он упал в глубокий высохший колодец, слегка оцарапал колено, но зато нашел на дне колодца серебряные часы, которые тикали. С каждым годом брату везло все больше. Стоило ему купить лотерейный билет, и он непременно выигрывал нужную дорогую вещь. Я же за всю свою жизнь выиграл лишь однажды - оренбургский платок. А зачем он мне, когда я холостой? Пришлось отдать платок жене брата. Если мой брат опаздывает на самолет, то самолет задерживается в связи с нелетной погодой. На выставках он всегда бывает миллионным посетителем, и ему вручают приз. Моему брату везет и в мелочах и в главном. Он счастливчик. Но вот как-то раз на него напали грабители. Дело было ночью, кругом ни души. Он стал сопротивляться. Бандиты окружили его. Один из них ударил брата ножом в живот. «Скорая помощь» увезла брата в больницу. Я стоял около хирургического кабинета и был готов к худшему. Наконец появился врач.
- Вашему брату повезло, - сказал он, - бандюга вырезал ему хронический аппендицит.
- Ура! - крикнул я, подпрыгнул от радости, поскользнулся на кафельном полу и сломал себе ногу.
http://sergeidovlatov.com/books/schastlivchik.html
ЭМИГРАНТЫ
Район Новая Голландия - один из живописных уголков Ленинграда... Путеводитель. Солнце вставало неохотно. Оно задевало фабричные трубы. Бросалось под колеса машин на холодный асфальт. Блуждало в зарослях телевизионных антенн. В грязном маленьком сквере проснулись одновременно Чикваидзе и Шаповалов. Ах, как славно попито было вчера! Как громко спето! Какие делались попытки танца! Как динамичен был замах протезом! Как интенсивно пролагались маршруты дружбы и трассы взоров! Как был хорош охваченный лезгинкой Чикваидзе! (Выскакивали гривенники из карманов, опровергая с легким звоном примат материи над духом.) И как они шатались ночью, поддерживая сильными боками дома, устои, фонари... И вот теперь проснулись на груде щебня... Шаповалов и Чикваидзе порылись в складках запачканной мятой одежды. Был извлечен фрагмент копченой тюльки, перышко лука, заржавевший огрызок яблока. Друзья молча позавтракали.
Познакомились они недавно. Их сплотила драка около заведения шампанских вин. В тесноте поссориться недолго. Обувь летняя, мозоли на виду.
- Я тебя зарежу! - вскричал Чикваидзе. (Шаповалов отдавил ему ногу.)
- Не тебя, а вас, - исправил Шаповалов. Затем они долго боролись на тротуаре. И вдруг Чикваидзе сказал, ослабив пальцы на горле Шаповалова:
- Вспомнил, где я тебя видел. На премьере Тарковского в Доме кино...
С тех пор они не расставались. Дома обступили маленький сквер. Бледное солнце вставало у них за плечами. Остатки ночной темноты прятались среди мусорных баков. Друзья поднялись и вышли на улицу, залитую робким апрельским солнцем.
- Где мы находимся? - обращаясь к первому встречному, спросил Чикваидзе.
- В Новой Голландии, - спокойно ответил тот. Качнулись дома. Запятнанные солнцем фасады косо поползли вверх. Мостовая, рванувшись из-под ног, скачками устремилась к горизонту.
- Ничего себе, - произнес Шаповалов, - хорошенькое дело! В Голландию с похмелья забрели!
- Беда, - отозвался Чикваидзе, - пропадем в незнакомой стране!
- Главное, — сказал Шаповалов, - не падать духом. Ну, выпили. Ну, перешли границу. Расскажем все чистосердечно, может, и простят...
- Я хочу домой, - сказал Чикваидзе. - Я не могу жить без Грузии!
- Ты же в Грузии сроду не был.
- Зато я всю жизнь щи варил из боржоми.
Друзья помолчали. Мимо с грохотом проносились трамваи. Тихо шептались постаревшие за ночь газеты.
- Обрати внимание! - закричал Чикваидзе. - Вот изверги! Чернокожего повели линчевать!
И верно. По людной улице, возвышаясь над толпой, шел чернокожий. Его крепко держали под руки две стройные блондинки...
- Будем тайком на родину пробираться, - сказал Чикваидзе.
- Беднейшие слои помогут, - откликнулся Шаповалов.
Они перешли мост. Затем миновали аптеку и пестрый рынок.
- Противен мне берег турецкий, - задушевно выводил Чикваидзе.
- И Африка мне ни к чему, - вторил ему Шаповалов.
Друзья шли по набережной. Свернули на людную улицу. Поблескивали витрины. Таяло мороженое. Улыбались женщины и светофоры.
- Посмотри, благодать-то какая! - неожиданно воскликнул Шаповалов.
- Живут неплохо, - поддакнул Чикваидзе.
- А как одеты!
- Ведь это - Запад!
- Кругом асфальт! Полно машин! А солнце?!
- Еще бы! Тут за этим следят!
Возникла пауза. Ее нарушил Шаповалов.
- Датико, я хочу с тобой поговорить.
- И я.
- А ты презирать меня не будешь?
- Нет. А ты?
- Может быть, того... Ну, как его?.. Убежища попросим... Опять же, частная торговля...
- Ночные рестораны!
- Законы джунглей!
- Торжество бездуховности!
- Ковбойские фильмы!
- Моральное и нравственное разложение! - зажмурился Чикваидзе...
Через минуту друзья, обнявшись, шагали в сторону площади. Там, достав из кобуры горсть вермишели, завтракал блюститель порядка, расцветкою напоминавший снегиря.
http://sergeidovlatov.com/books/emigr.html
ЭТО НЕПЕРЕВОДИМОЕ СЛОВО - «ХАМСТВО»
Рассказывают, что В.Набоков, годами читая лекции в Корнельском университете юным американским славистам, бился в попытках объяснить им своими словами суть непереводимых русских понятий - «интеллигенция», «пошлость», «мещанство» и «хамство». Говорят, с «интеллигенцией», «пошлостью» и «мещанством» он в конце концов справился, а вот растолковать, что означает слово «хамство», так и не смог. Обращение к синонимам ему не помогло, потому что синонимы - это слова с одинаковым значением, а слова «наглость», «грубость» и «нахальство», которыми пытался воспользоваться Набоков, решительным образом от «хамства» по своему значению отличаются. Наглость - это в общем-то способ действия, то есть напор без моральных и законных на то оснований, нахальство - это та же наглость плюс отсутствие стыда, что же касается грубости, то это скорее форма поведения, нечто внешнее, не затрагивающее основ, грубо можно даже в любви объясняться, и вообще действовать с самыми лучшими намерениями, но грубо, грубо по форме - резко, крикливо и претенциозно.
Как легко заметить, грубость, наглость и нахальство, не украшая никого и даже заслуживая всяческого осуждения, при этом все-таки не убивают наповал, не опрокидывают навзничь и не побуждают лишний раз задуматься о безнадежно плачевном состоянии человечества в целом. Грубость, наглость и нахальство травмируют окружающих, но все же оставляют им какой-то шанс, какую-то надежду справиться с этим злом и что-то ему противопоставить. Помню, еду я в ленинградском трамвае, и напротив меня сидит пожилой человек, и заходит какая-то шпана на остановке, и начинают они этого старика грубо, нагло и нахально задевать, и тот им что-то возражает, и кто-то из этих наглецов говорит: «Тебе, дед, в могилу давно пора!» А старик отвечает: «Боюсь, что ты с твоей наглостью и туда раньше меня успеешь!» Тут раздался общий смех, и хулиганы как-то стушевались. То есть, имела место грубость, наглость, но старик оказался острый на язык и что-то противопоставил этой наглости. С хамством же все иначе. Хамство тем и отличается от грубости, наглости и нахальства, что оно непобедимо, что с ним невозможно бороться, что перед ним можно только отступить. И вот я долго думал над всем этим и, в отличие от Набокова, сформулировал, что такое хамство, а именно: хамство есть не что иное, как грубость, наглость, нахальство, вместе взятые, но при этом, умноженные на безнаказанность. Именно в безнаказанности все дело, в заведомом ощущении ненаказуемости, неподсудности деяний, в том чувстве полнейшей беспомощности, которое охватывает жертву. Именно безнаказанностью своей хамство и убивает вас наповал, вам нечего ему противопоставить, кроме собственного унижения, потому что хамство - это всегда «сверху вниз», это всегда «от сильного - слабому», потому что хамство - это беспомощность одного и безнаказанность другого, потому что хамство - это неравенство. Десять лет я живу в Америке, причем не просто в Америке, а в безумном, дивном, ужасающем Нью-Йорке, и все поражаюсь отсутствию хамства. Все, что угодно, может произойти здесь с вами, а хамства все-таки нет. Не скажу, что я соскучился по нему, но все же задумываюсь, почему это так: грубые люди при всем американском национальном, я бы сказал, добродушии попадаются, наглые и нахальные, тоже, особенно, извините, в русских районах, но хамства, вот такого настоящего, самоупоенного, заведомо безнаказанного, - в Нью-Йорке практически нет. Здесь вас могут ограбить, но дверью перед вашей физиономией не хлопнут, а это немаловажно.
И тогда я стал думать, припоминать: при каких обстоятельствах мне хамили дома. Как это получалось, как выходило, что вот иду я по улице - тучный, взрослый и даже временами в свою очередь нахальный мужчина, во всяком случае явно не из робких, бывший, между прочим, военнослужащий охраны в лагерях особого режима, закончивший службу в Советской Армии с чем-то вроде медали - «За отвагу, проявленную в конвойных войсках», - и вот иду я по мирной и родной своей улице Рубинштейна в Ленинграде, захожу в гастроном, дожидаюсь своей очереди, и тут со мной происходит что-то странное: я начинаю как-то жалобно закатывать глаза, изгибать широкую поясницу, делать какие-то роющие движения правой ногой, и в голосе моем появляется что-то родственное фальцету малолетнего попрошайки из кинофильма «Путевка в жизнь». Я говорю продавщице, женщине лет 60-ти: «Девушка, миленькая, будьте добречки, свесьте мне маслица граммчиков сто и колбаски такой, знаете, нежирненькой, граммчиков двести...». И я произношу эти уменьшительные суффиксы, изо всех сил стараясь понравиться этой тетке, которая, между прочим, только что прикрепила к своему бидону записку для своей сменщицы, что-то вроде: «Зина, сметану не разбавляй, я уже разбавила...», и вот я изгибаюсь перед ней в ожидании хамства, потому что у нее есть колбаса, а у меня еще нет, потому что меня - много, а ее - одна, потому что я, в общем-то, с известными оговорками, - интеллигент, а она торгует разбавленной сметаной...
И так же угодливо я всю жизнь разговаривал с официантами, швейцарами, водителями такси, канцелярскими служащими, инспекторами домоуправления - со всеми, кого мы называем «сферой обслуживания». Среди них попадались, конечно, милые и вежливые люди, но на всякий случай изначально я мобилизовывал все уменьшительные суффиксы, потому что эти люди могли сделать мне что-то большое, хорошее, важное, вроде двухсот граммов колбасы, а могли - наоборот - не сделать, и это было бы совершенно естественно, нормально и безнаказанно. И вот так я прожил 36 лет, и переехал в Америку, и одиннадцатый год живу в Нью-Йорке, и сфера обслуживания здесь - не то пажеский корпус, не то институт благородных девиц, и все вам улыбаются настолько, что первые два года в Америке один мой знакомый писатель из Ленинграда то и дело попадал в неловкое положение, ему казалось, что все продавщицы в него с первого взгляда влюбляются и хотят с ним уединиться, но потом он к этому привык.
И все было бы замечательно, если бы какие-то виды обслуживания - почта, например, или часть общественного транспорта - не находились и здесь в руках государства, что приближает их по типу к социалистическим предприятиям, и хотя до настоящего хамства здешняя почта еще не дошла, но именно здесь я видел молодую женщину за конторкой, с наушниками и с магнитофоном на поясе, которая, глядя на вас, как на целлофановый мешок, слушала одновременно рок-песенки и даже как-то слегка агонизировала в такт. С тех пор я чаще всего пользуюсь услугами частной почтовой компании «Юпиэс», и здесь мне девушки улыбаются так, что поневоле ждешь, вот она назначит тебе в конце разговора свидание, но даже после того, как этого, увы, не происходит, ты все равно оказываешься на улице более или менее довольный собой.
http://sergeidovlatov.com/books/etoneper.html
ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ
Сложные и несколько экстравагантные отношения В.Маяковского с центральной героиней и вдохновительницей его поэтического творчества, многолетней возлюбленной и верным другом - Л.Ю. Брик, а также с ее мужем, видным теоретиком футуризма О.Бриком, издавна привлекали внимание серьезных исследователей русской культуры и досужих сплетников, причем едва ли не в одинаковой степени. В сознании почитателей и соратников Маяковского, друзей и единомышленников Лили и Осипа Бриков - этот «любовный треугольник» был отважным революционно-бытовым экспериментом, попыткой создания новых, невиданных в истории отношений, свободных от ревности, мещанского благополучия и обветшалой буржуазной морали. Официальное же советское культуроведение не может рассматривать эту связь иначе, как пример грязной декадентской безнравственности и авангардистского упадничества. В первом случае любовная история Маяковского превращается в идеализированный футуристический миф, в котором ретушируются теневые и драматические стороны личной жизни поэта, офиц. же советская версия (в той мере, в какой она предана гласности), мягко выражаясь, грешит неточностями.
Давняя антипатия к Брикам со стороны функционеров от искусства, точнее, отвращение к их роли в жизни Маяковского, объясняется несколькими достаточно ясными факторами. Отношения с Лилей Юрьевной и ее мужем разрушают бронзовый монумент поэта революции, выявляют истинный психологический и творческий облик Маяковского, не укладывающийся в узкоидеологические рамки толкования его личности. Кроме того, официальная концепция Маяковского-реалиста требует, по возможности, оторвать его от футуристического окружения, выделить из пестрой литературной среды 20-х годов, в которой Брики занимали достойное и яркое место. Именно поэтому в начале семидесятых годов был закрыт музей в Гендриковском пер., где Маяковский и Брики проживали совместно с 1926 г. и где 14 апреля 1930 г. раздался выстрел, оборвавший жизнь поэта, и вместо этого был открыт новый музей в пер. Серова (бывший Лубянский проезд), где у Маяковского была рабочая комната, иначе говоря - творческая мастерская. Ведь жизнь Маяковского в одной квартире с возлюбленной и ее официальным мужем с точки зрения советской (да и не только советской) морали - декадентская авантюра, способная горько разочаровать восторженных поклонников трибуна революции.
В этом смысле хочется процитировать несколько строк из послесловия к одному из бесчисленных изданий Маяковского в СССР: «Истоки новаторства Маяковского не в футуризме, а в его связи с компартией, с пролетарским освободительным движением в России...». Такого рода литературоведам нет никакого дела до того, что Маяковский действительно был крупнейшим российским футуристом, громогласно декларировавшим соответствующие идеи и подписавшим соответствующие манифеста, но при этом ни одного дня не состоял в компартии. Обожествление и монументализация поэта в СССР нарастают с каждым годом, и сейчас эта громоздкая безжизненная фигура следует в череде других гранитных, бронзовых и гипсовых идолов непосредственно за Лениным и Горьким. Единственным тормозом и препятствием на пути создания этого гигантского лживого мифа служит реальная биография Маяковского, сложного и противоречивого художника и человека, истинные детали которой все реже всплывают на поверхность в СССР и все полнее отражаются в исследованиях западных и русских славистов за пределами Союза. Одним из самых значительных трудов на эту тему представляется мне книга известного шведского филолога Бенгта Янгфельдта - «Владимир Маяковский и Лиля Брик. Переписка». Янгфельдту удалось собрать ценнейшие материалы, послужившие основой для содержательного предисловия и пространных, четко аргументированных комментариев, не говоря о множестве неопубликованных в Союзе писем и телеграмм: в книге воспроизводится 416 документов, из них - 88 ранее неизвестных и 37 впервые опубликованных полностью писем и телеграмм Маяковского, а также 194 обращения Лили Брик к поэту и 5 телеграмм к нему О.Брика.
Кроме того, Бенгт Янгфельдт проделал трудоемкую исследовательскую работу, связанную с установлением мест проживания Маяковского и супругов Брик, поскольку официальным литературоведением, вытесняющим Бриков из биографии Маяковского, были уничтожены следы их территориального сожительства вплоть до ретуширования старых фотографий. Янгфельдт представляет во введении и комментариях огромное количество фактов, включая адреса и мелкие бытовые детали, ведь лишь скрупулезное описание быта может пролить свет на истинные взаимоотношения всех участников драмы. Знакомясь с материалами Янгфельдта, мы убеждаемся, что близость Маяковского с Бриками не была ни футуристической идиллией, ни обывательской «любовью втроем». Янгфельдт доказывает, что супружеские отношения Лили и Осипа прекратились до того, как Лиля Юрьевна стала возлюбленной и гражданской женой Маяковского. Однако все трое были уже так тесно связаны и творчески и житейски, так явно дополняли друг друга и были друг другу столь необходимы, что они решили никогда не расставаться, испытывая полное взаимное доверие и чувство любви в более глубоком, христианском (если такое выражение применимо к атеистам) значения этого слова. Долголетняя связь Маяковского с Лилей никогда не была простой и безоблачной. Максималист во всем, поэт обожествлял свою возлюбленную, неустанно обращался к ней в стихах, буквально не мог без нее жить. Его потребность в любви, поддержке, нежности граничила с безумием. Давайте предоставим слово самой Лиле Брик: «Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня, это было нападение. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты...»
Лилия Юрьевна также питала к Маяковскому сильное чувство, но оно было более сдержанным и трезвым, чем его безумная страсть, и не заслоняло от нее всей жизни с обычными человеческими заботами и радостями, и в этом драматическом противоречии Янгфельдт усматривает один из решающих факторов, побудивших Маяковского к самоубийству в возрасте 37 лет и в расцвете славы, к самоубийству, которое все еще остается одной из трагических загадок нашей культурной истории.
http://sergeidovlatov.com/books/perepis.html
"ДВЕСТИ ФРАНКОВ С ПРОЦЕНТАМИ"
На окраине Парижа в самом конце грязноватой улицы Матюрен-Сен-Жак есть унылый 5-этажный дом. Под чердаком его снимал мансарду высокий кудрявый юноша с азиатскими глазами. Утром он с потертым бюваром торопился в канцелярию герцога Орлеанского, где служил младшим делопроизводителем. Локти его тесного сюртука и колени панталон блестели. Юноша замазывал предательски лоснящиеся места чернилами. Чернил в канцелярии герцога Орлеанского хватало с избытком. Питался он скверно, луком и разбавленным вином (во Франции плохое вино дешевле керосина). Юноша ненавидел лук и был равнодушен к вину. Напротив его дома был маленький трактир. Над дверью висела сосновая шишка из меди размером с хорошую тыкву. Заведение так и называлось - «Сосновая шишка». Иногда после работы юноша заходил сюда и долго вдыхал аромат жареной картошки. Потом небрежно говорил хозяину:
- Заверните-ка...
- Но вы и так должны мне сорок франков! - негодовал папаша Жирардо.
- Вот погодите немного, - заверял его юноша, - скоро я разбогатею и щедро вам отплачу.
В результате он уносил к себе в мансарду немного жареной картошки. Его долг папаше Жирардо все увеличивался. И вот, в один прекрасный день высокий кудрявый юноша с азиатскими глазами исчез. Его комнатушку под чердаком занял другой молодой человек в таких же лоснящихся холщовых панталонах.
Шли годы. Трактир «Сосновая шишка» приходил в упадок. В бедном студенческом квартале трактирщику с добрым сердцем разбогатеть нелегко. Наконец папаша Жирардо заколотил ставни. Теперь он промышлял с маленьким лотком в аристократическом квартале Сен-Жермен. Может быть, кто-нибудь из богачей, утомленных трюфелями и шампанским, захочет отведать жареной картошки?Как-то раз возле него остановился фиакр, запряженный парой гнедых лошадей. Сначала высунулась нога в козловом башмаке с серебряной пряжкой. Затем появился весь господин целиком. Вишневого цвета фрак, белоснежное жабо, и над всем этим - курчавые седеющие волосы и молодые азиатские глаза. Святая Мария! Папаша Жирардо узнал бедного юношу из мансарды. И тот узнал своего кредитора, обнял его и прижал к широкой груди, стараясь не помять жабо.
- Я, кажется, что-то задолжал тебе? - спросил нарядный господин.
- Ровно двести франков, - ответил торговец, - деньги сейчас были бы очень кстати!
- Денег у меня при себе нет, - заявил господин, - нашему брату не очень-то много платят. Но я
щедро расплачусь с тобой, дружище. Я расплачусь с тобой... бессмертием!
И, хлопнув изумленного торговца по плечу, он исчез в роскошном подъезде, возле которого дежурил угрюмый привратник в ливрее с золотыми галунами.
Прошло 3 месяца. Папаша Жирардо возвращался домой. Сегодня ему не удалось продать ни единой картофелины. Видно, трюфели и шампанское не так уж быстро надоедают аристократам. Он свернул за угол и обмер. Десятки шикарных экипажей запрудили улицу Матюрен-Сен-Жак. Возле заколоченных ставен его кабачка толпился народ. Нарядные господа в блестящих цилиндрах колотили в запертые двери лакированными штиблетами, восклицая:
- Открывай скорее, наш добрый Жирардо! Мы проголодались!
- В чем дело? - произнес торговец. - Чему я обязан?!
Какой-то щеголь с удивлением посмотрел на него.
- А ты не знаешь, старик? Да ведь это «Сосновая шишка»! Самый модный кабачок Франции!— Вы смеетесь надо мной! - взмолился бедняга Жирардо.
Щеголь достал из кармана томик в яркой обложке.
- Читать умеешь?
Папаша Жирардо кивнул. Щеголь раскрыл книжку.
- «Жизнь теперь представляется в розовом свете!..» - воскликнул герцог. Затем он и его друзья направились в кабачок «Сосновая шишка» на улице Матюрен-Сен-Жак, где достопочтенный мэтр Жирардо чудесно накормил их..."
- Назовите мне имя сочинителя! - вскричал потрясенный торговец. И услышал в ответ:
- Александр Дюма!
(Этот рассказ впервые был опубликован в журнале «Костер» в августе 1976 года и с тех по не переиздавался)
https://sosna.livejournal.com/2493383.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 13 Янв 2018, 13:06 | Сообщение # 22 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Анатолий Алексин:
ДОМАШНЕЕ СОЧИНЕНИЕ

Когда Дима прочитал все, что создано в мировой литературе для его возраста, он принялся за книги, написанные для других возрастов.
- Почему ты не запираешь свой книжный шкаф? - спросила мама у папы.
- Запирать книги - это кощунство! - ответил папа. - Они еще никому не приносили вреда.
- А может, вообще отменить это понятие - «ребенок»? - спросила мама. Раз в тринадцать лет можно все то же самое, что и в тридцать пять! За справедливостью Дима всегда обращался к бабушке. В самый разгар родительских споров, касавшихся его судьбы, он с отчаянием в голосе произносил: «Ну, скажи ты!..» И спор немедленно обрывался: бабушка говорила так неторопливо и тихо, что к ее голосу надо было прислушиваться. Вступая в дискуссию, она чаще всего задавала вопрос, ответ на который таил в себе решение спора.
- В каком классе ты сама-то прочитала «Анну Каренину»? - спросила она у мамы.
- Не помню.
- А я помню. В шестом…
- Вот видите! Видите!.. - воскликнул Дима. - А я еще не читал…
- Дети не обязаны повторять ошибки родителей, - отважилась возразить мама. - Книга, прочитанная не вовремя, может навсегда отбить вкус к самой себе.
- Это бывает, - согласилась бабушка. - Но ты не волнуйся… Я присмотрю.
Прежде всего Дима принялся за «Большую энциклопедию». Ему в голову пришла мысль, что если прочитать эти тяжеловесные тома, написанные обо всем на свете, можно сразу стать всесторонне образованным человеком. Осилив за 10 дней том на букву «А», Дима перестал спать спокойно. Радости и трагедии, открытия и сражения, происходившие в разные года и эпохи, но словно бы объединенные начальной буквой своих имен, перемешались в голове, путались, наскакивали друг на друга. И все же Дима, вздохнув, принялся за второй том. Сначала он решил перелистать его, посмотреть картинки… И неожиданно остановился. Между 78-й и 79-й страницами, лежал исписанный незнакомым ему почерком двойной лист, вырванный из обыкновенной тетрадки в линеечку: письмо 1972-му году. Домашнее сочинение ученика 9-го класса „Б“ Владимира Платова.
- Бабушка! - от неожиданности вскрикнул Дима.
- Что тебе? - раздался из другой комнаты бабушкин голос.
- Ничего… Я так просто. Хотел проверить, ты спишь или нет.
- К счастью, не сплю. А то бы ты меня разбудил.
- Прости, пожалуйста…
Дима решил сперва прочитать письмо сам. Судя по заголовку, ученик 9-го класса «Б» должен был адресовать его не человеку, а году. Однако первые же строчки свидетельствовали о том, что ученик не вполне подчинился заданию учительницы…
«Дорогая Валя! Мария Никитична хочет, чтобы мы обращались к году, а я обращаюсь к тебе. К тебе, живущей в том самом году! Прошло 30 лет, как я написал это письмо. И вот ты его читаешь… Представь себе, что я стою рядом (вот здорово!) и разговариваю с тобой. За это время произошло главное: я получил ответ на вопрос, который мучил меня в школьные годы. Дома, на уроках и переменах я думал: „Кого же она все-таки любит - Лешку Филиппова или меня?!“ Теперь я уже давно знаю, что ты любишь меня. А с Лешкой разговаривала на переменках просто для того, чтобы я немного поволновался. И еще потому, что вы оба занимались в лит. кружке. Это было единственное, что вас объединяло в ту далекую пору. Теперь уж я точно знаю… Все эти тридцать лет я был ужасно счастлив из-за того, что ты любила меня, а не Лешку Филиппова! Хотя он хороший парень. (Теперь-то уж хороший пожилой человек!) Я сочувствовал ему все эти тридцать лет. Но что поделаешь, Валечка?! Раз ты любишь меня… Тут уж ничего не поделаешь!
Никогда не думал, что мечты могут сбываться с такой математической точностью! Мы работаем с тобой в одной больнице - ты на 11-ом этаже, а я на 10-ом… Сегодня мы с тобой вместе оперировали больного. Я позвал тебя на помощь, и ты спустилась ко мне. А потом мы оба спустились вниз, где ждала нас его мать, и сказали ей: „Все в порядке!“ Она не поверила, зарыдала… А мы стали уверять ее: „Опасности нет. Опасности больше нет!..“ Чтобы иметь возможность хоть раз сказать это, стоит жить на земле! Ты согласна? Потом мы вернулись домой… Валя-маленькая, наша дочь, готовится к последним экзаменам в институте. Не знаю, в каком… Но это не имеет значения! А сын Сережа ушел на футбольный матч. Он вообще увлекается спортом. Тебе даже кажется, что чересчур. Похож на отца!.. Пусть хоть это послужит тебе утешением. Ведь ты любишь меня…»
На этом домашнее сочинение обрывалось.
- Бабушка! - крикнул Дима.
- Что тебе?
Дима молчал. Бабушка появилась на пороге. Говорили, что когда-то она была очень веселой. И даже любила петь, а потом стала тихой и, казалось, все время думала о чем-то одном. Думала, думала… Она стала такой в тот февральский день 45 года, когда пришло извещение о гибели ее сына Володи. Она всегда была уверена, что единственное, чего пережить невозможно, это гибель детей. Она и не пережила… Умерло ее веселье, умолкли песни, потухли глаза. И лишь через много лет, когда родился внук Дима, жизнь как бы вернулась к ней. Но не та, что была раньше, а совсем другая… Она стала бабушкой.
- Это… его сочинение, - сказал Дима. И протянул ей двойной тетрадный листок. Бабушка прочитала. Потом еще раз… Потом еще. Дима ждал. А она все водила глазами по строчкам. И Диме казалось, что это не кончится никогда.
- А где эта Валя? - спросил он тихо.
- Валя Филиппова? Как и раньше… живет над нами, на шестом этаже.
- Филиппова?! - переспросил Дима.
- Ну да…
- Она вышла замуж за Лешку?.
- Ее мужа зовут Алексеем Петровичем, - ответила бабушка.
- Это тот… который все уступает дорогу в лифт, а потом сам не влезает? Какой-то чудак!
- Интеллигентный человек, - возразила бабушка. - И ее ты знаешь. Однажды, когда у тебя была высокая температура, мы позвали ее. Она сделала тебе укол… Помнишь?
- Еще бы! — Дима погладил себя по тому самому месту. - Она стала хирургом?
- Нет, педиатром.
- Кем?
- Детским врачом.
- И он тоже врач?
- Он преподает литературу. Кажется, в институте.
- Ну да… он же занимался в литературном кружке!
- А сын их - такой высоченный и неуклюжий?
- Очень талантливый мальчик, - сказала бабушка.
- Откуда ты знаешь?
- Учится в аспирантуре. Его зовут Володей…
Когда начало темнеть, Дима спустился вниз и стал дежурить во дворе, возле подъезда. Люди возвращались с работы… Одни торопились так, будто дома их ждал какой-то сюрприз. Другие шли медленно, на ходу о чем-то размышляя, будто и не расставались с делами.
«Володя мечтал, что домой они будут возвращаться вдвоем… - вспомнил Дима. - Хорошо, чтоб сегодня она вернулась одна!»
Она подъехала на белой машине с красным крестом.
- Я только скажу моим мужчинам, чтобы не волновались, и сразу обратно, - сообщила она шоферу.
- Поешьте, — посоветовал он.
- Тогда, может, и вы?
- Я уже поел…
Дима вошел в подъезд вслед за ней и тихо, смущенно сказал: - Простите, пожалуйста…
- Что с тобой? - спросила она с тревожным участием, будто предполагала, что он нуждается в медицинской помощи.
- Вам письмо!
- Мне?!
Он впервые разглядел ее, хотя лампочка над дверью лифта светила тускло. Глаза были добрые, удивленные.
- Письмо?.. Мне? - Она ткнула пальцем в пуговицу пальто, из-под которого виднелся край белого халата. На голове у нее была белая медицинская шапочка, которая (Дима это давно заметил!) очень молодит женщин-докторов и всегда им к лицу.
«Все еще красивая…» - почему-то с огорчением подумал Дима. И протянул ей Володино домашнее сочинение.
- Прочтите…
- Что это? - с озорным любопытством спросила она, словно ожидала какого-то розыгрыша.
- Это письмо. Прочтите…
- Хорошо! Только поднимемся к нам, - предложила она. - А то здесь темно.
- Нет, лучше тут… - ответил ей Дима.
Его голос насторожил ее. Она раскрыла чемоданчик и достала очки. «Лишь бы никто не вошел и не помешал ей! - думал Дима. - Лишь бы никто!..» Он даже привалился спиной к двери, готовый задержать непрошеного жильца. Она сняла очки. Белая шапочка уже не так молодила ее. Она медленно пошла вверх по лестнице, забыв, что в доме есть лифт.
- Скажите, пожалуйста… - срывающимся голосом крикнул вдогонку Дима. - Вы любили его?
Она обернулась.
- Вы любили его? - почти шепотом, изумляясь собственной храбрости, повторил он.
- Я любила его, - ответила она. Сделала несколько шагов, вновь обернулась и добавила: - И я ему навсегда благодарна.
- За что? - спросил Дима.
- За все, - тихо сказала она. - За все…
https://www.litmir.me/br/?b=50554&p=1
Людмила Куликова
СВИДЕЛИСЬ

В новой квартире пахло влажными обоями. Запах был приятен. Он связывался с уверенностью в завтрашнем дне, надёжностью и чувством владения 70-ю кв. м. жилой площади. Впервые за долгие годы скитания по съёмным квартирам отпустил Толика подспудный страх быть выселенным по прихоти хозяев. Даже многодневная нервотрёпка при подготовке к переезду не смогла испортить ему приподнятого настроения. С обретением квартиры показалось Толику, что он застолбил место на земном шаре и теперь никогда не умрёт. По случаю новоселья Анюта испекла рыбный пирог с яйцом и зелёным лучком. Поставила его на середину стола, за которым собралась семья Титовых: отец, мать да четверо ребятишек. Анюта раскраснелась, хозяйничая; разливала чай, нарезала куски, шутила с детьми. Дети звенели ложками о чашки, размешивая сахар, и с нетерпением поглядывали на поблескивающий коричневой коркой рыбник. Толик смотрел на семью и был счастлив. "Как в детстве у мамы", – неожиданно подумал он и почувствовал, как только что переживаемое счастье затуманилось и потеряло лоск, будто червячок поселился в совершенном яблоке. Начал вспоминать, когда последний раз писал матери. Кажется, в год рождения первенца. Сейчас Алёшке 13. Виделся с матерью сразу после армии, потом уехал за тридевять земель на стройку. С их последнего свидания прошло 24 года.
- Налетай! – задорно призвала Анюта, села на стул и отхлебнула несколько глотков чая. Сынишки зачавкали, озорно переглядываясь и перемигиваясь, захлюпали ртами, втягивая горячий янтарный напиток, и заёрзали на стульях. Оживление за столом немного расслабило Толика, он с благодарностью принял у жены большой кусок пирога и стал не спеша есть.
- Анют, а где синяя папка с письмами?
- Я ещё три картонных коробки не разобрала. Наверное, в одной из них.
- Найди мне её.
- Срочно надо или подождёшь?
- Срочно.
Ребятишки уминали по второму куску, Анюта подливала в чашки, улыбкой откликаясь на весёлый детский гомон. Титовы дружно доели и допили. Первая трапеза в новой квартире оказалась неимоверно вкусной и укрепила ощущение счастья. Спустя час сидел Толик за кухонным столом и просматривал содержимое папки. В ней хранились несколько писем от сослуживцев, штук 20 армейских фотографий и весточка от мамы. Когда он уходил в армию, матери исполнилось 50. Она писала ему длинные послания, перечисляя деревенские новости и какие-то мировые сенсации, шутила по-простому, по-бабьему и неизменно заканчивала своим обычным: "Сыночку Толеньке от мамы Оленьки". Молодого солдата раздражали эти письма, он их прочитывал бегло, рвал на мелкие куски и выбрасывал в урну. Интересней читать письма от девчонок, которые сотнями доставляла армейская почта на имя "самого красивого" или "самого весёлого" солдата. Толик пожалел сейчас о тех уничтоженных письмах. Сердце будто в размерах уменьшилось – до чего неприятное чувство сжало его. Он взял в руки единственное сохранённое письмо матери, оставшееся с давних времён. Развернул. "Здравствуй, дорогой сынок Толик. Дошла до меня весть, что твой отец, от которого ты родился, помер. Уж и не помнишь его, поди. Малой ты был, когда он нас оставил. Так папаня твой и не удосужился сынка увидать, а ведь ты ему кровный. И я тебя уж столько лет не вижу. Не знаю, свидИмся ли ещё". А внизу добавлено: "Сыну Толе от мамы Оли". Присказку поменяла, - отметил про себя Титов.
- Анют, отпустишь меня? Мать надо навестить.
- Как не вовремя! Столько работы в квартире и денег на поездку нет – всё переезд сожрал.
- Что, совсем нет?
- Нет. Я зарплату получу через две недели, твои отпускные на ремонт квартиры ушли, получка у тебя только через месяц. Едва на еду до моей зарплаты хватит.
- Значит, у Симоновых надо в долг брать.
- Что ж так приспичило? Столько лет словом не вспоминал и вдруг – «поеду»! А мне одной с четырьмя бойцами по детсадам-школам мотаться и на работу успевать бегать.
- Чувство у меня нехорошее, Анют. Отпусти! С детьми попрошу Любу Симонову пособить. Если уж брать в долг, то – по полной. А, Анют?
- Да езжай уж, горемыка! – Анюта обняла мужа, прижалась щекой к его щеке, постояла так немного и пошла в комнаты, тешась мыслями об улучшении семейного быта. Дорога заняла 3 тягучих дня. Толику странно было думать, что он едет домой, к маме. Столько лет не был в этих краях! Добирался сначала поездом, потом автобусом, на попутке и пешком. Он преодолевал последние сотни метров, ведущие к родной избе. Шёл странной походкой - на ватных ногах, часто вздыхал полной грудью, пытаясь уменьшить волнение, и внимательно смотрел окрест. Деревня изменилась. Обветшали и вросли в землю избы. Все постройки были одного цвета - серого. Кое-где ровными грядками зеленели огороды, но в основном – запустенье, безрадостное, вымороченное отчаяньем. С трудом узнал родительский двор, подошёл к выгнутому дугой штакетнику, толкнул калитку, сделал несколько шагов и остановился посреди небольшого подворья. Огляделся, вздохнул ещё раз, прошагал к избе и ступил на порог. Дверь оказалась незапертой. Пересёк сени, торкнул ещё одну дверь и вошёл в сумрак горницы.
- Есть кто живой? – спросил тихо.
- А как же! Я живая, – раздался голос из чёрнеющего угла.
Глаза Толика скоро привыкли к темноте, и он различил фигуру старушки, примостившуюся на краю кровати. Толик опустил рюкзак на пол и присел на скамью.
- Из собеса будете? – спросила мать.
- Нет.
- Летом привезли чурки и уж месяц, поди, жду, когда кого-нибудь пришлют дров наколоть и в сени перенесть. В прошлом году зима была суровая, еле дотянула, думала, заиндЕвею в ледяной избе. Эту зиму ожидаем слабую, но без дров и мягкая зима жёстко постелит.
- Давайте я вам дров наколю! – вскочил Толик, неожиданно для себя назвав мать на «вы».
- Сиди. Успеется. Чай, по другому делу пришёл. Чует моё сердце, что снова про пенсию новость плохую принёс. Мародёрствуют начальники. Зачем у бабки последнее отбирать? Ить той пенсии с гулькин нос.
- А на что вы живёте?
- Из собеса шефствуют надо мной. Раз в неделю приезжают, хлеба и молока привозят. А когда и крупы с маргарином. Мало, конечно. Да я экономная, тяну до следующего раза.
- А чем вы занимаетесь?
- Что?
- Что делаете?
- Сижу.
- Нет, я не про то, что вы сейчас делаете. Я про то, чем вы каждый день занимаетесь?
- Сижу. Что ещё делать? А ты по какому делу, мил человек?
На чьём-то дворе залаяла собака, кудахтнула курица, а с неба донёсся гул летящего над облаками самолёта.
- Сын я ваш, Ольга Герасимовна.
- Сы-ы-ын? – недоверчиво протянула старушка, - Нету у меня сына. Пропал он.
- Как пропал?! Вот он я! Неужто не узнаёте? Посмотрите внимательно.
- А мне теперь, смотри не смотри – всё одно. Ослепла я.
- Как – ослепли?!
- А вот так. Не вижу ничего. В темноте живу. Уж приноровилась да и экономия опять же – электричество не трачу. Другие копеечку за свет отдают, а у меня копеечек нету. Правильно Господь рассудил: чем государству за электричество задалживать, лучше пусть бабка ослепнет.
- Я выйду на минутку?
- А чего ж, выходь.
Серо, неприглядно и бесприютно выглядело подворье. Подул ветер и охолодил слёзы на щеках взрослого сына. Завыл бы мужик, да постеснялся чувства оголить. Скрипнул зубами, вытер слёзы рукавом, высморкался в сторону и пошёл к сараю. Там увидел гору берёзовых чурок. В сарае отыскал топор, выбрал чурку покрупнее и начал колоть на ней дрова. С работой Толик справился к вечеру. Дрова ровнёхонько уложил по обе стороны просторных сеней, взял несколько поленьев и затопил печь.
- А кто вам печь растапливает? – так и не решаясь назвать старушку мамой, поинтересовался Толик.
- Сама. У меня на пальцах за столько лет короста от ожогов образовалась, так что если суну руку в пламя, то уже не больно.
Разогрели еду в кастрюльке, на раскалённые круги печной плиты поставили чайник. Ольга Герасимовна стояла у стола и накладывала в тарелки кашу. Толик окинул взглядом её фигуру и поразился изменениям. Худенькая, седая, беззубая старая женщина небольшого росточка с невидящими глазами, улыбающимся лицом и обожжёнными пальцами была его мамой. Он спинным мозгом ощутил течение времени, а взглядом успел уловить, как начинают блекнуть очертания фигуры матери, истекая в небытие. Толик мотнул головой, прогоняя видение, и спросил: - Я переночую у вас?
- А чего ж, ночуй.
После ужина отправился Толик в боковую комнатёнку на старый диван. Лампу не стал зажигать, нашарил в потёмках одеяло, лёг не раздеваясь, укрылся по самый подбородок и крепко задумался. Не затем он сюда приехал, чтоб каши отведать. Рассказать бы ей про все его заботы, про то, как гробился на тяжёлых работах – себя не жалел, чтоб лишнюю копейку иметь. Как прежде, чем жениться, денег поднакопил на шикарную свадьбу и на машину – завидным женихом был. Пахал по 2-3 смены, хватало и на оплату съёмных квартир, и на шубу молодой жене и на кооператив откладывал. На море семью возил и не раз. 4-х сыновей родил, и у каждого – своя сберкнижка на образование. Квартиру купил, наконец. Большую, просторную. Не просто так всё далось, ох не просто! Толик долго ворочался с боку на бок, вздыхал, кашлял, потом поднялся рывком и пошёл на ощупь в горницу. На фоне светлеющего окошка увидел чёрный силуэт матери, сидящей в своей извечной позе на краю кровати.
- Не спите?
- Не сплю.
Он набрал воздух в лёгкие, чтоб одним махом выложить матери историю своей трудной жизни, как вдруг услышал: - Я ить не знаю, кто ты такой. Помирать не боюся, смерти каждый день жду. Господь не торопится меня забирать, и ты Eго не торопи.
- Зря вы так. Ничего плохого я вам не сделаю... Как мне доказать, что я ваш сын?
- Зачем доказывать? Сыновья – они о родителях пекутся, так же, как родители о них когда-то пеклись. Я своего до самой армии пестовала. В 19-призвали его. Пока был в армии, письма писала, думами была с ним. А после армии приехал на два дня, с тех пор его не видела. Знаю, что сынок у него родился.
- Теперь уже четверо.
- Воон как! А ты откуда знаешь?
- Ольга Герасимовна, я, я – сын ваш. Помните, когда мне пять лет исполнилось, вы щенка подарили? Я его вечером с собой в постель брал, а вы ругались.
- Нет, не помню.
- А вот шрам на локте. Потрогайте! Вы обед готовили, а я под руками вертелся и нечаянно прислонился к раскалённой кочерге. Вы мне несколько дней маслом подсолнечным ожог смазывали.
- Не помню.
- А друга моего Ваську Петренко помните? Он тоже безотцовщиной был. С матерью его, правда, вы не ладили.
- Не помню, мил человек.
- Да как же так! Я и лицом на вас похож. Я – сын ваш, а вы – мать моя.
У старушки дрогнули веки. Толик не видел этого – темнота надёжно скрывала выражение лица матери.
- Однажды я влюбился. Мне было 14, а ей 12. Я привёл "невесту" домой и сказал, что теперь она будет жить с нами. Вы прогнали "невесту" и отлупили меня. Помните?... Неужели ничего не помните? Как же так – забыть такое!... Я заберу вас к себе.
- Нет, мил человек, мне здесь привычнее. Я хоть и слепа, но каждый уголок знаю, каждую стеночку. Ты иди спать, не тревожься. Утром поедешь.
Толик проснулся с больной головой. Не думал, что так повидается с матерью. Ожидал чуть ли не праздничной суеты, слёз радости, ахов и охов. А оно, вишь, как получилось. Не признала мать сына своего. Ехал сюда с тяжёлым сердцем, а уезжает с глыбой на душе. Что-то подсказывало ему, повиниться надо перед матерью, но не чувствовал сын вины своей перед нею, значит, и каяться было не в чем. От чая, предложенного матерью, отказался. Закинул рюкзак на плечо, подошёл к ней, не решаясь обнять на прощанье. Всматривался в морщинистое лицо и чувствовал, как слёзы наворачиваются на глаза.
- Поехал я.
- Доброго пути.
Ступил на подворье, оглянулся. В окне увидел мать. Лицо её казалось печальным. Отворил калитку и зашагал широким шагом по улице в сторону околицы. Чем дальше уходил от деревни, тем легче становилось. Чикнул воображаемым ножом, отрезал широкий ломоть жизненного хлеба, бросил его на дорогу и сразу же успокоился. "У каждого своя судьба. А мне семью поднимать надо", – сказал сам себе Толик и зашагал ещё быстрее, мысленно отправляясь туда, где был его дом, жена и дети.
Ольга Герасимовна долго сидела на своём посту у окна. Ни разу не шелохнулась. Наконец, произнесла: - Вот и свиделись, сынок. Успел-таки.
https://www.newwoman.ru/letter.php?id=1233
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 29 Мар 2018, 23:47 | Сообщение # 23 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Георгий Скребицкий
МАЛЕНЬКИЙ ЛЕСОВОД

Шёл я однажды зимой по лесу. Было особенно тихо, по-зимнему, только поскрипывало где-то старое дерево. Я шёл не торопясь, поглядывая кругом. Вдруг вижу - на снегу набросана целая куча сосновых шишек. Все вылущенные, растрёпанные: хорошо над ними кто-то потрудился. Посмотрел вверх на дерево. Да ведь это не сосна, а осина! На осине сосновые шишки не растут. Значит, кто-то натаскал их сюда. Оглядел я со всех сторон дерево. Смотрю, немного повыше моего роста в стволе расщелинка, а в расщелинку вставлена сосновая шишка, такая же трёпаная, как и те, что на снегу валяются. Отошёл я в сторону и сел на пенёк. Просидел минут пять, гляжу, к дереву птица летит, небольшая, поменьше галки. Сама вся пёстрая, белая с чёрным, а на голове чёрная с красным кантиком шапочка. Сразу узнал я дятла. Летит дятел, несёт в клюве сосновую шишку.
Прилетел и уселся на осину. Да не на ветку, как все птицы, а прямо на ствол, как муха на стену. Зацепился за кору острыми когтями, а снизу ещё хвостом подпирается. Перья у него в хвосте жёсткие, крепкие. Сунул свежую шишку в ту расщелинку, а старую вытащил клювом и выбросил. Потом уселся поудобнее, опёрся на растопыренный хвост и начал изо всех сил долбить шишку, выклёвывать семена. Расправился с этой, полетел за другой. Вот почему под осиной столько сосновых шишек очутилось! Видно, понравилась дятлу эта осина с расщелиной в стволе, и выбрал он её для своей «кузницы». Так называется место, где дятел шишки долбит. Засмотрелся я на дятла, как он своим клювом шишки расклёвывает. Засмотрелся и задумался: «Ловко это у него получается: и сам сыт, и лесу польза. Не все семена ему в рот попадут, много и разроняет. Упадут семена на землю. Какие погибнут, а какие весной и прорастут…». Стал я вокруг себя оглядываться: сколько сосенок тут из-под снега топорщится! Кто их насеял — дятел, клесты или белки? Или ветер семена занёс? Едва выглядывают крохотные деревца, чуть потолще травинок. А пройдёт тридцать-сорок лет и поднимется вот на этом самом месте молодой сосновый бор.
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BC%....B4.html
НА ПОРОГЕ ВЕСНЫ

Я отправился за город в лес поглядеть, заметно ли там приближение весны, а кстати и осмотреть места прошлогодних тетеревиных токов. День был солнечный. В городе сильно таяло. Но я все-таки захватил с собой охотничьи лыжи. Лыжи у меня не простые. Я привез их из экспедиции с далекого севера. Они широкие и снизу подбиты лосиными шкурами. На таких лыжах и в оттепель ходить можно-снег не подлипает. Приехал я на маленький полустанок, надел лыжи и прямо в лес. Хорошо, очень хорошо в эту предвесеннюю пору. Весна чувствуется еще только в воздухе. Солнце так и слепит глаза. Небо уже по-весеннему голубеет, и по нему, как льдинки в весенний разлив, плывут легкие белые облака. Небесный ледоход уже тронулся, а земля все еще покрыта льдом и снегом. Деревья и кустарники тоже в снегу, совсем по-зимнему. Я шел по лесной тропинке, глядя по сторонам. Вот и широкая поляна, где каждую весну токуют тетерева. А сколько здесь заячьих следов! Весь снег истоптан. Теперь зайцы нередко разгуливают днем: выскочат на полянку и греются на солнышке. А вот еще один признак приближающейся весны: около старого пня, на самом солнцепеке, уже виднеется крошечная проталинка. Я наклонился и стал осматривать этот первый клочок оттаявшей земли.
Он был покрыт серой прошлогодней травой. Среди нее копошились какие-то жучки. они проспали всю зиму под корой старого пня или под опавшими листьями и теперь выбрались на проталинку. Я сел на пень отдохнуть. Кругом было тихо, только где-то далеко в лесу, как серебряный колокольчик, звенел голосок синицы - первая песня весны. Вдруг среди лесной тишины я ясно услышал хруст снега и шум раздвигаемых веток. Кто-то с трудом продирался сквозь чащу березняка, но кто же это? Человеку незачем ходить по таким местам. Охотник, и тот не пойдет теперь в лес. Зимняя охота уже кончилась, а весенняя еще не началась. Наверное, какой-нибудь лесной зверь. Я затаился. Шаги и треск сучьев слышались все ближе, ближе, и вот из чащи березняка у самой полянки, показалось что-то большое, темное. Неужели лошадь? Зачем же она забрела сюда? Но в тот же миг я ясно увидел, что это не лошадь, а огромный лесной бык-лось. Он вышел из мелколесья на полянку и, высоко подняв голову, огляделся. Я сидел не шевелясь. Ветер дул в другую сторону, так что осторожный зверь не мог меня учуять. Как он был хорош, весь освещенный весенним солнцем, на белом фоне березняка! И какой своеобразный облик у этого лесного гиганта! Длинная горбоносая морда, огромные, как вывороченное корни, рога. Сам такой тяжелый, грузный, а ноги высокие, стройные, точно у скакового коня. И какая окраска шерсти-весь темно-бурый, а на ногах словно белые, туго натянутые чулки. Лось постоял секунду, чутко прислушиваясь. А потом широко зашагал по краю полянки, как-то странно поматывая головой, будто стараясь что-то сбросить.
Впереди густо росли несколько уже довольно толстых березок. Лось не обошел их, а полез между стволами, все так же мотая головой. И тут я увидел, что один рог у него отломился, да так и застрял, качаясь в ветвях. Из березняка лось вышел только с одним рогом и не торопясь скрылся в лесу. Вот почему он так странно мотал головой, словно стряхивая что-то. Это лесной великан сбрасывал свой головной убор. Только поздно что-то собрался, ведь лоси еще зимой рога сбрасывают. А за лето у них вырастут новые, больше прежних, с новыми отростками. По числу этих отростков охотники и узнают, сколько лосю может быть примерно лет. Когда лось совсем скрылся за деревьями, я подошел к березам, вытащил из ветвей сброшенный рог и, захватив с собой, отправился обратно на станцию. Весь народ сбежался глядеть на мою находку. Все охали, ахали, вертели лосиный рог в руках. А какой-то старичок пощелкал по нему пальцем и сказал: -Это лось зимнюю шапку ломает, с весной здоровается.
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BD%....8B.html
Николай Сладков
ИВОВЫЙ ПИР

Зацвела ива - гости со всех сторон. Кусты и деревья ещё вокруг голые, серые; ива среди них как букет, да не простой, а золотой. Каждый ивовый барашек, как пуховый жёлтый цыплёнок: сидит и светится. Пальцем тронешь - пожелтеет палец. Щёлкнешь - золотой дымок запарит. Понюхаешь - мёд! Спешат гости на пир. Шмель прилетел: неуклюжий, толстый, мохнатый, как медведь. .Забасил, заворочался, весь в пыльце измазался. Прибежали муравьи: поджарые, быстрые, голодные. Набросились на пыльцу, и раздулись у них животы, как бочки. Того и гляди, ободки на животах лопнут. Комарики прилетели: ножки горсточкой, крылышки мельтешат. Крошечные вертолётики. Жуки какие-то копошатся. Мухи жужжат. Бабочки крылья распластали. Шершень на слюдяных крыльях полосатый, злой и голодный, как тигр. Все гудят и торопятся. И я там был, медовые барашки нюхал. Вот отцветет ива, зазеленеет, потеряется среди других зеленых кустов. Тут и пиру конец.
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%B8%....80.html
Константин Ушинский
ХЛЕБ

Земля кормит человека, но кормит не даром. Много должны потрудиться люди, чтобы поле вместо травы, годной только для скота, дало рожь для чёрного хлеба, пшеницу для булки, гречу и просо для каши. Сначала земледелец пашет поле сохою, если не нужно пахать глубоко, или плугом, если пашет новину, или такое поле, что его пахать нужно глубже. Соха легче плуга, и в неё запрягают одну лошадку. Плуг гораздо тяжелее сохи, берёт глубже, и в него впрягают несколько пар лошадей или волов. Вспахано поле; всё оно покрылось большими глыбами земли. Но этого ещё мало. Если поле новое или земля сама по себе очень жирна, то навоза не надобно; но если на ниве что-нибудь уже было сеяно и она истощилась, то её надобно удобрить навозом. Навоз вывозят крестьяне на поле осенью или весною и разбрасывают кучками. Но в кучках навоз мало принесёт пользы: надобно его запахать сохою в землю. Вот навоз перегнил; но сеять всё ещё нельзя. Земля лежит комьями, а для зёрнушка надобно мягкую постельку. Выезжают крестьяне на поле с зубчатыми боронами: боронят, пока все комья разобьются, и тогда только начинают сеять.
Сеют или весною, или осенью. Осенью сеют озимый хлеб: рожь и озимую пшеницу. Весною сеют яровой хлеб: ячмень, овёс, просо, гречиху и яровую пшеницу. Озимь всходит ещё с осени, и когда на лугах трава уже давно пожелтела, тогда озимые поля покрываются всходами, словно зелёным бархатом. Жалко смотреть, как падает снег на такое бархатное поле. Молодые листочки озими под снегом скоро вянут; но тем лучше растут корешки, кустятся и глубже идут в землю. Всю зиму просидит озимь под снегом, а весною, когда снег сойдёт и солнышко пригреет, пустит новые стебельки, новые листки, крепче, здоровее прежних. Дурно только, если начнутся морозы прежде, чем ляжет снег; тогда, пожалуй, озимь может вымерзнуть. Вот почему крестьяне боятся морозов без снега и не жалеют, а радуются, когда озимь прикрывается на зиму толстым снежным одеялом.
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D1%80%....BE.html
Анатолий Буйлов
"ДЕРЕВЦЕ"

Высоко, высоко, на скалистом уступе, там, где растут лишь ягель да мох, видел я чудо-деревце. Забыть не могу. Не хочу забывать! Обхватив корнями глыбу холодную, жадно к солнцу тянулось оно. От холода корни связались узлами, тонкий ствол напряженно изогнут. Страшно ему! Тяжко ему! Но стоит оно, к солнцу тянется упрямо... Камень упал с вершины, жестко в деревце ударил, рану оставил глубокую.Вздрогнуло деревце, застонало от боли. Не с кем поделиться горем, слов утешения некому сказать. Что страшней такой судьбы?! Там лишь ветер злую песню напевает да кедровка пролетит случайно. Там снег кругом да мертвый камень! Может, в стужу жесткую снится деревцу роща зеленая, листопад золотой, птичья трель в тишине. Как-то люди шли под скалой, головы не подняв, любовались цветами, что росли на земле, не зная ветров и морозов... Грустно деревцу стало, обидно деревцу стало, ведь камень лопнул от мороза! Но стоит оно - к солнцу тянется упрямо. Самое красивое на свете деревце - наша северная березка.
https://litvek.com/book-re....-online
Константин Паустовский
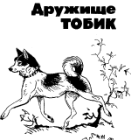
У писателя А.Грина был в тихом Старом Крыму невзрачный пёсик-дворняга Тобик. Пёсика этого вся улица, где жил Грин, несправедливо считала дураком.Когда соседской цепной собаке - лохматому Жоре - хозяйка выносила миску с похлёбкой, Тобик продирался в соседский двор через лаз в заборе, но к миске не подходил, страшась предостерегающего Жориного рыка.Тобик останавливался в нескольких шагах от Жоры, но так, чтобы тот не мог его достать, становился перед Жорой на задние лапки и «служил» долго и терпеливо. Так он привык выпрашивать кусочки еды у людей. Но Жора не давал ему даже понюхать похлёбки. За это стояние на задних лапках перед такой же собакой, как и он сам, люди считали Тобика дураком: зря, мол, старается. Точно так же Тобик выпрашивал кусочки еды у самого Грина, и всякий раз удачно. Хозяин был молчаливый и очень добрый человек. Обращаясь к Тобику, он говорил ему: «Дружище!» Косясь на Тобика, Жора рычал и давился. Он торопливо лакал похлёбку, а глаза у Тобика мутнели от тоски напрасного ожидания. Иной раз даже слёзы появлялись у него на глазах, когда Жора кончал есть похлёбку и тщательно, до блеска вылизывал пустую миску. После этого Жора ещё долго обнюхивал землю вокруг миски - не завалилась ли там какая-нибудь косточка.
- Ну и дурак ваш Тобик, - злорадно говорили Грину соседи - Нет никакого соображения у этой собаки.
На это Грин спокойно отвечал соседям: - Не дурак, а просто умная и вежливая собака. В спокойствии гриновского голоса слышался нарастающий гнев, и соседи, всю жизнь привыкшие лезть в чужие дела, уходили, пожимая плечами, - лучше подальше от этого человека. Я увидел Тобика после смерти Грина. Он ослеп, как говорили, от старости. Он сидел на пороге глинобитного белого дома, в котором умер Грин, и солнце отражалось в его жёлтых беспомощных глазах. Услышав, как скрипнула за мной калитка, он встал, неуверенно подошёл ко мне, ткнулся холодным носом в ноги и замер. Только старый и пушистый его хвост помахивал из стороны в сторону и поднимал белую известковую крымскую пыль.
- Давно он ослеп? - спросил я. - Да после смерти хозяина. Всё тоскует, всё ждёт.
Я ожидал, что ответ будет именно таким, так как знал давно, что единственные живые существа на земле, которые умирают от разлуки с человеком, - это собаки. Только один раз за всю жизнь я видел действительно глупую собаку.
Это было под Москвой в дачной местности Переделкино. Молодой рыжий сеттер лаял на шишки, падавшие с вершин сосен. Дул сильный, порывистый ветер, и чем сильнее он дул, тем всё чаще падали шишки и тем всё больше разъярялся сеттер. Он свирепо гонялся за шишками, грыз их, мотал головой и отплёвывался. Потом он выбежал за забор дачи в чистое поле, где не было сосен и вообще никаких деревьев и никакие шишки не падали. Он сел среди поля, начал лаять на небо и лаял до рассвета, пока не охрип. По мнению одного поэта - знатока астрономии, он лаял на созвездие Малой Медведицы. Очевидно, он полагал, что все шишки сыплются из этого созвездия.
Выражение «собака - друг человека» безнадёжно устарело. У нас нет ещё слова, которое могло бы выразить одновременно самоотверженность, смелость и ум - все те великолепные качества, какими обладает собака. Я точно знаю, что человек, избивающий или мучающий собаку, - отпетый негодяй, даже если собака его за это простила. Не знаю, как вы, а я испытываю величайшую нежность к собакам за их ласковость, за бурные проявления радости и обиды. Невозможно удержаться от смеха, когда видишь, как какой-нибудь Бобик бешено мчится со всех ног, чтобы догнать и облаять самое ненавистное для него изобретение человека - обыкновенное велосипедное колесо. Любите собак. Не давайте их никому в обиду. Они ответят вам троекратной любовью.
https://online-knigi.com/page/215789
Даниил Хармс
"РЫБИЙ ЖИР"

Одного мальчика спросили:
- Слушай, Вова, как ты можешь принимать рыбий жир? Это же так невкусно.
- А мне мама каждый раз, как я выпью ложечку рыбьего жира, дает гривенник, - сказал Вова.
- Что же ты делаешь с этим гривенником? - спросили Вову.
- А я кладу его в копилку, - сказал Вова.
- Ну, а потом что же? - спросили Вову.
- А потом, когда у меня в копилке накапливается 2 рубля, - сказал Вова, - то мама вынимает их из копилки и покупает мне опять бутылку рыбьего жира.
https://skazki.rustih.ru/daniil-xarms-rybij-zhir/
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 15 Май 2018, 22:09 | Сообщение # 24 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Май. Белые ночи Санкт-Петербурга

И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
А.С. Пушкин "Медный всадник"
Александр Куприн
БЕЛЫЕ НОЧИ
Слушай: теперь я расскажу тебе о белых ночах далекого севера.

Все время они вспоминались мне здесь, на юге, среди этой чрезмерной, пышной и декоративной природы, вспоминались, как иногда сквозь туман многих годов вспоминается робкий поцелуй холодных девических уст, такой быстрый, трепещущий, пугливый поцелуй в полутьме вечера, у окна, заставленного цветами, за занавеской, которую слабо надувает ветер. Здесь, на юге, были изумительные ночи! Помню я одну из них, такую черную, точно небо и земля были покрыты черным бархатом. Какая-то сдержанная страсть, какое-то жгучее желание наполняло воздух и бродило между деревьями и подымалось из травы в пьяном запахе цветов. И казалось, что кто-то шепчет в темноте непонятные безумные слова, чьи-то раскрытые, опаленные зноем губы приближаются к лицу, чье-то тихое, жаркое дыхание касается щеки и шевелит волосы на висках… И ни одной звезды на небе, закрытом тяжелой низкой сплошной тьмой!
Были сказочные лунные ночи с небом, одетым в голубой атлас, и с морем, одетым в синий атлас, залитые сияньем золота и дрожащим блеском серебра, праздничные ночи, сопровождаемые сладостной музыкой волн. Были яркие, бурные ночи, прекрасные и страшные, как лицо разгневанного ангела. Были томительные, странные ночи, с беспокойным ветром, напрягавшим нервы, с оранжевым светом в белых облаках, набегавших на луну, с мечущейся травой и качающимися деревьями. Как часто тогда грезились мне петербургские белые ночи… Белые, мистические, бессонные ночи! Нет возможности описать их нежного, тревожного, болезненного очарования. Их странное томление начинается с восьми, девяти, одиннадцати часов вечера. Ждешь ночи, сумерек, но их нет. Занавески на окнах белые. Тянет на улицу… Полночь. Час ночи. На улице много народа. Но кажется, что все держатся около стен, идут осторожными, уклончивыми шагами, говорят вполголоса. Точно вот-вот в этом фальшивом полусвете, в этом полусне откроется над городом какая-то старинная тайна, и все предчувствуют ее и боятся ее. Небо распростерлось над землей - однотонное, мокрое, молочно-белое. Ясно издалека видны фигуры людей, даже их лица, видны вывески магазинов, видны кроткие ресницы у спящих извозчичьих лошадей. Широкая река, такая спокойная в своей темной гранитной раме. Вся она как жидкое белое молоко. Только редкие ленивые морщинки на ней отливают в изломах синим цветом. Все - и небо и вода - похоже на игру перламутра, с его неуловимыми розовыми и голубыми оттенками.
И вот я вхожу в широкую уединенную улицу. Насколько хватает глаз, на ней нет ни одного человека. Шаги мои будят звонкие отзвуки. Налево, направо - огромные здания, в четыре, пять этажей. Но ни в одном окне нет огня, только бледный свет неба плоско блестит в черных стеклах, которые похожи теперь на ослепшие глаза. Громадный дом протянулся от переулка. Слепые окна в пять рядов. Сколько людей живет здесь? Триста, четыреста человек? Мне кажется, я вижу, как они лежат сверху донизу и вдоль, один над другим, лежат на спине, на боку, с раскрытыми ртами, терзаемые нездоровыми сновидениями, лежат так близко и так далеко друг от друга! Кто знает, какие злые шутки есть в распоряжении у судьбы? Вот, может быть, два человека, которые всю жизнь ищут, алчут друг друга, лежат теперь рядом, голова к голове, ноги к ногам, разделенные только четвертью аршина стены? И может быть, никогда в жизни им не суждено встретиться, узнать друг друга, напоить взаимную жажду светом и счастьем. Триста человек спят и грезят в этом каменном чемодане, друг над другом. О, какой ужас скрывается в этой мысли! Мокрые белесоватые здания. Ни души на улице. Жуткая, необычайная греза овладевает моим воображением…
Кто знает, чем кончится длинная история нашей планеты, этой крошечной песчинки, несущейся по таинственным спиралям в какую-то страшную, безвестную и бесконечную пропасть? Несомненно, настанет время, когда вымрут последние жалкие, истощенные люди, дрожащие от бессилия и от того, что они уже осмелились заглянуть в бездну. Не все ли равно, отчего они погибнут: от холода, от зноя, от болезней, от безумия, от войны? Но здания переживут их, здания, годы которых - столетия. И вот будут проходить дни и ночи, и опять дни и ночи, и опять, и опять… И по ночам будут стоять молча огромные дома, и церкви, и статуи с незрячими, устремленными вперед глазами, и музеи, и театры… И бессонный свет белых ночей будет таинственно ласкать бронзу и камень и будет дробиться в уцелевших стеклах мертвых, слепых окон. И ничьи, ничьи одинокие шаги не разбудят звонкого ночного отзвука. Я выхожу на широкую, длинную улицу. Люди идут, сгорбившись, осторожно, крадучись. Точно в старинной сказке, у них нет тени, и это мне кажется страшным. Вот намазанное женское лицо. Беспощадно выступают круглые, грубо почерненные брови, пудра на дряблой коже, рдеющий пунцовым румянец на щеках. Не все ли равно! Ведь и она умрет и утучнит гнилью своего тела равнодушную землю. Но здания переживут и ее, и нас, и наших правнуков. И когда на земле никого не останется, опустевшие здания будут загадочно в тишине и полусвете белой ночи глядеть своими мрачными, слепыми глазами. Наступает утро. В небе и в широкой реке зажигаются глубокие, но не яркие цвета, точно в драгоценном опале - нежные, переливающиеся цвета: розовый, голубой, лиловый.
190.4
http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_1720.shtml
Константин Паустовский
БЕЛАЯ НОЧЬ

Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро. Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер. На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света. Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, качая куски сосновой коры. На берегу, должно быть, в каком-нибудь древнем погосте, сторож пробил на колокольне часы - двенадцать ударов. И хотя до берега было далеко, этот звон долетел до нас, миновал пароход и ушел по водной глади в прозрачный сумрак, где висела луна. Я не знаю, как назвать томительный свет белой ночи? Загадочным? Или магическим? Эти ночи всегда кажутся мне чрезмерной щедростью природы - столько в них бледного воздуха и призрачного блеска фольги и серебра. Человек не может примириться с неизбежным исчезновением этой красоты, этих очарованных ночей. Поэтому, должно быть, белые ночи и вызывают своей непрочностью легкую печаль, как все прекрасное, когда оно обречено жить недолго. Я впервые ехал на север, но все казалось мне здесь знакомым, особенно груды белой черемухи, отцветавшей в ту позднюю весну в заглохших садах. Много этой холодной и пахучей черемухи было в Вознесенье. Никто здесь ее не обрывал и не ставил на столы в кувшинах. Может быть, потому, что она уже осыпалась...
http://rulibs.com/ru_zar/prose_su_classics/paustovskiy/2/j43.html
Даниил Гранин
НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

...И тут вдруг он перестал слышать, что говорит Усанков. Басовитый раскатистый голос отдалился, неразличимо вошел в звук работающего мотора. Произошло это, когда они свернули на Фонтанку, въехали в белую ночь. Оказывается, в городе уже наступили белые ночи. Между гранитными стенами набережных покоилась сияющая полоса воды, она была светлее, чем небо. Вода была серебряно-гладкой, неподвижной, от нее шел свет. На набережных никого. Теплынь. Все замерло, только на мостах бесшумно перемигивались светофоры. Зелень в этом году распустилась рано. Лета еще не было, а было то счастливое время, когда все согревается - дома, реки, земля; когда все очистилось, отмылось от зимы и приготовилось...
Как всегда, в пору белых ночей Сергей Игнатьевич испытывал душевную сумятицу, так бывало и в молодости, и сейчас, - тоска оттого, что вот еще одна прекрасная весна уходит, и печаль и восторг от этого негаснущего высокого неба, когда свет льется не поймешь откуда, легкий, белесый. Все украшения, выступы на фасадах проступают четко и без теней. Каждая мелочь как будто специально высвечена. Красота эта не могла быть просто так, она должна была чему-то соответствовать в жизни Сергея Игнатьевича Ильина, но ничего в этой жизни не происходило. Жизнь его размеренно катилась, подрагивая на стыках лет, и давно уже пропускала мимо ушей эти неясные призывы. В студенческие годы он, не будучи в силах заснуть, долго бродил по светлым набережным, выходил на Фонтанку, на Неву, встречал таких же одиноких, растревоженных белыми ночами прохожих. Ждал, что с ним что-то произойдет. Кого-то он встретит, кто-то обратится к нему, что-то не поймет, или откроется что-то поразительное. Ничего такого не произошло, и теперь уже ясно, что ничего не произойдет. Ему еще не было пятидесяти, когда-то молодое студенческое время выглядело смешным, теперь же - милым, романтичным. Все годы оно отдалялось, стиралось из памяти и лишь теперь остановилось, даже стало приближаться. "Признак старости", - подумал Сергей Игнатьевич и поехал медленнее, чтобы Усанков тоже мог полюбоваться белой ночью. Усанков был московский начальник и приятель Сергея Игнатьевича.
Только что они увлеченно обсуждали, как лучше употребить материалы, полученные сегодня Усанковым от бывшей жены их шефа. С мстительной памятливостью она сообщила, какие он брал подарки, что преподносил другим, какие ковры, шкатулки, отрезы; не стеснялся брать деньгами. Глухие толки о Ф.Ф. Клячко ходили давно, прежде всего он славился своим невежеством. Дошел до замминистра под девизом: "А зачем мне это нужно?" Ничего нового не пускал, из-за него КБ Ильина год за годом латало старую технологию, кидало мелочевку, верняк. Его терпеть не могли, и боялись, и поносили заглазно. Единственным, кто решился на борьбу с ним, был Усанков. Действовал он скрытно, со всеми предосторожностями, поскольку Клячко был хитер и безжалостен. И вот подвалило, повезло. Усанков не мог успокоиться прохвост, лицемер, ловчило, хапуга, жулик... Немалый свой набор Усанков обогатил еще словарем бывшей супруги шефа, которая дала подробные определения его мужским качествам, а также гигиеническим сведениям, накопленным за годы совместной жизни.
- Копаться в этой грязи противно, - признавался Усанков. - Но ведь иначе не достанешь Клячко. А здесь его ахиллесова пята, здесь мы его ухватим. Сергей Игнатьевич кивал, говорил "надо так надо", "ну и ну, кто бы подумал, вот ведь подонок", но все это машинально, как машинально следил за дорогой, переключая скорости. Чувства же его были заняты этими светлыми пустынными улицами. Ему хотелось остановиться, побыть в тишине, услышать, как течет вода... Вместо этого он должен был вникать в борьбу, затеянную Усанковым, быть на его стороне, сочувствовать ему. Окна верхних этажей слепо блестели. Нигде не горел свет. Женщина в платке стояла на одном из балконов и смотрела в небо. Вдруг он подумал, что с тех пор как ему осточертело спорить с министерством и он махнул рукой на свою работу, перестал читать литературу, его все чаще отмечали премиями, репутация его как исполнительного руководителя поднялась, уже год как его назначили начальником конструкторского бюро. Получалось, что наверху довольны его безразличием. Карьера безразличных - он усмехнулся и сказал:- А вот это Шереметевский дворец.
- Да, да, замечательно, - подтвердил Усанков с некоторым недовольством. - Помнишь, как наш сопроматик говорил: у нас теперь будут не белые ночи, а черные дни! Так и я...
На площади у цирка неба стало больше. Стенки голубых фургонов были разрисованы пумами, тиграми.
- Ты что, меня не слушаешь? Имей в виду, я на тебя ссылаюсь, тебя вызовут.
- Я что, я пожалуйста, - сказал Сергей Игнатьевич. Получилось равнодушно, и он горячо добавил: - Ты молодец, давно пора кончать с ним.
Машина выехала на аллею к Михайловскому замку. Впереди тускло чернела огромная фигура бронзового Петра. Постамент растворился, исчез на фоне серого камня дворца, и всадник шествовал в воздухе, а за ним двигался словно бы строй, плотная масса полков, и тоже над землей. Призрачное освещение создавало этот эффект или что-то другое, Ильин сбавил газ... Когда-то, в школе, у них преподавал историю Тим Тимыч, он возил их сюда; этот памятник Петру нравился ему больше Медного всадника, он показывал барельеф, где рядом с Петром изображен Алексашка Меншиков, единственный ему почет, рассказывал происхождение надписи, про отношения Павла с матушкой своей, Екатериной... У Тим Тимыча история состояла из неразгаданных происшествий, заговоров, похищений. Вчерашний фаворит куда-то исчезал, разумный проект вдруг рушился, секретные бумаги пропадали... Сергей хотел стать историком. Долго школьная эта мечта сопровождала ею, вспомнив о ней, он попробовал представить несостоявшийся вариант своей судьбы. Историк... архивы... документы... связки бумаг... Неведомая жизнь историка показалась куда интересней унылой вереницы прожитых лет, которые потрачены на расчеты, проекты, согласования. Большая часть впустую, пухлые тома, что пылятся во тьме шкафов. Списаны по акту, неосуществленные, отмененные, не вошедшие, ныне ни на что не годные... А собственно, почему он не решился тогда, после школы? Отец не разрешал? Тетка отговаривала?..
- Тут все средства хороши, - сказал Усанков. - Дело-то правое. Грех не воспользоваться случаем.
Замок приближался, наверху багровый, внизу серого гранита, насупленно-неприступный. Мостовая, выложенная диабазом, глянцевито блестела. Черный этот поток вытекал из мглы ворот, спускался к памятнику.
https://libking.ru/books....ek.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 05 Июл 2018, 23:30 | Сообщение # 25 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Евгений Гагарин
КОРОВА
По лесу шла баба с рукой на перевязи. На работе она порубила руку и шла теперь на деревню к фельдшеру. Была она женой кулака и находилась, вот уже второй год, в лесу на лесозаготовках, вместе с девкой-дочерью. А мужа ее и старшего сына сослали куда-то в Туркестан, в такое место, имени которого она не могла бы и выговорить; считала только, что было оно где-то на краю света, там, где “пустыни зыбучие и пески горючие”, как слыхала в сказках в детстве. Был у нее еще один сын, но когда выселяли их из деревни - мужа в тюрьму, а ее в лес, - то увезли мальчика в детский дом, и прошлой весной он умер там, девяти лет, от скарлатины. Она поспела из леса тогда только уж к похоронам. Вышла она в деревню рано утром; над землей был туман, а небо все в тучах. Стояли последние дни августа, бабье лето. На севере лето ломается разом об одну ночь: в середине августа еще жара, густо налитые зноем дни с грозами, рожь еще отдает зеленью, а через неделю небо вдруг сильно бледнеет, подымается, дни идут все еще погожие, но уже прохладные, воздух пронизан волокнистым серебром; надо спешить убирать урожай — близки осень, заморозки. Все время стояла хорошая погода, и баба, выйдя утром из барака, подумала с испугом: неужто осень пошла, не может того быть!..
Ближе к полдню прямо над головой небо стало разводить. Как крестьянка, она знала, что теперь прояснит. Если разводит с краев, то нельзя дать поруки, а если к полдню над головой, то непременно разыграется, будет вновь погоже. Синий просвет рос на глазах, тучи растаяли почти мгновенно, и мир, весь в росе, как в слезах, заиграл в солнечном свете. Бог ведро дает, подумала женщина с радостью. Время было самое горячее для крестьянина, каждый погожий день дорог. Но потом она вспомнила, что ей, в сущности, ведь все равно - стояло ведро или непогода, ибо она уже не крестьянствовала больше, урожаю не снимала, и вообще, вся жизнь ее была уже не та, что раньше. И радость ее перешла опять в ту неустанно сосущую боль, что носила она в себе эти два года, от которой спасеньем был лишь сон или немое оцепенение - ходить, потому что ноги еще ходят, делать, что прикажут, и не думать, не думать!.. Она приучила себя уже к этому состоянию и в лесу не выходила из него почти никогда, как и все, кто был там вместе с нею. Край был глухой, дальний, лежал на берегу большой северной реки, покрытом еще вековыми лесами, и до революции текла здесь патриархальная жизнь, с обрядами и обычаями, нерушимыми за столетия; на старину эту съезжались смотреть даже иностранцы. А теперь стал он местом, вероятно, самых жестоких страданий, какие только творились на земле “во имя человеческого счастья”, и терпели эти страдания покорно сотни тысяч людей самых разнообразных племен и наречий. Были пригнаны в эти леса русские мужики с чернозему, и хохлы с Волыни, и казаки с Дону, черемиса и мордва, и какие-то совершенно дикие азиаты в шкурах, будто из кочевых времен, не понимавшие ни слова по-русски, не видавшие ни реки, ни лесу…
До деревни оставалось около трех верст. Баба шла по большой дороге, как корка спекшейся от долго стоявшей жары. Были уже знакомые с детства места: миновала она Чертов бор, которым пугали ребят, чтобы они не забегали далеко, за ним Маслянику, где тучами росли маслята; еще две болотины, бор, а там начнутся поля, станет деревню видно. Она шла не спеша, наслаждаясь тишиной и одиночеством, отдыхая от барачного шума, что окружал ее каждый день, и на душе у нее было легко, несмотря на то, что порубленная рука болела и сама она боялась наказания за самовольный уход с работы. Она не была, впрочем, даже уверена, не своей ли волей порубила руку, такая тоска взяла ее вчера по деревне, по родным местам, по могиле сына, такая потребность сходить туда и вместе с тем глухая надежда, нет ли письма на почте от мужа и не переменилось ли что-нибудь?.. За самовольную порубку руки, она знала это - грозила тюрьма. Что же, не она одна!.. Многие так делали. Пошлют, может, к мужу?.. - пришло ей радостно в голову. А как же тогда Анютка? - подумала она тотчас же с испугом о дочери. Да ведь я не нарочно, не самовольно порубила!..
На плечах у нее был рваный коричневый домотканый зипун, на ногах лапти и онучи, перевитые веревкой, а на голове ситцевая ширинка, вся в копоти. Из-под ширинки выбивались уже седеющие волосы, а лицо было еще молодо, только посерело все, как после болезни, и глаза совсем выцвели. Несомненно, она была сильна и красива в свою пору - и еще не так давно - красотой северных русских баб с их крупным белым телом, льняным цветом волос, светлой голубизной глаз, с румянцем на щеках, ярким, как раздавленная малина. А теперь сквозь испитую кожу сильно проступали синие вены, столь туго налитые, что, казалось, они вот-вот лопнут. Порубленная рука на перевязи была укутана в грязную тряпицу и походила не на руку, а на грудного младенца в пеленках. Скоро начался последний бор перед деревней. Старый, вековой, его берегли почему-то, не рубили. Сосны давно уже перестали расти, вершины их поседели, стволы неровно раздались в ширину, кора полопалась, надулась жилами, как старческая кожа; с ветвей свисали зеленоватые космы. Ребята из деревни любили этот бор. Водилось в нем, среди белого мха, каждое лето много белых грибов, всегда целыми выводками, как будто отец семейства вышел с ним на прогулку. И сейчас она вспомнила заветные места, отклонилась от дороги, и действительно, там стояли белые грибы - целые выводки! Она ломала и клала их в корзинку, каждый раз радуясь удаче, и чувство сосущей тоски понемногу утихало, как утихает на время зубная боль. Идти было мягко, ноги отдыхали во мху, а бор стоял, весь пронизанный светом, духом смолы, подгоревшей хвои, теплой земли, совсем как в детстве. Деревья глухо вздыхали, будто во сне, а по верху катился тихий, успокаивающий гул, какой слышишь, когда припадешь к земле ухом. Иногда выплывали между дерев зеленые полянки, сплошь залитые светом, и становилось особенно грустно при виде их, и невероятно, что лето уходит, так противоречил этой мысли их радостный свет. Баба шла под тихим гулом, под серыми лапами сосен, то по мху, то по рыже-розовой хвое, накалившейся до того, что тепло достигало ноги даже сквозь лапоть. Ей стало жарко, она скинула ширинку с потного лба, обнажив простое и смиренное крестьянское лицо, и с виду казалось, вот идет русская баба домой, утомленная работой. Ей и самой так иногда казалось. Она думала, что бор скоро кончится, пойдет березовая рощица, а перед тем овраг, в овраге - талец с ключевой, студеной “святой” водой, где можно напиться.
Лес обрывался на крутом берегу оврага; из песчаных боков торчали старые корни, как лапы чудовищ; две сосны уныло застыли над бездной с обеих сторон, сплелись друг с другом, будто в предсмертном объятии, перед тем как рухнуть. Она спустилась осторожно в низ оврага, осыпая песок. Здесь было сыро, студено, тенисто; небо отсюда казалось темней, ниже, стояло, как крыша. Тропинка вела к тальцу под старой одинокой березой. Уже издалека было слышно, как бурлила вода, а сам талец был на удивленье маленький, как будто здесь только глубоко завязла ногой лошадь. Под березой лежал ковшичек из бересты. Баба припала на колени, зачерпнула дополна ковшик и отпила несколько глотков, обжигаясь холодной и чистой водой. Родник этот считался святым, и она не чувствовала в воде ни вкуса болота, ни вкуса трав, а казалось ей, что пила она некую животворящую влагу, исходившую из заколдованных недр земли, где великий холод и великая тайна; самое бурление воды в темном колодце наполняло ее некоторой жутью, будто ворчал глухо кто-то таинственный под землею. И по мере того как она пила, словно свершая таинство, рождалось в ней знакомое чувство успокоенности и надежды. Выпив до дна, она утерла рукавом губы и положила ковшик обратно на старое место: он был еще совсем цел, а будь он ветхим и распадись после питья, надо было тут же сделать новый из бересты - так полагалось испокон веков.
Березовая рощица была уже вся золотая. Кое-где среди золота выбивались зеленые, нежно-перистые листья и спело-красные гроздья рябины; издалека казалось, что стаи птиц кружатся, широко раскинув крылья, над яркими цветами. И была такая поразительная, старо-знакомая и грустная красота в сочетании этих точеных листьев рябины, ярко-красных ягод, трепетного золота и бирюзы неба, во всем этом осеннем умирании, - что сердце ее горестно рванулось от желания умереть вместе. А за рощей лежали поля, колосилась еще не снятая рожь, мотаясь во все стороны, тускло щетинилось жниво, по которому недавно проехала телега, оставив двойную серебристую колею; розовела глина невозделанных полос. Вдали на горбу паслись пестрые коровы, люди работали на полях, еще дальше сверкал в нежарком солнце крест церкви над домами и лилась, неисповедимо куда, светящаяся Божья даль!.. Это был ее старый мир, где она родилась и росла, где прошли все счастливые годы.
Господи, до чего хорошо! - вздохнула она. Тропка, утоптанная, как камень, вилась меж полос к деревне. Баба пошла по ней. Сбоку по дороге лошадь везла воз со снопами, наверху сидел парнишка, а рядом шел мужик - все было, как раньше. Радость охватила все ее существо, та радость и волнующая тяга к крестьянскому труду, что знавала она прежде об эту пору, когда кончался урожай, доваживали последние снопы на деревне, пекли пироги, кормили, поили в последний раз наемных жнецов; девки и парни пели и плясали до самого утра. Она шла, полная счастья, как будто текли на самом деле те старые дни, и иногда, словно пробуждаясь, спрашивала себя недоуменно - да точно ли все это в прошлом? И не верила, не хотела верить, столь сильны были власть земли над нею и эта тяга к мерному течению времени, когда покос переходит в жатву, жатва в молотьбу; все так размеренно, ясно и просто. Но, оглядываясь, она замечала с испугом, как много запущено полос, оставшихся в прошлом году без засева, и спрашивала себя с тоскою: Боже ты мой, неужели все прошло? Да что же это такое?
Бабы в красных платках копали картофель. Они были незнакомы ей, слыхала - пригнали в колхоз работниц с фабрик из города.
- Бог в помощь! - Она поклонилась по старой привычке. Бабы подняли головы и захохотали, не ответив. Она уже привыкла к тому, что на нее или злобно кричали, или, в лучшем случае, не отвечали, и прошла смиренно мимо. На минуту подумала только с горьким недоумением, зачем нужно было присылать сюда на их место этих фабричных девок, не умевших толком даже копать картофеля, не то что жать или косить, и не в том ли все дело и вся беда, что кто-то теперь неумело расставлял работников. Но так как она была непривычна думать, то не могла довести свою мысль до конца. Всю свою жизнь, в сущности, она привыкла подчиняться чужим воле и разуму, сначала родителям, потом мужу, а после и детям, а главное, какому-то нерушимому распорядку, благодаря которому прежде всегда было ясно, что и когда нужно было делать, будь то зима или лето. Давал этот распорядок некто по имени Бог - так учил поп в школе, - и представляла она Бога хотя и всесильным и всемогущим, но отнюдь не непостижимым существом, а скорее мудрым Хозяином всей жизни, а землю - Его хозяйством, которое он искусно вел и всегда видел, когда чего-нибудь недоставало. И если что-нибудь в хозяйстве шло неисправно, то надо было просто обратиться к Хозяину и просить, смотря по тому, что надо - дождя или ведра, или помощи в болезни, или детей. Было у нее, правда, с детства смутное представление и о другом Боге, Боге Отце, страшном и грозном, но он стоял где-то за Сыном и за Его Матерью, за святыми угодниками, и обращаться к нему, в сущности, не надо было: люди не имели до него никакого касательства вплоть до самой смерти. А теперь все шло криво, не так, как надо, точно Хозяин не видел больше недостатков в хозяйстве: пригнали фабричных девок на поля, а их самих угнали в лес или пустыню, и вот - избы заколочены, скот падет, поля лежат под паром. Сколько запущено земли, - она оглянулась с тоской кругом, - лежит зря, ничего не родит, как бесплодная баба. И опять ей казалось, что Хозяин должен бы увидеть, в конце концов, непорядки и направить все по-старому…
Мышь перебежала через дорожку с одной стороны на другую, баба очнулась и услыхала, что ее кто-то кличет: - Куда срядилась, Степановна? То была прежняя соседка из деревни, Акулина. Муж Акулины раньше все ходил по фабрикам сезонным рабочим; семью ее теперь не разорили, а приняли в колхоз. Акулина тоже копала картофель.
- Бог в помощь! - опять поклонилась баба.
- Спасибо на добром слове. - И Акулина поклонилась: - Куда срядилась? Что с рукой - аль досадила?
- Дрова секла, засекла руку. К фельдшеру хочу. - Она хотела спросить, не слыхала ли Акулина чего нового, нет ли вестей от мужа, письма на почте, но не решилась из боязни узнать, что нового ничего нет. Ей хотелось по-прежнему твердо верить в перемену.
- Почернела ты вся, - сказала вдруг Акулина. - Всё печалуешь, верно? А не стоит, не стоит! Нигде нету жизни, все решили, везде горя.
И Акулина, как всякая крестьянка, стала жаловаться на свои невзгоды, которые ей только и были близки к сердцу, совсем забыв про встречу с соседкой, про чужое горе… Баба и сама не ожидала от Акулины сочувствия, даже слышала в словах ее фальшь и злорадство или упрек за прежнее довольство, хотя многодетную Акулину эту, чей муж беспросветно пил, она не раз выводила из нужды, и все-таки хотелось ей хоть кому-нибудь облегчить душу, рассказать про горькую участь, от кого-нибудь получить жалостливое слово.
- Иссохла вся, - сказала она. - Руки и ноги - что батожки. Все плачу. За что терпим? Всю жизнь работала, не покладая рук, недосыпала, недоедала…
- Э, девка, что вспоминать. Говорю - нигде жизни нету… А терпи - две жизни жить не будем, а одну как-нибудь проскитаемся. Акулине было совершенно все равно, и отвечала она, думая больше о себе. - Обыкнешь как-нибудь… Дело твое не первая молодость…
- Да я што, одна дорога в могилу. Девка на глазах гибнет.
- А кого Бог любит, того наказует, - продолжала Акулина, не слушая. - На сердце темно, а на душе добро… как поп, говорю, нигде жизни нету, - прибавила она, на этот раз, пожалуй, искренне, ибо девками вместе они играли, плясали, водили хоровод, и ей вспомнилось это все как-то вдруг, разом…
Акулина вытащила лопату и вывалила картофель. Вид этого действия был столь привычен, движение столь знакомо, что у бабы защемило на душе от тоски по крестьянской работе; она так и чувствовала лопату в руках, и вновь родилась в ней какая-то смутная надежда.
- Бог в помощь! - Она поклонилась и пошла.
- Живи хорошо, - ответила Акулина. - Заходи в избу вечером, - хотела она добавить, но не посмела, ибо за приют кулачки самой можно было угодить в ссылку. А соседка хотела было попроситься переночевать, но тоже не решилась, зная, что никто ей теперь не рад.
К кладбищу нужно было свернуть вправо; оно лежало одиноко в рощице в полверсте от деревни. Между ним и деревней тянулись длинные, пустые поля, разделенные межами, обросшие седой, короткой травой, как щетиной, и пыльною полынью и вереском. Здесь никто никогда не сажал, не сеял; кто и зачем разделил эти поля межами, в деревне не знали. Возделывать эту землю не полагалось, ибо лежала она вблизи кладбища и не годилась на потребу живому человеку. Боже упаси хлеб на ней ростить иль даже ягоды сбирать! Из деревни шла по полям дорога, посередине разветвлялась, один рукав вел к людскому кладбищу, а другой на майдан в бору, куда свозили падший скот. Баба повернула на кладбище, не заходя в деревню, и вышла прямо на росстань посередине поля. Был уже полдень, но солнце пекло нежарко. День выдался уже осенний, успокоенно-прощальный, весь просветленный: лучилось небо цвета белой парчи, лучился стеклистый воздух, остро пахнущий остывающей землей, полынью, лучилась река вдали на лугу, и благоговейная тишина стояла кругом, как будто уходила чья-то душа к небу.
“Божья благодать!” - подумала баба с легкой грустью. Вдоль ограды лежала золотая кайма березовых листьев, сама ограда во многих местах завалилась, овцы ходили по кладбищу, раньше этого не допустили бы. У кладбищенских ворот стояла одинокая старая сосна с черной вершиной. Необыкновенно сильно это дерево напомнило ей о прежней жизни, ибо было оно как-то неразделимо связано с деревней, еще прадеды его запомнили, и когда возили на кладбище гроб, или служили молебен на поле, или просто возвращались из лесу в деревню, то первое, что бросалось в глаза, была старая сосна. Чем-то вечным и мудрым веяло от нее, как будто хотела она сказать, глядя на людей и скорбно качая своей вершиной: “Все вы пройдете мимо меня”. На кладбище всюду лежал овечий помет, и баба возмутилась - так строго блюли чистоту раньше на этом месте. Но все-таки царили тут та же прежняя тишина, великий покой, жались друг к другу кресты, точно люди, распростершие руки в безмолвной молитве, мирно росли молодые березы и сосны, а между ними, поблескивая, тянулась паутина цвета воронова крыла и облепляла бабе лицо, когда она проходила между деревьями. Вот сбоку лежала могила о.Ивана под деревянным позеленевшим крестом - жил он в попах на селе больше 40 лет. Она вспомнила живо его фигуру в ветхой серой рясе, в соломенной шляпе, с удочкой в руках, последние годы старик любил ловить рыбу. Чуть дальше был похоронен Василий Кожевников; и его она знала и помнила. Был он крикун и пьяница и до страсти любил менять лошадей с цыганами, сам весь черный, как цыган. Раз он нашумел на нее пьяный, и она осердилась тогда на него и пожаловалась мужу.
- Вот и успокоился, Василий, - сказала она с любовью и жалостью к покойному и вместе с тем с болью, что все это уже прошло, - сделал последнюю мену… Всем один конец - все та же могила. - И было что-то успокаивающее в этом сознании, какая-то спасительная надежда. Она смутно чувствовала, что жизнь - что бы ни происходило на земле - для всех всегда неизменна, для всех одна и та же, и не для чего революции, не для чего злоба, впустую борьба и страдание людей - все дело лишь в том, чтоб прожить эту жизнь хорошо, чтоб было умиление и жалость, как сейчас у нее, чтоб не сгибло какое-то зерно в душе у людей, которое теперь у всех зарастало, иначе не будет счастья на земле, хоть все разом стали бы и богаты и сыты и неустанно бы работали машины на потребу и усладу людскую… Кого Бог любит, того наказует, вспомнила она. Кто знает, может, это и было так. И на душе у нее стало просто и ясно, хоть и грустно; была уверенность, что есть где-то ответ, что есть где-то Хозяин, который все видит и все слышит и услышит, если не сегодня, то завтра, ибо Он на всех один и все ему подответны.
Без призору на кладбище многие могилы провалились, кресты пали, из ям торчали черные сгнившие доски, обросшие мхом; синеющие кости валялись на земле. Кое-где вместо крестов стояли чурбаны с изображением красной звезды, и при виде их она чувствовала не то страх, не то жалость за тех, кто там лежал. Она шла и поправляла по пути покосившиеся кресты, складывала вместе и посыпала песком кости, и так подошла к могиле сына. Маленький крест стоял прямо, могильный дерн сильно пророс травой. А надпись на кресте, что она тогда сама с трудом сделала, наслюнявив карандаш, выцвела почти вся, остались только фамилия да годы…
“Ершовъ… 9 годовъ…” - прочла она свои неумелые буквы с легким испугом. Ершов - имя уходило куда-то вглубь, в землю, - знают ли там, что он звался Ершов, и надо ли это было кому-то?
- Паша, - сказала она тихо, и слеза покатилась у нее по щеке: - Спи, сынок. Только так, только спящим она могла его представить себе; зеленые гнилые доски, источенные кости никак не касались ее сына, он шел другим путем. “Младенец будет в раю” - утешал ее в лесу ссыльный священник, - не плачь, не гневи Бога”, и она видела его идущим по облакам с белыми кудрями на голове, в пестрой рубашонке, подпоясанной узким пояском, босиком - как бегал он последнее лето. Она хотела перекреститься, потянула правой рукой — и острая боль рванула ей к плечу. Баба застонала. И так как молитва у нее была навсегда связана с крестным знамением и иначе молиться она не умела, то она утерла только слезы со щеки заскорузлой ладонью левой руки, обошла кругом могилы и села у изголовья. Из кармана армяка она достала сверток, развернула грязную тряпицу, в ней лежал ломоть черного хлеба, немного зеленого луку и соли. Бездумно, точно во сне, она отломила кусок, посолила, покрошила луку и стала есть, медленно и тяжело жуя воспаленным сухим ртом. Она ела, и слезы текли у нее по лицу, но не тяжелые, не безнадежные, а слезы воспоминанья, слезы о счастье в прошлом.
Видела она раннее утро: солнце бьет в избу, и на полу на перине спят дети, все трое вместе под одним одеялом, - три льняных головки рядом на подушке, и плакала от умиления и смутного ожидания, что она еще увидит их так. От дороги она сильно устала и, как только села, почувствовала тяжесть, потребность к чему-нибудь прислониться, приклонить голову. Березка рядом ворошила уже сухой листвой, как будто ее кто-то легонько тряс за ствол; иногда падали отдельные желтые листья, кружась и трепыхаясь в воздухе, как подраненные птицы. И вокруг могил и вокруг берез тоже лежала золотая кайма, успокоительно действовали эти умирающие краски, неяркие лучи, роящиеся в молодых соснах, скольжение света по стволам, тишина и падающие листья… Ее клонило ко сну. Солнце пригревало мягко спину, сладко гудели ноги, ныла рука, и голова, тяжелая, запрокидывалась ко кресту, баба вздрагивала, просыпалась, гнала сон и вновь засыпала и падала головой.
“Завтра Успение Божьей Матери, - бредила она во сне. - Ахти, надо скорей идти, скоро коровы с поля вернутся, доить надо, скоро поп к вечерне зазвонит…” И она порывалась встать сквозь сон и не могла. И видела дальше, что полевые работы кончились, мужики сварили пива, купили водки; на улице стоят столы, а на них груды пирогов, яиц печеных, луку, большущие чашки щей с наваром, братыни с бражкой, и сидят вокруг столов мужики и “казаки”, как звали у них наемных жнецов, и бабы со всей деревни их угощают. Был за столом и ее муж Егор, весь красный, с расстегнутым воротом.
“Надо бы он не напился”, - подумала она озабоченно. А на угоре хоровод, поют и пляшут девки и парни, играет гармонь! Потом откуда-то появились вдруг отец и мать, а муж стал совсем молодым, каким был женихом, и она сама, в подвенечном шелковом платье, стоит и кланяется: “Получайте, родной батюшка, кушайте, родимая матушка”. “Как же это так, невестой-то?” - удивилась она. Но подруги поют, как полагается, песни о “чужой далекой сторонушке” и величают ее и Егора “князь и княгиня”, она плачет, а их везут из церкви от венца, по деревне дико скачут верховые - “поезжане”, храпят, закидывая головы на сторону, кони; у ворот стоит народ, смотрит на подвенечный поезд…
Она всхлипнула радостными слезами и проснулась. Где-то гремела телега. Сначала баба ничего не поняла, а потом вспомнила все разом и оглянулась недоверчиво: не был ли сон действительностью, а то, что перед нею, - сном? На душе у нее стало совсем легко, была она теперь уже уверена, что ее ждет радость - может быть, муж вернулся домой, избу возвратили, и все они заживут снова вместе. Она собрала крошки с подолу, положила в рот и, встав с трудом, подошла к могиле и поклонилась три раза в землю.
- Прощай, Пашенька, - сказала она медленно и пошла прочь, все еще оглядываясь назад, с чувством не то горечи, не то стыда, что она все еще живет и надеется на что-то, тогда как его уж нет, и в то же время как-то извиняя себя, точно должна была она его еще увидеть по-земному, по-телесному. И опять она вышла из ограды на мертвые полосы под желтым солнечным блеском. Ближе к росстани она заметила, что два мужика гнали двух коров ей на встречу. - Куда это? - постаралась она сообразить своим крестьянским умом, - куда к ночи коров, не на поскотину же? - Мужиков она почти тотчас же признала: один был коммунист из сельсовета, звали его раньше “Афоня бесштанный”, за то, что до 15 лет ходил без штанов, как дурачок, а другой - бывший мясник, хозяйство которого тоже было разорено, но самого его не угнали в ссылку, а приняли служить в колхоз к скоту. - Куда это они собрались? - недоумевала она и невольно ускорила шаги. Коровы брели тяжело, особенно одна, пестрая, с раздутым брюхом, едва переставляла ноги. Афоня бил ее хворостиной, корова шаталась, но не ускоряла шагу. - Да ведь корова-то стельная, подумала она, как же он ее, стельную, стегает?
Мужики выгнали коров на дорогу к скотскому кладбищу. Что-то необыкновенно знакомое поразило ее в пестрой корове. Она напрягла силы, почти побежала, чувствуя неладное. Корова была ее, их корова -Пеструха! Ее отняли у них два года назад вместе с другой, та с тех пор уж пала. Это была ее любимая корова, сразу баба не узнала ее, столь сильно изменилась скотина - брюхо раздулось, кожу покрыли парша, спекшиеся гнойные раны.
- Пеструха! - Баба кинулась к корове. Та подняла голову, повела мутными глазами и вдруг подалась всем туловищем, жалобно замычала, видно узнав хозяйку.
- Куда погнали корову? - приступила баба к Афоне. - Куда, я тебя спрашиваю?
- Куда, куда? - передразнил Афоня. - Не видишь сама, опаршивела вся… всех коров заразила. Ну, ты. Он толкнул бабу кнутом в грудь: - Чего завыла? Кулачья шерсть! Небось, с работы ушла…
От толчка она упала на землю и, не в силах встать, лежала на земле, сотрясаясь от слез. Корова, отходя, мычала призывно, и так знакомо было это мычанье, так напоминало те невозвратные дни, когда, бывало, она у ворот своей избы поджидала вечером скот, возвращавшийся с поскотины.
“Да ведь корова-то холмогорка, лучшей породы, - она всхлипнула, - в день больше ведра молока давала, и такую корову на убой, на падаль!”
И только теперь она поняла вдруг неотвратимо - после того, как увидела эту свою корову - то, чего не поняла раньше, когда отбирали дом, уводили мужа, когда умер сын, - поняла в первый раз совершенно ясно и бесповоротно, что все, все кончено, ничто не возвратится, не будет, как раньше, что ей нечего больше ждать и не на что больше надеяться и что все надежды - один лишь самообман. Старая жизнь ушла, и если был раньше где-то Бог, то, должно быть, Он отступился от людей, от всей земли, ибо новые люди не звали, не искали Бога, и было ими что-то потеряно - какое-то самое главное зерно, главная искра, а без этой искры не могло быть никакой жизни, только усоба, страдание и тьма. Потери этого зерна люди не замечали. А может быть, и совсем не было того Бога, в Которого она верила, крестьянского Бога Иисуса Христа и Его Матери, а один лишь гневный и страшный Бог Отец, ничего не прощающий, жестоко карающий за грехи?
- Конец, - сказала она, - конец.
Так лежала она долго, лицом к земле, без движения. В небе высоко тянули журавли к югу, протяжно кричали. Ветер доносил сбоку гнилостный запах. Он шел от скирда соломы, который стоял у самой деревни.
https://royallib.com/read....#122880
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 18 Ноя 2018, 11:48 | Сообщение # 26 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 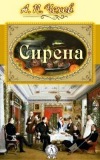
После одного из заседаний N-ского мирового съезда судьи собрались в совещательной комнате, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ехать домой обедать. Председатель съезда, очень видный мужчина с пушистыми бакенами, оставшийся по одному из только что разобранных дел «при особом мнении», сидел за столом и спешил записать свое мнение. Участковый мировой судья Милкин, молодой человек с томным, меланхолическим лицом, слывущий за философа, недовольного средой и ищущего цели жизни, стоял у окна и печально глядел во двор. Другой участковый и один из почетных уже ушли. Оставшийся почетный, обрюзглый, тяжело дышащий толстяк, и товарищ прокурора, молодой немец с катаральным лицом, сидели на диванчике и ждали, когда кончит писать председатель, чтобы ехать вместе обедать. Перед ними стоял секретарь съезда Жилин, маленький человечек с бачками около ушей и с выражением сладости на лице. Медово улыбаясь и глядя на толстяка, он говорил вполголоса:
- Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились и уже 4-й час, но это, душа моя Григорий Саввич, не настоящий аппетит. Настоящий, волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы, бывает только после физических движений, например, после охоты с гончими, или когда отмахаешь на обывательских верст 100 без передышки. Тоже много значит и воображение-с. Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном; умное да ученое всегда аппетит отшибает. Сами изволите знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди и хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике да закусочке. Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном, так со мной от аппетита истерика сделалась. Ну-с, а когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь этаким, знаете ли...
- Жареные гуси мастера пахнуть, - сказал почетный мировой, тяжело дыша.
- Не говорите, душа моя Григорий Саввич, утка или бекас могут гусю 10 очков вперед дать. В гусином букете нет нежности и деликатности. Забористее всего пахнет молодой лук, когда, знаете ли, начинает поджариваться и, понимаете ли, шипит, подлец, на весь дом. Ну-с, когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт, а когда сядете, сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью «его же и монаси приемлют», и выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом этак не спеша, поднесете ее, водочку-то, к губам и тотчас же у вас из желудка по всему телу искры...
Секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство.
- Икры... - повторил он, жмурясь. - Как только выпили, сейчас же закусить нужно.
- Послушайте, - сказал председатель, поднимая глаза на секретаря, - говорите потише! Я из-за вас уже второй лист порчу.
- Ах, виноват-с, Петр Николаич! Я буду тихо, - сказал секретарь и продолжал полушёпотом: - Ну-с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом... объедение! Но налимья печенка - это трагедия!
- М-да... - согласился почетный мировой, жмуря глаза. - Для закуски хороши также, того... душоные белые грибы...
- Да, да, да... с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух... даже слеза прошибает иной раз! Ну-с, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же, немедля, нужно вторую выпить.
- Иван Гурьич! - сказал плачущим голосом председатель. - Из-за вас я третий лист испортил!
- Чёрт его знает, только об еде и думает! - проворчал философ Милкин, делая презрительную гримасу. - Неужели, кроме грибов да кулебяки, нет других интересов в жизни?
- Ну-с, перед кулебякой выпить, - продолжал секретарь вполголоса; он уже так увлекся, что, как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса. - Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком...
Секретарь подкатил глаза и перекосил рот до самого уха. Почетный мировой крякнул и, вероятно, воображая себе кулебяку, пошевелил пальцами.
- Это чёрт знает что... - проворчал участковый, отходя к другому окну.
- Два куска съел, а третий к щам приберег, - продолжал секретарь вдохновенно. - Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтоб аппетита не перебить, велите щи подавать... Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы на хохлацкий манер, с ветчинкой и с сосисками. К нему подаются сметана и свежая петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек, а ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленями: морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией.
- Да, великолепная вещь... - вздохнул председатель, отрывая глаза от бумаги, но тотчас же спохватился и простонал: - Побойтесь вы бога! Этак я до вечера не напишу особого мнения! Четвертый лист порчу!
- Не буду, не буду! Виноват-с! - извинился секретарь и продолжал шёпотом: — Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное, благодетель. Из рыб безгласных самая лучшая - это жареный карась в сметане; только, чтобы он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки.
- Хорошо также стерлядку кольчиком, - сказал почетный мировой, закрывая глаза, но тотчас же, неожиданно для всех, он рванулся с места, сделал зверское лицо и заревел в сторону председателя: - Петр Николаич, скоро ли вы? Не могу я больше ждать! Не могу!
- Дайте мне кончить!
- Ну, так я сам поеду! Чёрт с вами!
Толстяк махнул рукой, схватил шляпу и, не простившись, выбежал из комнаты. Секретарь вздохнул и, нагнувшись к уху товарища прокурора, продолжал вполголоса: - Хорош также судак или карпий с подливкой из помидоров и грибков. Но рыбой не насытишься, Степан Францыч; это еда несущественная, главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. Вы какую птицу больше обожаете?
Товарищ прокурора сделал кислое лицо и сказал со вздохом: - К несчастью, я не могу вам сочувствовать: у меня катар желудка.
- Полноте, сударь! Катар желудка доктора выдумали! Больше от вольнодумства да от гордости бывает эта болезнь. Вы не обращайте внимания. Положим, вам кушать не хочется или тошно, а вы не обращайте внимания и кушайте себе. Ежели, положим, подадут к жаркому парочку дупелей, да ежели прибавить к этому куропаточку или парочку перепелочек жирненьких, то тут про всякий катар забудете, честное благородное слово. А жареная индейка? Белая, жирная, сочная этакая, знаете ли, вроде нимфы...
- Да, вероятно, это вкусно, -[/i] сказал прокурор, грустно улыбаясь. - Индейку, пожалуй, я ел бы.
- Господи, а утка? Если взять молодую утку, которая только что в первые морозы ледку хватила, да изжарить ее на противне вместе с картошкой, да чтоб картошка была мелко нарезана, да подрумянилась бы, да чтоб утиным жиром пропиталась, да чтоб...
Философ Милкин сделал зверское лицо и, по-видимому, хотел что-то сказать, но вдруг причмокнул губами, вероятно, вообразив жареную утку, и, не сказав ни слова, влекомый неведомою силой, схватил шляпу и выбежал вон.
- Да, пожалуй, я поел бы и утки... - вздохнул товарищ прокурора. Председатель встал, прошелся и опять сел.
- После жаркого человек становится сыт и впадает в сладостное затмение, - продолжал секретарь. - В это время и телу хорошо и на душе умилительно. Для услаждения можете выкушать рюмочки три запеканочки. Председатель крякнул и перечеркнул лист.
- Я шестой лист порчу, - сказал он сердито. - Это бессовестно!
- Пишите, пишите, благодетель! - зашептал секретарь. - Я не буду! Я потихоньку. Я вам по совести, Степан Францыч, - продолжал он едва слышным шёпотом, - домашняя самоделковая запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние, этакий мираж, и кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе...
- Ах, да поедемте, Петр Николаич! - сказал прокурор, нетерпеливо дрыгнув ногой.
- Да-с, - продолжал секретарь. - Во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать, и в это время в голову приходят такие мечтательные мысли, будто вы генералиссимус или женаты на первейшей красавице в мире, и будто эта красавица плавает целый день перед вашими окнами в этаком бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей: «Душенька, иди поцелуй меня!»
- Петр Николаич! - простонал товарищ прокурора.
- Да-с, - продолжал секретарь. - Покуривши, подбирайте полы халата и айда к постельке! Этак ложитесь на спинку, животиком вверх, и берите газетку в руки. Когда глаза слипаются и во всем теле дремота стоит, приятно читать про политику: там, глядишь, Австрия сплоховала, там Франция кому-нибудь не потрафила, там папа римский наперекор пошел - читаешь, оно и приятно.
Председатель вскочил, швырнул в сторону перо и обеими руками ухватился за шляпу. Товарищ прокурора, забывший о своем катаре и млевший от нетерпения, тоже вскочил.
- Едемте! - крикнул он.
- Петр Николаич, а как же особое мнение? - испугался секретарь. - Когда же вы его, благодетель, напишете? Ведь вам в 6 часов в город ехать!
Председатель махнул рукой и бросился к двери. Товарищ прокурора тоже махнул рукой и, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Секретарь вздохнул, укоризненно поглядел им вслед и стал убирать бумаги.
https://libking.ru/books....na.html

Когда он был в шляпе, - шел по улице или стоял в вагоне метро, - и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью и говорил и держался он как человек, много испытавший в жизни. Одно время он арендовал ферму в Провансе, наслышался едких провансальских шуток и в Париже любил иногда вставлять их с усмешкой в свою всегда сжатую речь. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, - неприятно шутил, если разговор касался женщин: - Rien n’est plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien [1].
Однажды, в сырой парижский вечер поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возле улицы Пасси. При столовой было нечто вроде гастрономического магазина - он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеревшими рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом. В магазине было светло, и его потянуло на этот свет из темного переулка с холодной и точно сальной мостовой. Он вошел, поклонился хозяйке и прошел в еще пустую, слабо освещенную комнату, прилегавшую к магазину, где белели накрытые бумагой столики. Там он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки с рыжими волосатыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг его угол осветился, и он увидал безучастно-вежливо подходящую женщину лет тридцати, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье.
- Bonsoir, monsieur [2], - сказала она приятным голосом. Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил: - Bonsoir... Но вы ведь русская?
- Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски.
- Да разве у вас много бывает французов?
- Довольно много, и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?
- Нет, тут столько всего... Вы уже сами посоветуйте что-нибудь.
Она стала перечислять заученным тоном:
- Нынче у нас щи флотские, битки по-казацки, можно иметь отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски...
- Прекрасно. Будьте добры дать щи и битки.
Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы, платье поношенное, но, видно, из хорошего дома.
- Водочки желаете?
- Охотно. Сырость на дворе ужасная.
- Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней получки, коркуновские огурчики малосольные...
Он опять взглянул на нее: очень красив белый передник с прошивками на черном платье, красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины... полные губы не накрашены, но свежи, на голове просто свернутая черная коса, но кожа на белой руке холеная, ногти блестящие и чуть розовые, - виден маникюр...
- Что я прикажу закусить? - сказал он, улыбаясь. - Если позволите, только селедку с горячим картофелем.
- А вино какое прикажете?
- Красное. Обыкновенное, - какое у вас всегда дают к столу.
Она отметила на блокноте и переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он закачал головой:
- Нет, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не лью. L’eau gate le vin comme la charette le chemin et la femme - l’âme [3].
- Хорошего же вы мнения о нас! - безразлично ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед - на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ее черное платье. Да, вежливость и безразличие, все повадки и движения скромной и достойной служащей. Но дорогие хорошие туфли. Откуда? Есть, вероятно, пожилой, состоятельный "ami"... [4]
Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и последняя мысль возбудила в нем некоторое раздражение. Да, из году в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного, счастливой любовной встречи, живешь, в сущности, только надеждой на эту встречу и все напрасно... На другой день он опять пришел и сел за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов и вслух повторяла, отмечая на блокноте: - Caviar rouge, salade russe... Deux chachlyks... [5] Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому: - Добрый вечер. Приятно, что вам у нас понравилось.
Он весело приподнялся: - Доброго здоровья. Очень понравилось. Как вас величать прикажете?
- Ольга Александровна. А вас, позвольте узнать?
- Николай Платоныч.
Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот:
- Нынче у нас чудный рассольник. Повар у нас замечательный, на яхте у великого князя Александра Михайловича служил.
- Прекрасно, рассольник так рассольник... А вы давно тут работаете?
- Третий месяц.
- А раньше где?
- Раньше была продавщицей в Printemps
- Верно, из-за сокращений лишились места?
- Да, по доброй воле не ушла бы.
Он с удовольствием подумал: [i]«Значит, дело не в „ami“», - и спросил:
- Вы замужняя?
- Да
- А муж ваш что делает?
- Работает в Югославии. Бывший участник белого движения. Вы, вероятно, тоже?
- Да, участвовал и в великой и в гражданской войне.
- Это сразу видно. И, вероятно, генерал, - сказала она, улыбаясь.
- Бывший. Теперь пишу истории этих войн по заказам разных иностранных издательств... Как же это вы одна?
- Так вот и одна...
На третий вечер он спросил:
- Вы любите синема?
Она ответила, ставя на стол мисочку с борщом: - Иногда бывает интересно.
- Вот теперь идет в синема «Etoile» какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите пойдем посмотрим? У вас есть, конечно, выходные дни?
- Мерси. Я свободна по понедельникам.
- Ну вот и пойдем в понедельник. Нынче что? Суббота? Значит, послезавтра. Идет?
- Идет. Завтра вы, очевидно, не придете?
- Нет, еду за город, к знакомым. А почему вы спрашиваете?
- Не знаю... Это странно, но я уж как-то привыкла к вам.
Он благодарно взглянул на нее и покраснел:
- И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч... И поспешил переменить разговор: - Итак, послезавтра. Где же нам встретиться? Вы где живете?
- Возле метро Motte-Picquet.
- Видите, как удобно, - прямой путь до Etoile. Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в восемь с половиной.
- Мерси.
Он шутливо поклонился:
- C’est moi qui vous remercie [6]. Уложите детей, - улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка, - и приезжайте.
- Слава богу, этого добра у меня нет, - ответила она и плавно понесла от него тарелки. Он был и растроган и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам...» Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Le bon Dieu envoie toujours des culottes á ceux qui n’ont pas de derrière... [7]
Вечером в понедельник шел дождь, мглистое небо над Парижем мутно краснело. Надеясь поужинать с ней на Монпарнассе, он не обедал, зашел в кафе на Chaussée de la Muette, съел сандвич с ветчиной, выпил кружку пива и, закурив, сел в такси. У входа в метро Etoile остановил шофера и вышел под дождь на тротуар - толстый, с багровыми щеками шофер доверчиво стал ждать его. Из метро несло банным ветром, густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным кряканьем названия вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней навстречу: - Ольга Александровна... Нарядно и модно одетая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно-подведенные глаза, дамским движением подала руку, на которой висел зонтик, подхватив другой подол длинного вечернего платья, - он обрадовался еще больше: «Вечернее платье, - значит, тоже думала, что после синема поедем куда-нибудь», - и отвернул край ее перчатки, поцеловал кисть белой руки.
- Бедный, вы долго ждали?
- Нет, я только что приехал. Идем скорей в такси...
И с давно не испытанным волнением он вошел за ней в полутемную пахнущую сырым сукном карету. На повороте карету сильно качнуло, внутренность ее на мгновение осветил фонарь, - он невольно поддержал ее за талию, почувствовал запах пудры от ее щеки, увидал ее крупные колени под вечерним черным платьем, блеск черного глаза и полные в красной помаде губы: совсем другая женщина сидела теперь возле него. В темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащие распластанные аэропланы, они тихо переговаривались:
- Вы одна или с какой-нибудь подругой живете?
[i]- Одна. В сущности, ужасно. Отельчик чистый, теплый, но, знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на часы с девицей. Шестой этаж, лифта, конечно, нет, на четвертом этаже красный коврик на лестнице кончается... Ночью, в дождь страшная тоска. Раскроешь окно - ни души нигде, совсем мертвый город, бог знает где-то внизу один фонарь под дождем... А вы, конечно, холостой и тоже в отеле живете?
- У меня небольшая квартирка в Пасси. Живу тоже один. Давний парижанин. Одно время жил в Провансе, снял ферму, хотел удалиться от всех и ото всего, жить трудами рук своих и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка, оказался пьяница, мрачный, страшный во хмелю человек, завел кур, кроликов - дохнут, мул однажды чуть не загрыз меня, очень злое и умное животное... И, главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополе бросила.
- Вы шутите?
- Ничуть. История очень обыкновенная. Qui se marie par amour a bonne nuits et mauvais jours 8. А у меня даже и того и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества.
[- Где же она теперь?
- Не знаю...
Она долго молчала. По экрану дурацки бегал на раскинутых ступнях в нелепо огромных разбитых башмаках и в котелке набок какой-то подражатель Чаплина.
- Да, вам, верно, очень одиноко, - сказала она.
- Да. Но что ж, надо терпеть. Patience - médecine des pauvres [9].
- Очень грустная médecine.
- Да, невеселая. До того, - сказал он, усмехаясь, - что я иногда даже в «Иллюстрированную Россию» заглядывал, там, знаете, есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений: «Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку... Серьезная дама шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с девятилетним сыном, ищет переписки с серьезной целью с трезвым господином не моложе сорока лет, материально обеспеченным шоферской или какой-либо другой работой, любящим семейный уют. Интеллигентность не обязательна...» Вполне ее понимаю - не обязательна.
- Но разве у вас нет друзей, знакомых?
- Друзей нет. А знакомства плохая утеха.
- Кто же ваше хозяйство ведет?
- Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам, завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит femme de ménage [10].
- Бедный! - сказала она, сжав его руку. И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымной синевато-меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Подражатель Чаплина, у которого от ужаса отделился от головы проломленный котелок, бешено летел на телеграфный столб в обломках допотопного автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на все голоса, снизу, из провала дымного от папирос зала, - они сидели на балконе, - гремел вместе с рукоплесканиями отчаянно-радостный хохот. Он наклонился к ней: - Знаете что? Поедемте куда-нибудь на Монпарнасс, например, тут ужасно скучно и дышать нечем...
Она кивнула головой и стала надевать перчатки. Снова сев в полутемную карету и глядя на искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней и переливавшихся в черной вышине то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами с угольно-крупными ресницами и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными, с сладким помадным вкусом губами. В кафе «Coupole» начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и красного бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели. Много курили, пепельница была полна ее окровавленными окурками. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица.
- Но скажите правду, - говорила она, щепотками снимая с кончика языка крошки табаку, - ведь были же у вас встречи за эти годы?
- Были. Но вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели... А у вас?
Она помолчала:
- Была одна очень тяжелая история. Нет, я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер в сущности. Но как вы разошлись с женой?
- Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец гречонок, чрезвычайно богатый. И в месяц, два не осталось и следа от чистой, трогательной девочки, которая просто молилась на белую армию, на всех на нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке в Пера, получать от него гигантские корзины цветов... «Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мне с ним весело, он для меня просто милый мальчик и больше ничего...» Милый мальчик! А самой 20 лет. Не легко было забыть ее, - прежнюю, екатеринодарскую.
Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше 10 % на прислугу. После этого им обоим показалось еще страннее расстаться через полчаса.
- Поедемте ко мне, - сказал он печально. - Посидим, поговорим еще...
- Да, да, - ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе. Ночной шофер, русский, привез их в одинокий переулок, к подъезду высокого дома, возле которого, в металлическом свете газового фонаря, сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь. Он успел попасть ключом в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в прихожую, потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Он предложил еще выпить вина.
- Нет, дорогой мой, - сказала она, - я больше не могу.
Он стал просить:
- Выпьем только по бокалу белого, у меня стоит за окном отличное пуи.
- Пейте, милый, а я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дети, вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам и вообще, зачем нам расставаться?
Он от волнения не мог ответить, молча провел ее в спальню, осветил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горели ярко, всюду шло тепло от топок, меж тем как по крыше бегло и мерно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье. Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного, горького вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В спальне, в большом зеркале на стене напротив, ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди.
- Нельзя сюда! - сказала она и, накинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску. Через день, оставив службу, она переехала к нему. Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано:
- Предосторожность никогда не мешает, - говорил он. - L’amour fait danser les ânes [11], и я чувствую себя так, точно мне двадцать лет. Но мало ли что может быть...
На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, - читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза. Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной и о ее, конченой. Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.
[1] Нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину (франц.).
[2] Добрый вечер, сударь (франц.).
[3] Вода портит вино так же, как повозка дорогу и как женщина душу (франц.).
[4] «Друг» (франц.).
[5] Красной икры, винегрета... Два шашлыка... (франц.)
[6] Это я вас благодарю (франц.).
[7] Милосердный господь всегда дает штаны тем, у кого нет зада... (франц.)
[8] Кто женится по любви, тот имеет хорошие ночи и скверные дни (франц.).
[9] Терпенье — медицина бедных (франц.).
[10] Уборщица (франц.).
[11] Любовь заставляет даже ослов танцевать (франц.).
https://ilibrary.ru/text/1824/p.1/index.html
Один из лучших рассказов о любви...

Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов - и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчичьи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи, в сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды - оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие... Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер - от Красных ворот к храму Христа Спасителя: она жила против него; каждый вечер я возил ее обедать в «Прагу», в «Эрмитаж», в «Метрополь», после обеда в театры, на концерты, а там к «Яру», в «Стрельну»... Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно - так же, как говорить с ней об этом: она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношения - совсем близки мы все еще не были; и все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании - и вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее. Она зачем-то училась на курсах, довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил: «Зачем?» Она пожала плечом: «А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история...» Жила она одна, - вдовый отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери, что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже, всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван, стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало «Лунной сонаты», - только одно начало, - на пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы, - по моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие, - и когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет босого Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила:«Спасибо за цветы...»
Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги - Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского, и получал все то же «спасибо» и протянутую теплую руку, иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно почему, - говорила она в раздумье, гладя мой бобровый воротник, но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которым входишь со двора в комнату...». Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом, хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые, все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду съедала за день целую коробку, за обедами и ужинами ела не меньше меня, любила расстегаи с налимьей ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане, иногда говорила:«Не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать», - но сама и обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех...
Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губернии, был в ту пору красив почему-то южной, горячей красотой, был даже «неприлично красив», как сказал мне однажды один знаменитый актер, чудовищно толстый человек, великий обжора и умница. «Черт вас знает, кто вы, сицилианец какой-то», - сказал он сонно; и характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. А у нее красота была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным пушком; выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застежками (а на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за 30 коп. в вегетарианской столовой на Арбате); и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала; лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядела перед собой: я это видел, заезжая иногда к ней и днем, потому что каждый месяц она дня три-четыре совсем не выходила и не выезжала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и молча читать.
- Вы ужасно болтливы и непоседливы, - говорила она, - дайте мне дочитать главу...
- Если бы я не был болтлив и непоседлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас, - отвечал я, напоминая ей этим наше знакомство: как-то в декабре, попав в Художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя на эстраде, я так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в кресле рядом со мной и сперва с некоторым недоумением смотревшая на меня, тоже наконец рассмеялась, и я тотчас весело обратился к ней.
- Все так, - говорила она, - но все-таки помолчите немного, почитайте что-нибудь, покурите...
- Не могу я молчать! Не представляете вы себе всю силу моей любви к вам! Не любите вы меня!
- Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что, кроме отца и вас, у меня никого нет на свете. Во всяком случае, вы у меня первый и последний. Вам этого мало? Но довольно об этом. Читать при вас нельзя, давайте чай пить...
И я вставал, кипятил воду в электрическом чайнике на столике за отвалом дивана, брал из ореховой горки, стоявшей в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря, что придет в голову:
- Вы дочитали «Огненного ангела»?
- Досмотрела. До того высокопарно, что совестно читать.
- А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина?
- Не в меру разудал был. И потом желтоволосую Русь я вообще не люблю.
- Все-то вам не нравится!
- Да, многое...
«Странная любовь!» - думал я и, пока закипала вода, стоял, смотрел в окна. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом; за одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него...
«Странный город! - говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном.
- Василий Блаженный - и Спас-на-Бору, итальянские соборы - и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах...»
Приезжая в сумерки, я иногда заставал ее на диване только в одном шелковом архалуке, отороченном соболем, - наследство моей астраханской бабушки, сказала она, - сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительное в своей гладкости тело... И она ничему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ее жаркие губы - она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящийся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя, остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни одетая, готовая к выезду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим: - Куда нынче? В «Метрополь», может быть?
И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке: - Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь...
Это меня не обезнадежило. «Там видно будет!» - сказал я себе в надежде на перемену ее решения со временем и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимой, но и тут - что оставалось мне, кроме надежды на время? Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, я схватился за голову: - Нет, это выше моих сил! И зачем, почему надо так жестоко мучить меня и себя!
Она промолчала.
- Да, все-таки это не любовь, не любовь...
Она ровно отозвалась из темноты:
- Может быть. Кто же знает, что такое любовь?
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 03 Фев 2019, 18:25 | Сообщение # 27 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | - Я, я знаю! - воскликнул я. - буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье!
- Счастье, счастье... «Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь - надулось, а вытащишь - ничего нету».
- Это что?
- Это так Платон Каратаев говорил Пьеру.
Я махнул рукой:
- Ах, бог с ней, с этой восточной мудростью!
И опять весь вечер говорил только о постороннем - о новой постановке Художественного театра, о новом рассказе Андреева... С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш из «Аиды», ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которые целовал час тому назад, - да, целовал, говорил я себе, с восторженной благодарностью глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал грудей, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая: «Москва, Астрахань, Персия, Индия!»
В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумней становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелея, вела меня иногда в отдельный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакине с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка-запевало с низким лбом под дегтярной челкой. Она слушала песни с томной, странной усмешкой... В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой, на подъезде, закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторженном отчаянии летел к Красным воротам. И завтра и послезавтра будет все то же, думал я, - все та же мука и все то же счастье... Ну что ж - все-таки счастье, великое счастье! Так прошел январь, февраль, пришла и прошла масленица. В прощеное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу вечера. Я приехал, и она встретила меня уже одетая, в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботиках
- Все черное! - сказал я, входя, как всегда, радостно. Глаза ее были ласковы и тихи.
- Ведь завтра уже чистый понедельник, - ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. - «Господи владыко живота моего...». Хотите поехать в Новодевичий монастырь?
Я удивился, но поспешил сказать: - Хочу.
- Что ж все кабаки да кабаки, - прибавила она. - Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище...
Я удивился еще больше: - На кладбище? Зачем? Это знаменитое раскольничье?
- Да, раскольничье. Допетровская Русь! Хоронили ихнего архиепископа. И вот представьте себе: гроб - дубовая колода, как в древности, золотая парча будто кованая, лик усопшего закрыт белым «воздухом», шитым крупной черной вязью - красота и ужас. А у гроба диаконы с рипидами и трикириями...
- Откуда вы это знаете? Рипиды, трикирии!
- Это вы меня не знаете.
- Не знал, что вы так религиозны.
- Это не религиозность. Я не знаю что... Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевские соборы, а вы даже и не подозреваете этого... Так вот: диаконы, да какие! Пересвет и Ослябя! И на двух клиросах два хора, тоже все Пересветы: высокие, могучие, в длинных черных кафтанах, поют, перекликаясь, - то один хор, то другой, - и все в унисон, и не по нотам, а по «крюкам». А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями, а на дворе мороз, солнце, слепит снег... Да нет, вы этого не понимаете!
Идем...Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок, куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота, пошли по снежным дорожкам по кладбищу, - солнце только что село, еще совсем было светло, дивно рисовались на золотой эмали заката серым кораллом сучья в инее, и таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики, - она вдруг обернулась, почувствовав это: - Правда, как вы меня любите! - сказала она с тихим недоумением, покачав головой. Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом: - Какая противная смесь сусального русского стиля и Художественного театра!
Стало темнеть, морозило, мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор.
- Поездим еще немножко, - сказала она, - потом поедем есть последние блины к Егорову... Только не шибко, Федор, - правда?
- Слушаю-с.
- Где-то на Ордынке есть дом, где жил Грибоедов. Поедем его искать...
И мы зачем-то поехали на Ордынку, долго ездили по каким-то переулкам в садах, были в Грибоедовском переулке; но кто ж мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов, - прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоедов? Уже давно стемнело, розовели за деревьями в инее освещенные окна...
- Тут есть еще Марфо-Мариинская обитель, - сказала она.
Я засмеялся: - Опять в обитель?
- Нет, это я так...
В нижнем этаже в трактире Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу, перед черной доской иконы богородицы троеручицы, горела лампадка, сели за длинный стол на черный кожаный диван... Пушок на ее верхней губе был в инее, янтарь щек слегка розовел, чернота райка совсем слилась с зрачком, - я не мог отвести восторженных глаз от ее лица.
А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты: -Хорошо! Внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и богородица троеручица. Три руки! Ведь это Индия! Вы - барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву.
- Могу, могу! - отвечал я.
- И давайте закажем обед си́лен!
- Как это «си́лен»?
- Это значит - сильный. Как же вы не знаете? «Рече Гюрги...»
- Как хорошо! Гюрги!
- Да, князь Юрий Долгорукий. «Рече Гюрги ко Святославу, князю Северскому: „Приди ко мне, брате, в Москову“ и повелел устроить обед силен».
- Как хорошо. И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных песнопениях. Недавно я ходила в Зачатьевский монастырь - вы представить себе не можете, до чего дивно поют там стихиры! А в Чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как было хорошо! Везде лужи, воздух уж мягкий, на душе как-то нежно, грустно и все время это чувство родины, ее старины... Все двери в соборе открыты, весь день входит и выходит простой народ, весь день службы... Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь, в какой-нибудь самый глухой, вологодский, вятский!
Я хотел сказать, что тогда и я уйду или зарежу кого-нибудь, чтобы меня загнали на Сахалин, закурил, забывшись от волнения, но подошел половой в белых штанах и белой рубахе, подпоясанный малиновым жгутом, почтительно напомнил:- Извините, господин, курить у нас нельзя...
И тотчас, с особой угодливостью, начал скороговоркой: - К блинам что прикажете? Домашнего травничку? Икорки, семушки? К ушице у нас херес на редкость хорош есть, а к наважке...
- И к наважке хересу, - прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. И я уже рассеянно слушал, что она говорила дальше. А она говорила с тихим светом в глазах: - Я русское летописное, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. «Был в русской земле город, названием Муром, в нем же самодержствовал благоверный князь, именем Павел. И вселил к жене его диавол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасном...».
Я шутя сделал страшные глаза: - Ой, какой ужас!
Она, не слушая, продолжала: - Так испытывал ее бог. «Когда же пришло время ее благостной кончины, умолили бога сей князь и княгиня преставиться им в един день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два гробных ложа. И облеклись, такожде единовременно, в монашеское одеяние...». И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой: что это с ней нынче? И вот, в этот вечер, когда я отвез ее домой совсем не в обычное время, в одиннадцатом часу, она, простясь со мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани: - Погодите. Заезжайте ко мне завтра вечером не раньте десяти. Завтра «капустник» Художественного театра.
- Так что? - спросил я.
- Вы хотите поехать на этот «капустник»?
- Да.
- Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлее этих «капустников»!
- И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать.
Я мысленно покачал головой, - все причуды, московские причуды! - и бодро отозвался: - Ол райт!
В десять часов вечера на другой день, поднявшись в лифте к ее двери, я отворил дверь своим ключиком и не сразу вошел из темной прихожей: за ней было необычно светло, все было зажжено, - люстры, канделябры по бокам зеркала и высокая лампа под легким абажуром за изголовьем дивана, а пианино звучало началом «Лунной сонаты» - все повышаясь, звуча чем дальше, тем все томительнее, призывнее, в сомнамбулически-блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, - звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел - она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, нежного, полного начала грудей, сверканием алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ; на висках полуколечками загибались к глазам черные лоснящиеся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картинки.
- Вот если бы я была певица и пела на эстраде, - сказала она, глядя на мое растерянное лицо, - я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легкими поклонами вправо и влево, вверх и в партер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф, чтобы не наступить на него...
На «капустнике» она много курила и все прихлебывала шампанское, пристально смотрела на актеров, с бойкими выкриками и припевами изображавших нечто будто бы парижское, на большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного Москвина в пенсне на корытообразном лице, - оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клок его белорусских волос, Качалов, поднял бокал и, с деланной мрачной жадностью глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом: - Царь-девица, Шамаханская царица, твое здоровье!
И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня: - А это что за красавец? Ненавижу.
Потом захрипела, засвистала и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка - и к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий, изогнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал: - Дозвольте пригласить на полечку Транблан...
И она, улыбаясь, поднялась и, ловко, коротко притопывая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями, меж тем как он, задрав голову, кричал козлом: - Пойдем, пойдем поскорее с тобой польку танцевать!
В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно: - Конечно, красив. Качалов правду сказал... «Змей в естестве человеческом, зело прекрасном...»
Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем, - «какой-то светящийся череп», - сказала она.
На Спасской башне часы били три, - еще сказала: - Какой древний звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой, он там напоминал мне Москву...
Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала: - Отпустите его...
Пораженный, - никогда не позволяла она подниматься к ней ночью, - я растерянно сказал: - Федор, я вернусь пешком... И мы молча потянулись вверх в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах. Я снял с нее скользкую от снега шубку, она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я разделся, вошел в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье... Я встал и подошел к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла, спиной ко мне, перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных, висевших вдоль лица волос.
- Вот все говорил, что я мало о нем думаю, - сказала она, бросив гребень на подзеркальник, и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне: - Нет, я думала...
На рассвете я почувствовал ее движение. Открыл глаза - она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тела, она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря: - Нынче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли, один бог знает...
И прижалась своей щекой к моей, - я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница.
- Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь, я очень устала...
И легла на подушку.Я осторожно оделся, робко поцеловал ее в волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным светом. Шел пешком по молодому липкому снегу, - метели уже не было, все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц, пахло и снегом и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей, стал в толпе старух и нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку... Кто-то потрогал меня за плечо - я посмотрел: какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез. - Ох, не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!
Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко - ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть: «В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг... Пусть бог даст сил не отвечать мне - бесполезно длить и увеличивать нашу муку...»
Я исполнил ее просьбу. И долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться - равнодушно, безнадежно...
Прошло почти два года с того чистого понедельника...В 14-ом году, под Новый год, был такой же тихий, солнечный вечер, как тот, незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцанье старого золота иконостаса и надмогильных плит московских царей, - стоял, точно ожидая чего-то, в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку, шагом ездил, как тогда, по темным переулкам в садах с освещенными под ними окнами, поехал по Грибоедовскому переулку - и все плакал, плакал... На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви, из дверей горестно и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще: - Нельзя, господин, нельзя!
- Как нельзя? В церковь нельзя?
- Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за ради бога, не ходите, там сичас великая княгиня Ельзавет Федровна и великий князь Митрий Палыч..
Я сунул ему рубль - он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер, - уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня... Что она могла видеть в темноте, как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот.
Иван Бунин. 12 мая 1944
https://ilibrary.ru/text/1019/p.1/index.html
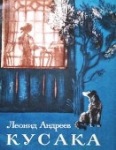
Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивною потребностью в общении, она показывалась на улице, - ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там сна зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.
- Жучка! - позвал он ее именем, общим всем собакам. - Жучка! Пойди сюда, не бойся!
Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:
- Да пойди, дура! Ей-Богу, не трону!
Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.
- У-у, мразь! Тоже лезет!
Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок. С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость. Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч.
Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом. Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала: - Вот весело-то! Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.
- Ай, злая собака! - убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос:
- Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..
Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль. Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали: - А где же наша Кусака?
И это новое имя «Кусака» так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, словно это был не хлеб, а камень, и скоро все привыкли к Кусаке, называли ее «своей» собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.
- Кусачка, пойди ко мне! - звала она к себе. - Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойди же!
Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.
- Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?
Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное личико. И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.
- Мама, дети! Глядите: я ласкаю Кусаку! - закричала Леля.Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара. Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки? С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем. Но такою гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела. Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви, и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.
- Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! - кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила: - Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так...
И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал: - Кусачка, милая Кусачка, поиграй! И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой. Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.
Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.
- Как же нам быть с Кусакой? - в раздумье спрашивала Леля. Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.
- Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит? - сказала мать и добавила: - А Кусаку придется оставить. Бог с ней!
- Жа-а-лко, - протянула Леля. - Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь.
- Жа-а-лко, - повторила Леля, готовая заплакать. Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:
- Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что - дворняжка!
- Жа-а-лко, - повторила Леля, но не заплакала. Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.
- Ты здесь, моя бедная Кусачка, - сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному - в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку.
- Пойдем со мной!
И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшею землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеной. Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.
- Дайте копеечку, - гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:
- А дрова колоть хочешь?
И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали. Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.
- Скучно, Кусака! - тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад. И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой. Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и - промокшая, грязная - вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке. Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. Наступила ночь. И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем. Собака выла - ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выла.
http://az.lib.ru/a/andreew_l_n/text_0182.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 03 Фев 2019, 19:32 | Сообщение # 28 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Артур Конан Дойл

ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ
Врачу с частной практикой, который утром и вечером принимает больных дома, а день тратит на визиты, трудно выкроить время, чтобы подышать свежим воздухом. Для этого он должен встать пораньше и выйти на улицу в тот час, когда магазины ещё закрыты, воздух чист и свеж и все предметы резко очерчены, как бывает в мороз. Этот час сам по себе очаровывает: улицы пусты, не встретишь никого, кроме почтальона и разносчика молока, и даже самая заурядная вещь обретает первозданную привлекательность, как будто и мостовая, и фонарь, и вывеска - все заново родилось для наступающего дня. В такой час даже удаленный от моря город выглядит прекрасным, а его пропитанный дымом воздух - и тот, кажется, несет в себе чистоту. Но я жил у моря, правда, в городишке довольно дрянном; с ним примирял только его великий сосед. Но я забывал его изъяны, когда приходил посидеть на скамейке над морем, - у ног моих расстилался огромный голубой залив, обрамленный желтым полумесяцем прибрежного песка. Я люблю, когда его гладь усеяна рыбачьими лодками; люблю, когда на горизонте проходят большие суда: самого корабля не видно, а только маленькое облачко надутых ветром парусов сдержанно и величественно проплывает вдали. Но больше всего я люблю, когда его озаряют косые лучи солнца, вдруг прорвавшиеся из-за гонимых ветром туч, и вокруг на много миль нет и следа человека, оскорбляющего своим присутствием величие Природы. Я видел, как тонкие серые нити дождя под медленно плывущими облаками скрывали в дымке противоположный берег, а вокруг меня все было залито золотым светом, солнце искрилось на бурунах, проникая в зеленую толщу волн и освещая на дне островки фиолетовых водорослей. В такое утро, когда ветерок играет в волосах, воздух наполнен криками кружащихся чаек, а на губах капельки брызг, со свежими силами возвращаешься в душные комнаты больных к унылой, скучной и утомительной работе практикующего врача.
В один из таких дней я и встретил моего старика. Я уже собирался уходить, когда он подошел к скамье. Я бы заметил его даже в толпе. Это был человек крупного сложения, с благородной осанкой, с аристократической головой и красиво очерченными губами. Он с трудом подымался по извилистой тропинке, тяжело опираясь на палку, как будто огромные плечи сделались непосильной ношей для его слабеющих ног. Когда он приблизился, я заметил синеватый оттенок его губ и носа, предостерегающий знак Природы, говорящий о натруженном сердце.
- Трудный подъем, сэр. Как врач, я бы посоветовал вам отдохнуть, а потом идти дальше, - обратился я к нему. Он с достоинством, по-старомодному поклонился и опустился на скамейку. Я чувствовал, что он не хочет разговаривать, и тоже молчал, но не мог не наблюдать за ним краешком глаза. Это был удивительно как дошедший до нас представитель поколения первой половины этого века: в шляпе с низкой тульей и загнутыми краями, в черном атласном галстуке и с большим мясистым чисто выбритым лицом, покрытым сетью морщинок. Эти глаза, прежде чем потускнеть, смотрели из почтовых карет на землекопов, строивших полотно железной дороги, эти губы улыбались первым выпускам «Пиквика» и обсуждали их автора - многообещающего молодого человека. Это лицо было своего рода летописью прошедших семидесяти лет, где как общественные, так и личные невзгоды оставили свой след; каждая морщинка была свидетельством чего то: вот эта на лбу, быть может, оставлена восстанием сипаев, эта - Крымской кампанией, а эти - мне почему-то хотелось думать - появились, когда умер Гордон. Пока я фантазировал таким нелепым образом, старый джентльмен с лакированной тростью как бы исчез из моего зрения, и передо мной воочию предстала жизнь нации за последние семьдесят лет.
Но он вскоре возвратил меня на землю. Отдышавшись, он достал из кармана письмо, надел очки в роговой оправе и очень внимательно прочитал его. Не имея ни малейшего намерения подсматривать, я все же заметил, что письмо было написано женской рукой. Он прочитал его дважды и так и остался сидеть с опущенными уголками губ, глядя поверх залива невидящим взором. Я никогда не видел более одинокого и заброшенного старика. Все доброе, что было во мне, пробудилось при виде этого печального лица. Но я знал, что он не был расположен разговаривать, и поэтому и ещё потому, что меня ждал мой завтрак и мои пациенты, я отправился домой, оставив его сидеть на скамейке. Я ни разу и не вспомнил о нем до следующего утра, когда в то же самое время он появился на мысу и сел рядом со мной на скамейку, которую я уже привык считать своей. Он опять поклонился перед тем как сесть, но, как и вчера, не был склонен поддерживать беседу. Он изменился за последние сутки, и изменился к худшему. Лицо его как-то отяжелело, морщин стало больше, он с трудом дышал, и зловещий синеватый оттенок стал заметнее. Отросшая за день щетина портила правильную линию его щек и подбородка, и он уже не держал свою большую прекрасную голову с той величавостью, которая так поразила меня в первый раз. В руках у него было письмо, не знаю то же или другое, но опять написанное женским почерком. Он по-стариковски бормотал над ним, хмурил брови и поджимал губы, как капризный ребенок. Я оставил его со смутным желанием узнать, кто же он и как случилось, что один-единственный весенний день мог до такой степени изменить его.
Он так заинтересовал меня, что на следующее утро я с нетерпением ждал его появления. Я опять увидел его в тот же час: он медленно поднимался, сгорбившись, с низко опущенной головой. Когда он подошел, я был поражен переменой, происшедшей в нем.
- Боюсь, что наш воздух не очень вам полезен, сэр, - осмелился я заметить. Но ему, по-видимому, было трудно разговаривать. Он попытался что-то ответить мне, но это вылилось лишь в бормотание, и он замолк. Каким сломленным, жалким и старым показался он мне, по крайней мере лет на десять старше, чем в тот раз, когда я впервые увидел его! Мне было больно смотреть, как этот старик - образец человеческой породы - таял у меня на глазах. Трясущимися пальцами он разворачивал свое неизменное письмо. Кто была эта женщина, чьи слова так действовали на него? Может быть, дочь или внучка, ставшая единственной отрадой его существования и заменившая ему... Я улыбнулся, обнаружив, как быстро я сочинил целую историю небритого старика и его писем и даже успел взгрустнуть над ней. И тем не менее он опять весь день не выходил у меня из головы, и передо мной то и дело возникали его трясущиеся, узловатые, с синими прожилками руки, разворачивающие письмо.Я не надеялся больше увидеть его. Ещё один такой день, думал я, и ему придется слечь в постель или по крайней мере остаться дома. Каково же было мое удивление, когда на следующее утро я опять увидел его на скамье. Но, подойдя ближе, я стал вдруг сомневаться, он ли это. Та же шляпа с загнутыми полями, та же лакированная трость и те же роговые очки, но куда делась сутулость и заросшее серой щетиной несчастное лицо? Щеки его были чисто выбриты, губы твердо сжаты, глаза блестели, и его голова, величественно, словно орел на скале, покоилась на могучих плечах. Прямо, с выправкой гренадера сидел он на скамье и, не зная, на что направить бьющую через край энергию, отбрасывал тростью камешки. В петлице его черного, хорошо вычищенного сюртука красовался золотистый цветок, а из кармана изящно выглядывал краешек красного шелкового платка. Его можно было принять за старшего сына того старика, который сидел здесь прошлое утро.
- Доброе утро, сэр, доброе утро! - прокричал старик весело, размахивая тростью в знак приветствия.
- Доброе утро, - ответил я. - Какое чудесное сегодня море!
- Да, сэр, но вы бы видели его перед восходом!
- Вы пришли сюда так рано?
- Едва стало видно тропинку, я был уже здесь.
- Вы очень рано встаете.
- Не всегда, сэр, не всегда.
Он хитро посмотрел на меня, как будто стараясь угадать, достоин ли я его доверия. - Дело в том, сэр, что сегодня возвращается моя жена.
Вероятно, на моем лице было написано, что я не совсем понимаю всей важности сказанного, но в то же время, уловив сочувствие в моих глазах, он пододвинулся ко мне ближе и заговорил тихим голосом, как будто то, что он хотел сообщить мне по секрету, было настолько важным, что даже чайками нельзя было это доверить. - Вы женаты, сэр?
- Нет.
- О, тогда вы вряд ли поймете! Мы женаты уже пятьдесят лет и никогда раньше не расставались, никогда.
- Надолго уезжала ваша жена? - спросил я.
- Да, сэр. На четыре дня. Видите ли, ей надо было поехать в Шотландию, по делам. Я хотел ехать с ней, но врачи мне запретили. Я бы, конечно, не стал их слушать, если бы не жена. Теперь, слава богу, все кончено, сегодня она приезжает и каждую минуту может быть здесь.
- Здесь?
- Да, сэр. Этот мыс и эта скамейка - наши старые друзья вот уже тридцать лет. Видите ли, люди, с которыми мы живем, нас не понимают, и среди них мы не чувствуем себя вдвоем. Поэтому мы встречаемся здесь. Я точно не знаю, каким поездом она приезжает, но даже если бы она приехала самым ранним, она бы уже застала меня здесь.
- В таком случае... - сказал я, поднимаясь.
- Нет, нет, сэр, не уходите. Прошу вас, останьтесь, если только я не наскучил вам своими разговорами.
- Напротив, мне очень интересно, - сказал я.
- Я столько пережил за эти четыре дня! Какой это был кошмар! Вам, наверное, покажется странным, что старый человек может так любить?
- Это прекрасно.
- Дело не во мне, сэр! Любой на моем месте чувствовал бы то же, если бы ему посчастливилось иметь такую жену. Наверное, глядя на меня и после моих рассказов о нашей долгой совместной жизни, вы думаете, что она тоже старуха?
Эта мысль показалась ему такой забавной, что он от души рассмеялся.
- Знаете, такие, как она, всегда молоды сердцем, поэтому они и не стареют. По-моему, она ничуть не изменилась с тех пор, как впервые взяла мою руку в свои; это было в сорок пятом году. Сейчас она, может быть, полновата, но это даже хорошо, потому что девушкой она была слишком уж тонка. Я не принадлежал к её кругу: я служил клерком в конторе её отца. О, это была романтическая история! Я завоевал её. И никогда не перестану радоваться своему счастью. Подумать только, что такая прелестная, такая необыкновенная девушка согласилась пройти об руку со мной жизнь и что я мог...
Вдруг он замолчал. Я удивленно взглянул на него. Он весь дрожал, всем своим большим телом, руки вцепились в скамейку, а ноги беспомощно скользили по гравию. Я понял: он пытался встать, о не мог, потому что был слишком взволнован. Я уже было протянул ему руку, но другое, более высокое соображение вежливости сдержало меня, я отвернулся и стал смотреть на море. Через минуту он был уже на ногах и торопливо спускался вниз по тропинке. Навстречу ему шла женщина. Она была уже совсем близко, самое большее в тридцати ярдах. Не знаю, была ли она когда-нибудь такой, какой он мне описал её, или это был только идеал, который создало его воображение. Я увидел женщину и в самом деле высокую, но толстую и бесформенную, её загорелое лицо было покрыто здоровым румянцем, юбка комично обтягивала её, корсет был тесен и неуклюж, а зеленая лента на шляпе так просто раздражала. И это было то прелестное, вечно юное создание! У меня сжалось сердце, когда я подумал, как мало такая женщина может оценить его и что она, быть может, даже недостойна такой любви. Уверенной походкой поднималась она по тропинке, в то время как он ковылял ей навстречу. Стараясь быть незамеченным, я украдкой наблюдал за ними. Я видел, как они подошли друг к другу, как он протянул к ней руки, но она, не желая, видимо, чтобы хоть кто-то был свидетелем их ласки, взяла одну его руку и пожала. Я видел её лицо в эти минуты и успокоился за моего старика. Дай бог, чтобы в старости, когда руки мои будут трястись, а спина согнется, на меня так же смотрели глаза женщины.
https://www.litmir.me/br/?b=8271&p=1

- Знаете ли вы «Отель Друо»? - спросил меня Жозеф Леборнь.
- Кто же его не знает!
- Тогда послушайте одну историю, и «Отель Друо» предстанет перед вами в новом свете. В один прекрасный день был объявлен аукцион, обещавший сенсацию. Речь шла не более не менее как о неизвестном полотне Рембрандта, которое некий антиквар, по фамилии Валь, целых 15 лет продержал в своей берлоге, пока, наконец, не решился продать. То был автопортрет художника. Исключительную ценность придавала ему не только подпись, но и дата - 1669, год смерти художника. Другого портрета Рембрандта тех лет не существует. Валь пригласил нескольких искусствоведов полюбоваться шедевром, и все в один голос признали его подлинным. Однако скептики перешептывались между собой: «Что еще скажут эксперты?». Неожиданно распространилась волнующая весть: в субботу после полудня какой-то прилично одетый молодой человек явился в галерею Друо с картиной под мышкой и от имени Валя передал ее директору отеля, сообщив при этом, что с завтрашнего дня в зале, где будет выставлено драгоценное полотно, начнет дежурить детектив. Размером картина была 60x70 см. и вставлена в гладкую раму из черного дуба. Не успел молодой человек уйти, как к директору явился посыльный и, вручив ему сверток точно такого же размера, исчез. Наконец в 5 час. в «Отель Друо» явился сам Валь, сияющий, и на глазах у оторопевшего директора распаковал картину, наделавшую столько шума.
Сцену эту невозможно описать! Перед директором оказались теперь не один Рембрандт, а целых 3, совершенно одинаковых, в одинаковых рамах, так что сам Валь уже не мог отличить свою картину от двух других. Немедленно уведомили полицию. Начались поиски молодого человека, принесшего первое полотно; искали посыльного, который доставил второе. Тесный мирок картинной галереи Друо был взбудоражен. К несчастью, в поисках лучшей экспозиции картины уже перевешивали с места на место, и владелец Рембрандта клялся, что отныне не может с уверенностью сказать, какая из них подлинная. 3 дня критики и наиболее известные антиквары толпились в выставочном зале. Мнения разделились. Чтобы помочь спорящим, на каждую раму наклеили ярлычок: №1, №2, №3. Одни отстаивали подлинность №1-го, другие - №2-го; у №3-го было мало защитников. Аукцион, естественно, отложили на неопределенное время. Следствие продолжалось, но ни молодого человека, ни посыльного найти не удалось...
Жозеф Леборнь, улыбаясь, пододвинул ко мне увеличенную фотографию подписей, проставленных под тремя картинами.
- А экспертиза? - спросил я. Леборнь расхохотался:
- Какая наивность! Вы что же, никогда не сталкивались с подобного рода делами? Недавно в Германии произошел скандал с поддельными полотнами Ван Гога. К делу привлекли десять экспертов, но между ними не было единодушия. После ожесточенных споров каждый из экспертов остался при своем мнении. 2 года назад, а Америке прогремела другая афера - фальсификация Рафаэля. Эксперты за счет владельца картины прокатились в Лондон, Берлин, Париж и Рим. По откровенному сообщению печати США, в сдержанности уступающей нашей, экспертиза превратилась в настоящий митинг: эксперты колотили друг друга зонтиками.
- А рентген?
- Еще больший повод для споров. В нашем случае по всем трем картинам был получен один и тот же результат.
- Анализ полотна под микроскопом?..
- Ничего не дал.
- А тщательное изучение трех подписей?
- Посмотрите сами... И попытайтесь сделать выводы.
- Где находилось полотно до того, как его доставили в галерею Друо?
- Какое полотно?
- Разумеется, то, которое принес Валь. Подлинное.
- В квартире Валя, на авеню Суффрен. Оно даже не висело, а было заперто в маленькой комнате, рядом с кабинетом хозяина.
- И долго пролежало там?
- Лет 15. С того времени, как Валь откопал свой шедевр на каком-то провинциальном аукционе. Картина была грязная и закоптелая, едва можно было различить, что на ней изображено, а подпись и вовсе стерлась. Но у Валя тонкий нюх. Он реставрировал портрет... Однако никому, кроме самых близких, не говорил о своей находке. Считанным людям выпало счастье полюбоваться ею. Валь же постоянно твердил: «Буду есть сухой хлеб, а Рембрандта не продам».
- Чем занимается этот Валь?
- Официально ничем. Он вечно толчется в «Отеле Друо», но широким размахом не отличается. Что-то покупает, что-то перепродает...
- И все-таки он решил расстаться со своим Рембрандтом?
- Он выдает замуж дочь.
- Стало быть, он женат?
- Вдов. Его единственной дочери 22 года. Жених ее комиссионер по продаже драгоценных камней.
- Валь богат?
- Живет довольно скромно. 2 служанки, недорогая квартира. Единственное его богатство, как утверждает он, - Рембрандт, с которым ему так не хотелось расставаться. Вот почему он рвал и метал, вот почему, стоя перед тремя полотнами, клялся, что разорен, и даже пытался покончить жизнь самоубийством.
- Каким образом?
- Принял веронал, но при первых признаках отравления дочь вызвала врача, и его спасли.
- Итак, аукцион не состоялся?
- Состоялся. Спустя 3 недели. А до того велись бесконечные споры, производились всякого рода экспертизы, и обычные и контрольные. Были напечатаны разноречивые заключения, а специалисты затеяли между собой острую полемику. В первую очередь заподозрили будущего зятя, поскольку он был единственный, кого допускали к картине. Но тот доказал, что не имеет к этому делу никакого отношения. Пришлось даже допросить двух-трех ни в чем не повинных оценщиков.
- А что представляют собой служанки?
- Одна - стара, ничего не знает, кроме своей кухни, на все вопросы отвечает что-то нечленораздельное и вообще производит впечатление выжившей из ума. Вторая - молодая девушка из Люксембурга. Следствие установило, что она спала в каморке на 6-ом этаже, о существовании картины понятия не имела и никогда никого не приводила в квартиру хозяина.
- Чем кончилось дело?
- Аукцион - один из самых памятных - все-таки состоялся. Завсегдатаи «Отеля Друо» собрались все, как один. Из Берлина и Амстердама приехали коллекционеры и любители живописи. 3 портрета висели рядом, представляя собой небывалое зрелище, ибо совпадали до мельчайших деталей. Валь был совершенно убит. Он подходил то к одной, то к другой группе посетителей и десятки раз, вновь и вновь, рассказывал о своем несчастье. «Я разорен, - твердил Валь. - Бандиты украли приданое моей бедной дочери. И все-таки картина здесь... здесь она, а я даже не могу ее опознать...»
- И нашлись покупатели?
- Цены на аукционе были бешеные. Самое забавное во всем этом, что картин было три. Следовательно, две из них никакой ценности не представляли. Аукцион напоминал скорее лотерею. Стоимость полотна №1 достигла без малого 200 тыс. франков. Ко всеобщему удивлению, в одном из покупателей узнали агента крупного американского коллекционера. Вот это и подстегнуло всех. Стоимость картины №2 достигла суммы в 300 тыс. франков. Никто не сомневался в том, что покупатель один и тот же; очевидно, он решил приобрести все 3 полотна, чтобы таким образом завладеть и подлинником. Это ему дорого обошлось. В «Отеле Друо» нет места сантиментам. Присутствовавшие на аукционе сразу поняли, что, уплатив даже такие огромные деньги, американец совершил бы неплохую сделку. Покупать 2 картины было бессмысленно. Необходимо за любые деньги купить все 3. Страсти разгорелись. Цена третьей картины достигла 400 тыс. франков, затем полумиллиона, перевалила этот головокружительный предел и была отдана за 700 тыс. франков тому же американскому агенту. Беднягу даже пот прошиб. 3 полотна, из которых только одно было подлинное, обошлись ему в 1 млн. 200 тыс. франков.
- Но в конце концов дознались, какое из трех подлинное?
- Нет, конечно! Теперь все три красуются рядом в галерее богатого американца, который ими немало гордится.
- Значит, тайна так и осталась неразгаданной?
- Для всех, кроме двух людей.
- Кто же они?
- Автор мистификации и... я
- Вы видели эти полотна?
- Нет. Я только распорядился сделать фотоснимки, которые вы держите в руках...
- Какая же из них подлинная? - спросил я, снова взглянув на подписи.
- Подлинной нет, - ответил Леборнь. - Все три портрета - подделка.
Я раскрыл рот от удивления, а Леборнь продолжал:
- Представьте себе человека, который решил попытать счастья. Антиквар этот, в общем, птица не крупного полета, но он хотел одним махом сорвать миллион. Не испугавшись подлога, он в один прекрасный день фабрикует означенного Рембрандта, вернее, трех сразу, совершенно схожих между собой. Он никому не показывает их, ограничиваясь лишь разговорами. Но один из этих автопортретов он все же демонстрирует кое-кому из близких в полумраке своего кабинета. Так рождается легенда об уникальном творении Рембрандта картине, которая не продается. О ней именно потому и заговорили, что она не продавалась. И еще потому, что Валь не разрешал никому из любителей живописи даже взглянуть на нее. Время шло. Картина, став предметом бесконечных толков, обрела жизнь. Отныне она у всех на устах! Неожиданно Валь объявляет о своем решении продать картину. Ему якобы нужно дать приданое дочери. Но он стонет. В душе у него смерть. Роковой час пробил! А что, если эксперты, налюбовавшись неизвестным полотном, установят фальсификацию? Но Валь не растерялся. Имея в своем распоряжении еще 2 полотна, он добился того, что экспертов уже не спрашивают: «Эта картина подлинная?» А спрашивают: «Какая же из этих трех действительно принадлежит кисти Рембрандта?». И завязался бой. Такова уж натура человеческая. Конкуренты неизбежно должны были сцепиться. Они ожесточенно дрались и за №1, и за №2, и за №3, который тоже имел своих защитников.
https://bookscafe.net/read/simenon_zhorzh-tri_rembrandta-60787.html#p1
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 01 Май 2019, 11:23 | Сообщение # 29 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
Небольшое селение, приютившееся над дальней речкой, в бору, тонуло в том особенном сумраке, которым полны весенние звездные ночи, когда тонкий туман, подымаясь с земли, сгущает тени лесов и застилает открытые пространства серебристо-лазурною дымкой… Все тихо, задумчиво, грустно...Церковь стоит на холмике в самой середине поселка. Скрипят ступени лестницы… Старый звонарь Михеич подымается на колокольню, и скоро его фонарик, точно взлетевшая в воздухе звезда, виснет в пространстве. Тяжело старику взбираться по крутой лестнице. Много уж раз встречал он весенний праздник, потерял счет и тому, сколько раз ждал урочного часа на этой самой колокольне. И вот привел Бог опять. Ему не нужно часов: Божьи звезды скажут ему, когда придет время…Он вспоминает, как в первый раз с тятькой взобрался на эту колокольню. Господи Боже, как это давно… и как недавно! Он видит себя белокурым мальчонкой; глаза его разгорелись; ветер, – не тот, что подымает уличную пыль, а какой-то особенный, высоко над землею машущий своими бесшумными крыльями, – развевает его волосенки. ..
Однако, пора. Взглянув еще раз на звезды, Михеич поднялся, снял шапку, перекрестился и стал подбирать веревки от колоколов. Через минуту ночной воздух дрогнул от гулкого удара. Другой, третий, четвертый… один за другим, наполняя чутко дремавшую предпраздничную ночь, полились властные, тягучие, звенящие и поющие тоны. Звон смолк. В церкви началась служба. В прежние годы Михеич всегда спускался по лестнице вниз и становился в углу, у дверей, чтобы молиться и слушать пение. Но теперь он остался на своей вышке. Глухо гудящие колокола тонули во мраке; внизу, из церкви, по временам слабым рокотом доносилось пение, и ночной ветер шевелил веревки, привязанные к железным колокольным сердцам…
– Михеич, а Михеич, что ж ты, али заснул? – кричат ему снизу
.– Ась? – откликнулся старик и быстро вскочил на ноги. - Господи! неужто и вправду заснул? Не было еще экаго сраму!
И Михеич быстро, привычною рукой, хватает веревки. Внизу, точно муравейник, движется мужичья толпа; хоругви бьются в воздухе, поблескивая золотистою парчой. Вот обошли крестным ходом вокруг церкви, и до Михеича доносится радостный клич: «Христос воскресе из мертвых!» И отдается этот клич волною в старческом сердце… И кажется Михеичу, что ярче вспыхнули в темноте огни восковых свечей, и сильней заволновалась толпа и забились хоругви, и проснувшийся ветер подхватил волны звуков и широкими взмахами понес их ввысь, сливая с громким, торжественным звоном…
Никогда еще так не звонил старый Михеич. Казалось, его переполненное старческое сердце перешло в мертвую медь, и звуки точно пели и трепетали, смеялись и плакали и, сплетаясь чудною вереницей, неслись вверх, к самому звездному небу. И звезды вспыхивали ярче, разгорались, а звуки дрожали и лились, и вновь припадали к земле с любовною лаской… Большой бас громко вскрикивал и кидал властные, могучие тоны, оглашавшие небо и землю: «Христос воскресе!» И два тенора, вздрагивая от поочередных ударов железных сердец, подпевали ему радостно и звонко: «Христос воскресе!» А два самые маленькие дисканта, точно торопясь, чтобы не отстать, вплетались между больших и радостно, точно малые ребята, пели вперегонку: «Христос воскресе!» И казалось, старая колокольня дрожит и колеблется, и ветер, обвевающий лицо звонаря, трепещет могучими крыльями и вторит: «Христос воскресе!» И старое сердце забыло про жизнь, полную забот и обиды.
https://www.litmir.me/br/?b=567751&p=1
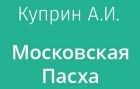
Московские бульвары зеленеют первыми липовыми листочками. От вкрадчивого запаха весенней земли щекотно в сердце. По синему небу плывут разметанные веселые облачки; когда смотришь на них, то кажется, что они кружатся, или это кружится пьяная от весны голова? Гудит, дрожит, поет, заливается, переливается над Москвой неумолчный разноголосый звон всех ее голосистых колоколов.
Kаждый московский мальчик, даже сильно захудалый, самый сопливый, самый обойденный судьбою, имеет в эти пасхальные дни полное, неоспоримое, освященное веками право залезать на любую колокольню и, жадно дождавшись очереди, звонить сколько ему будет угодно, пока не надоест, в любой из колоколов, хоть в самый огромадный, если только хватит сил раскачать его сорокапудовый язык и мужества выдержать его оглушающий, сотрясающий все тело медный густой вопль. Стаи голубей, диких и любительских, носятся в голубой, чистой вышине, сверкая одновременно крыльями при внезапных поворотах, и то темнея, то серебрясь и почти растаивая на солнце.
Kак истово нарядна, как старинно красива коренная, кондовая, прочная, древняя Москва. На мужчинах темно синие поддевки и новые картузы, из под которых гладким кругом лежат на шее ровно обстриженные, блестящие маслом волосы. Выпущенные из под жилеток косоворотки радуют глаз синим, красным, белым и канареечным цветом или веселым узором в горошек. Kак румяны лица, как свежи и светлы глаза у женщин и девушек, как неистово горят на них пышные разноцветные московские ситцы, как упоительно пестрят на их головах травками и розанами палевые кашемировые платки и как степенны на старухах прабабушкины шали, шоколадные, с желтыми и красными разводами в виде больших вопросительных знаков! И все целуются, целуются, целуются… Сплошной чмок стоит над улицей: закрой глаза – и покажется, что стая чечеток спустилась на Москву. Непоколебим и великолепен обряд пасхального поцелуя. Вот двое осанистых степенных бородачей издали приметили друг друга, и руки уже распространились, и лица раздались вширь от сияющих улыбок. Наотмашь опускаются картузы вниз; обнажая расчесанные на прямой пробор густоволосые головы. Kрепко соединяются руки. «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» Головы склоняются направо – поцелуй в левые щеки, склоняются налево – в правые, и опять в левые. И все это не торопясь, важевато.
- Где заутреню стояли?
- У Спаса на Бору. А вы?
- Я у Покрова в Kудрине, у себя.
Воздушные шары покачиваются высоко над уличным густым движением на невидимых нитках разноцветными упругими легкими весенними гроздьями. Халва и мармелад, пастила, пряники, орехи на лотках. Мальчики на тротуарах у стен катают по желобкам яйца и кокаются ими. Kто кокнул до трещины – того и яйцо. Пасхальный стол, заставленный бутылками и снедью. Запах гиацинтов и бархатных жонкилий. Солнцем залита столовая. Восторженно свиристят канарейки.
Юнкер Александровского училища в новеньком мундирчике, в блестящих лакированных сапогах, отражающихся четко в зеркальном паркете, стоит перед милой лукавой девушкой. На ней воздушное платье из белой кисеи на розовом чехле. Розовый поясок, роза в темных волосах.
- Христос воскресе, Ольга Александровна, – говорит он, протягивая яичко, расписанное им самим акварелью с золотом
- Воистину!
- Ольга Александровна, вы знаете, конечно, православный обычай…
- Нет, нет, я не христосуюсь ни с кем
- Тогда вы плохая христианка. Ну, пожалуйста. Ради великого дня!
Полная важная мамаша покачивается у окна под пальмой в плетеной качалке. У ног ее лежит большой рыжий леонбергер.

- Оля, не огорчай юнкера. Поцелуйся
- Хорошо, но только один раз, больше не смейте.
Kонечно, он осмелился. О, каким пожаром горят нежные атласные прелестные щеки. Губы юноши обожжены надолго. Он смотрит: ее милые розовые губы полуоткрыты и смеются, но в глазах влажный и глубокий блеск.
- Ну, вот и довольно с вас. Чего хотите? Пасхи? Kулича? Ветчины? Хереса?
А радостный, пестрый, несмолкаемый звон московских колоколов льется сквозь летние рамы окон..
http://kuprin-lit.ru/kuprin/proza/moskovskaya-pasha.htm

Быстро быстро промчались впечатления вчерашнего дня и Великой ночи: плащаница в суровой холодной темноте собора, воздержание от еды до разговения, дорога в церковь, в тишине и теплоте апрельского синего вечера, заутреня, крестный ход, ликующая встреча восставшего из гроба Христа, восторженное пение хора, подвижная, радостная служба, клир в светлых сияющих парчовых ризах, блеск тысяч свечей, сияющие лица, поцелуи; чудесная дорога домой, когда так нежно сливаются в душе усталость и блаженство, дома огни, добрый смех, яйца, кулич, пасха, ветчина и две рюмочки сладкого портвейна; глаза слипаются; в доме много народа, поэтому тебе стелят постель на трех стульях, поставленных рядком; погружаешься в сон, как камень падает в воду.
Утром проснулся я, и первое, еще не осознанное впечатление большой – нет! – огромной радости, которой как будто бы пронизан весь свет: люди, звери, вещи, небо и земля. Побаливает затылок, также спина и ребра, помятые спаньем в неудобном положении на жесткой подстилке, на своей же кадетской шинельке с медными пуговицами. Но что за беда? Солнце заливает теплым текучим золотом всю комнату, расплескиваясь на обойном узоре. Господи! Как еще велик день впереди, со всеми прелестями каникул и свободы, с невинными чудесами, которые тебя предупредительно ждут на каждом шагу! Как невыразимо вкусен душистый чай (лянсин императорский!) с шафранным куличом и с пасхой, в которой каких только нет приправ: и марципан, и коринка, и изюм, и ваниль, и фисташки.
Но ешь и пьешь наспех. Неотразимо зовет улица, полная света, движения, грохота, веселых криков и колокольного звона. Скорее, скорее!На улице сухо, но волнующе, по весеннему, пахнет камнем тротуаров и мостовой, и как звонко разносятся острые детские крики! Высоко в воздухе над головами толпы плавают и упруго дергаются разноцветные воздушные шары на невидимых нитках. Галки летят крикливыми стаями… Но раньше всего – на колокольню! Все ребятишки Москвы твердо знают, что в первые три дня Пасхи разрешается каждому человеку лазить на колокольню и звонить, сколько ему будет удобно. Даже и в самый большой колокол! Вот и колокольня. Темноватый ход по каменной лестнице, идущей винтом. Сыро и древне пахнут старые стены. А со светлых площадок все шире и шире открывается Москва .
Колокола. Странная система веревок и деревянных рычагов педалей, порою повисших совсем в воздухе, почти наружу. Есть колокола совсем маленькие: это дети; есть побольше – юноши и молодые люди, незрелые, с голосами громкими и протяжными: в них так же лестно позвонить мальчугану, как, например, едучи на извозчике, посидеть на козлах и хоть с минуту подержать вожжи. Но вот и Он, самый главный, самый громадный колокол собора; говорят, что он по величине и по весу второй в Москве, после Ивановского, и потому он – гордость всей Пресни.Трудно и взрослому раскачать его массивный язык; мальчишкам это приходится делать артелью. Восемь, десять, двенадцать упорных усилий и, наконец, – баммм… Такой оглушительный, такой ужасный, такой тысячезвучный медный рев, что больно становится в ушах и дрожит каждая частичка тела. Это ли не удовольствие? Самый верхний этаж – и вот видна вокруг вся Москва: и Кремль, и Симонов монастырь, и Ваганьково, и Лефортовский дворец, и синяя изгибистая полоса Москва реки, все церковные купола и главки: синие, зеленые, золотые, серебряные… Подумать только: сорок сороков! И на каждой колокольне звонят теперь во все колокола восхищенные любители. Вот так музыка! Где есть в мире такая? Небо густо синеет – и кажется таким близким, что вот вот дотянешься до него рукою. Встревоженные голуби кружатся стаями высоко в небе, то отливая серебром, то темнея.И видишь с этой верхушки, как плывут, чуть не задевая за крест колокольни, пухлые серьезные белые облака, точно слегка кружась на ходу.
http://kuprin-lit.ru/kuprin/proza/pashalnye-kolokola.htm
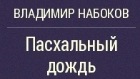
В этот день одинокая и старая швейцарка, Жозефина Львовна, как именовали ее в русской семье, где прожила она некогда двенадцать лет, - купила полдюжины яиц, черную кисть и две пурпурных пуговицы акварели. В этот день цвели яблони, и реклама кинематографа на углу отражалась кверх ногами в гладкой луже, и утром горы за озером Лемана были подернуты сплошной шелковистой дымкой, подобной полупрозрачной бумаге, которой покрываются офорты в дорогих книгах. Дымка обещала погожий день, но солнце только скользнуло по крышам косых каменных домишек, по мокрым проволокам игрушечного трамвая, и снова растаяло в туманах; день выдался тихий, по-весеннему облачный, а к вечеру пахнуло с гор тяжелым ледяным ветром, и Жозефина, шедшая к себе домой, так закашлялась, что в дверях пошатнулась, побагровела, оперлась на свой туго спеленутый зонтик, узкий, как черная трость. В комнате уже было темно. Когда она зажгла лампу, осветились ее руки, худые, обтянутые глянцевитой кожей, в старческих веснушках, с белыми пятнышками на ногтях. Жозефина разложила на столе свои покупки, сбросила пальто и шляпу на постель, налила воды в стакан и, надев пенсне с черными ободками, от которых темно-серые глаза ее стали строгими под густыми, траурными бровями, сросшимися на переносице, - принялась красить яйца. Но оказалось, что акварельный кармин почему-то не пристает, надо было, пожалуй, купить какой-нибудь химической краски, да она не знала, как спрашивать, постеснялась объяснить. Подумала: не пойти ли к знакомому аптекарю, заодно достала бы аспирину. Тело было так вяло, от жара ныли глазные яблоки; хотелось тихо сидеть, тихо думать.
Сегодня у русских страстная суббота. Когда-то на Невском проспекте оборванцы продавали особого рода щипцы. Этими щипцами было так удобно захватить и вынуть яйцо из горячей темно-синей или оранжевой жидкости. Но были также и деревянные ложки; легко и плотно постукивали о толстое стекло стаканов, в которых пряно дымилась краска. Яйца потом сохли по кучкам - красные с красными, зеленые с зелеными. И еще иначе расцвечивали их: туго обертывали в тряпочки, подложив бумажку декалькомани, похожую на образцы обоев. И после варки, когда лакей приносил обратно из кухни громадную кастрюлю, так занятно было распутывать нитки, вынимать рябые, мраморные яйца из влажных, теплых тряпок; от них шел нежный пар, детский запашок. Странно было старой швейцарке вспоминать, что, живя в России, она тосковала, посылала на родину, друзьям, длинные, меланхолические, прекрасно написанные письма о том, что она всегда чувствует себя лишней, непонятой. Ежедневно после завтрака ездила она кататься с воспитанницей Элен в широком открытом ландо; и рядом с толстым задом кучера, похожим на исполинскую синюю тыкву, сутулилась спина старика-выездного, - золотые пуговицы, кокарда.
И из русских слов она только и знала что: кутчер, тиш-тиш, нитчего…Петербург покинула она со смутным облегчением, как только началась война. Ей казалось, что теперь она без конца будет наслаждаться болтовней вечерних друзей, уютом родного городка. А вышло как раз наоборот: настоящая ее жизнь, то есть та часть жизни, когда человек острее и глубже всего привыкает к вещам и к людям, протекла там, в России, которую она бессознательно полюбила, поняла и где нынче Бог весть что творится… А завтра - православная Пасха.
Жозефина Львовна шумно вздохнула, встала, прикрыла плотнее оконницу. Посмотрела на часы, - черные, на никелевой цепочке. Надо было все-таки что-нибудь сделать с яйцами этими: она предназначила их в подарок Платоновым, пожилой русской чете, недавно осевшей в Лозанне, в родном и чуждом ей городке, где трудно дышать, где дома построены случайно, вповалку, вкривь и вкось вдоль крутых угловатых улочек. Она задумалась, слушая гул в ушах, потом встрепенулась, налила в жестяную банку пузырек лиловых чернил и осторожно опустила туда яйцо. Дверь тихо отворилась. Вошла, как мышь, соседка, м-ль Финар, тоже бывшая гувернантка, - маленькая, худенькая, с подстриженными, сплошь серебряными волосами, закутанная в черный платок, отливающий стеклярусом. Жозефина, услыша ее мышиные шажки, неловко прикрыла газетой банку, яйца, что сохли на промокательной бумаге: - Что вам нужно? Я не люблю, когда входят ко мне так…
М-ль Финар боком взглянула на взволнованное лицо Жозефины, ничего не сказала, но страшно обиделась и молча, все той же мелкой походкой, вышла из комнаты. Яйца были теперь ядовито-фиолетового цвета. На одном - непокрашенном - она решила начертить две пасхальных буквы, как это всегда делалось в России. Первую букву «Х» написала хорошо, но вторую никак не могла правильно вспомнить, и в конце концов вышло у нее вместо «В» нелепое кривое «Я». Когда чернила совсем высохли, она завернула яйца в мягкую туалетную бумагу и вложила их в кожаную свою сумку. Но какая мучительная вялость. Хотелось лечь в постель, выпить горячего кофе, вытянуть ноги. Знобило, кололо веки… И когда она вышла на улицу, снова сухой треск кашля подступил к горлу. На дворе было пустынно, сыро и темно. Платоновы жили неподалеку. Они сидели за чайным столом, и Платонов, плешивый, с жидкой бородкой, в саржевой рубахе с косым воротом, набивал в гильзы желтый табак, когда, стукнув в дверь набалдашником зонтика, вошла Жозефина Львовна. - А, добрый вечер, Mademoiselle…
Она подсела к ним, безвкусно и многословно заговорила о том, что завтра - русская Пасха. Вынула по одному фиолетовые яйца из сумки. Платонов приметил то, на котором лиловели буквы «Х. Я.», и рассмеялся.
- Что это она еврейские инициалы закатила…
Жена его, полная дама со скорбными глазами, в желтом парике, вскользь улыбнулась; равнодушно стала благодарить, растягивая французские гласные. Жозефина не поняла, почему засмеялись. Ей стало жарко и грустно. Опять заговорила; чувствовала, что говорит совсем не то, но не могла остановиться:
- Да, в этот момент в России нет Пасхи. Это бедная Россия. О, я помню, как целовались на улицах. И моя маленькая Элен была в этот день как ангел… О, я по целым ночам плачу, когда думаю о вашей прекрасной родине…
Платоновым было всегда неприятно от этих разговоров. Как разорившиеся богачи скрывают нищету свою, становятся еще горделивее, неприступнее, так и они никогда не толковали с посторонними о потерянной родине, и потому Жозефина считала втайне, что они России не любят вовсе. Обычно, когда она приходила к ним, ей казалось, что вот начнет она говорить со слезами на глазах об этой прекрасной России, и вдруг Платоновы расплачутся и станут тоже вспоминать, рассказывать, и будут они так сидеть втроем всю ночь, вспоминая и плача, и пожимая друг другу руки. А на самом деле этого не случалось никогда… Платонов вежливо и безучастно кивал бородкой, а жена его все норовила расспросить, где подешевле можно достать чаю, мыла. Платонов принялся вновь набивать папиросы; жена его ровно раскладывала их в картонной коробке. Оба они рассчитывали прилечь до того, как пойти к заутрене, в греческую церковь за углом. Хотелось молчать, думать о своем, говорить одними взглядами, особыми, словно рассеянными улыбками, о сыне, убитом в Крыму, о пасхальных мелочах, о домовой церкви на Почтамтской, а тут эта болтливая сентиментальная старуха с тревожными темно-серыми глазами, пришла, вздыхает, и так будет сидеть до того времени, пока они сами не выйдут из дому.
Жозефина замолкла: жадно мечтала о том, что, быть может, ее пригласят тоже пойти в церковь, а после - разговляться. Знала, что накануне Платоновы пекли куличи, и хотя есть она, конечно, не могла, слишком знобило, но все равно, было бы хорошо, тепло, празднично. Платонов скрипнул зубами, сдерживая зевок, и украдкой взглянул себе на кисть, на циферблат под решеточкой. Жозефина поняла, что ее не позовут. Встала.
- Вам нужно немного отдыха, мои добрые друзья. Но до того, как уйти, я хочу вам сказать…
И, близко подойдя к Платонову, который встал тоже, она звонко и фальшиво воскликнула: - Кристосе Воскресе. Это была ее последняя надежда вызвать взрыв горячих сладких слез, пасхальных поцелуев, приглашенья разговеться вместе… Но Платонов только расправил плечи и спокойно засмеялся.
- Ну вот видите, Mademoiselle, вы прекрасно произносите по-русски…
Выйдя на улицу, она разрыдалась и шла, прижимая платок к глазам, слегка пошатываясь и постукивая по панели шелковой тростью зонтика. Небо было глубоко и тревожно: смутная луна, тучи, как развалины. У освещенного кинематографа отражались в луже вывернутые ступни курчавого Чаплина. А когда Жозефина проходила под шумящими, плачущими деревьями вдоль озера, подобного стене тумана, то увидела: на краю небольшого мола жидко светится изумрудный фонарь, а в черную шлюпку, что хлюпала внизу, влезает что-то большое, белое. Присмотрелась сквозь слезы: громадный старый лебедь топорщился, бил крылом, и вот, неуклюжий, как гусь, тяжко перевалился через борт; шлюпка закачалась, зеленые круги хлынули по черной маслянистой воде, переходящей в туман. Жозефина подумала - не пойти ли все-таки в церковь? Но так случилось, что в Петербурге она только бывала в красной кирке, в конце Морской улицы, и теперь в православный храм входить было совестно, не знала, когда креститься, как складывать пальцы, - могли сделать замечание.
Прохватывал озноб. В голове путались шелесты, чмоканье деревьев, черные тучи, и воспоминанья пасхальные - горы разноцветных яиц, смуглый блеск Исаакия… Туманная, оглушенная, она кое-как дотащилась до дому, поднялась по лестнице, стукаясь плечом о стену, и потом, шатаясь, отбивая зубами дробь, стала раздеваться, ослабела и с блаженной, изумленной улыбкой повалилась на постель. Бред, бурный, могучий, как колокольное дыхание, овладел ею. Горы разноцветных яиц рассыпались с круглым чоканьем; не то солнце, не то баран из сливочного масла, с золотыми рогами, ввалился через окно и стал расти, жаркой желтизной заполнил всю комнату. А яйца взбегали, скатывались по блестящим дощечкам, стукались, трескалась скорлупа, и на белке были малиновые подтеки…
Так пробредила она всю ночь, и только утром еще обиженная м-ль Финар вошла к ней и ахнула, всполошилась, побежала за доктором: - Крупозное воспаление в легком, Mademoiselle. Сквозь волны бреда мелькали: цветы обоев, серебряные волосы старушки, спокойные глаза доктора, - мелькали и расплывались, и снова взволнованный гул счастья обдавал душу, сказочно синело небо, как гигантское крашеное яйцо, бухали колокола и входил кто-то, похожий не то на Платонова, не то на отца Элен, и, входя, развертывал газету, клал ее на стол, а сам садился поодаль и поглядывал то на Жозефину, то на белые листы, со значительной, скромной, слегка лукавой улыбкой. И Жозефина знала, что там, в этой газете, какая-то дивная весть, но не могла, не умела разобрать черный заголовок, русские буквы, а гость все улыбался и поглядывал значительно, и казалось, что вот-вот он откроет ей тайну, утвердит счастье, что предчувствовала она, - но медленно таял человек, наплывало беспамятство - черная туча…И потом опять запестрели бредовые сны, катилось ландо по набережной, Элен лакала с деревянной ложки горячую яркую краску, и широко сияла Нева, и Царь Петр вдруг спрыгнул с медного коня, разом опустившего оба копыта, и подошел к Жозефине, с улыбкой на бурном, зеленом лице, обнял ее, поцеловал в одну щеку, в другую, и губы были нежные, теплые, - и когда в третий раз он коснулся ее щеки, она со стоном счастия забилась, раскинула руки и вдруг затихла.
Рано утром, на шестой день болезни, после кризиса, Жозефина Львовна очнулась. В окне светло мерцало белое небо, шел отвесный дождь, шелестел, журчал по желобам. Мокрая ветка тянулась вдоль стекла, и лист на самом конце все вздрагивал под дождевыми ударами, нагибался, ронял с зеленого острия крупную каплю, вздрагивал опять, и опять скатывался влажный луч, свисала длинная, светлая серьга, падал. И Жозефине казалось, что дождевая прохлада течет по ее жилам, она не могла оторвать глаза от струящегося неба - и дышащий, млеющий дождь был так приятен, так умилительно вздрагивал лист, что захотелось ей смеяться, - смех наполнил ее, но еще был беззвучным, переливался по телу, щекотал нёбо - вот-вот вырвется сейчас. Что-то зацарапало и вздохнуло, слева, в углу комнаты. Вся дрожа от смеха, растущего в ней, она отвела глаза от окна, повернула лицо: на полу ничком лежала старушка в черном платке, серебристые подстриженные волосы сердито тряслись, она ерзала, совала руку под шкаф, куда закатился клубок шерсти. Черная нить ползла из-под шкафа к стулу, где остались спицы и недовязанный чулок. И, увидя черную спину м-ль Финар, ерзающие ноги, сапожки на пуговицах, Жозефина выпустила прорывающийся смех, затряслась, воркуя и задыхаясь, под пуховиком своим, чувствуя, что воскресла, что вернулась издалека, из тумана счастия, чудес, пасхального великолепия.
http://nabokov-lit.ru/nabokov/rasskaz/pashalnyj-dozhd.htm

«ПАНОРАМА МОСКВЫ»
Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!.. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Беетговена, в которой густой рев контр-баса, треск литавр, с пением скрыпки и флейты, образуют одно великое целое; и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!..
О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое мшистое окно, к которому привела вас истертая, скользкая витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что все это для вас одних, что вы царь этого невещественного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые!.. Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир - с высоты! На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романическая Марьина роща, и пред нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью бульваров, устроенных на древнем городском валу; на крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада - Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, все хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться. Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами.
Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою взирающий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России!.. На восток картина еще богаче и разнообразнее: за самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башнею, покрытой, как чешуею, зелеными черепицами; немного левее этой башни являются бесчисленные куполы церкви Василия Блаженного, семидесяти приделам которой дивятся все иностранцы и которую ни один русский не потрудился еще описать подробно. Она, как древний Вавилонский столп, состоит из нескольких уступов, кои оканчиваются огромной, зубчатой, радужного цвета главой, чрезвычайно похожей (если простят мне сравнение) на хрустальную граненую пробку старинного графина. Кругом нее рассеяно по всем уступам ярусов множество второклассных глав, совершенно не похожих одна на другую; они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отрасли старого дерева, пресмыкающиеся по обнаженным корням его.
Витые тяжелые колонны поддерживают железные кровли, повисшие над дверями и наружными галереями, из коих выглядывают маленькие темные окна, как зрачки стоглазого чудовища. Тысячи затейливых иероглифических изображений рисуются вокруг этих окон; изредка тусклая лампада светится сквозь стекла их, загороженные решетками, как блещет ночью мирный светляк сквозь плюш, обвивающий полуразвалившуюся башню. Каждый придел раскрашен снаружи особенною краской, как будто они не были выстроены все в одно время, как будто каждый владетель Москвы в продолжение многих лет прибавлял по одному, в честь своего ангела. Весьма немногие жители Москвы решались обойти все приделы сего храма. Его мрачная наружность наводит на душу какое-то уныние; кажется, видишь перед собою самого Иоанна Грозного - но таковым, каков он был в последние годы своей жизни! И что же ? - рядом с этим великолепным, угрюмым зданием, прямо против его дверей, кипит грязная толпа, блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булочники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину; гремят модные кареты, лепечут модные барыни... все так шумно, живо, непокойно!.. Вправо от Василия Блаженного, под крутым скатом, течет мелкая, широкая, грязная Москва-река, изнемогая под множеством тяжких судов, нагруженных хлебом и дровами; их длинные мачты, увенчанные полосатыми флюгерями, встают из-за Москворецкого моста, их скрыпучие канаты, колеблемые ветром, как паутина, едва чернеют на голубом небосклоне. На левом берегу реки, глядясь в ее гладкие воды, белеет воспитательный дом, коего широкие голые стены, симметрически расположенные окна и трубы и вообще европейская осанка резко отделяются от прочих соседних зданий, одетых восточной роскошью или исполненных духом средних веков. Далее к востоку на трех холмах, между коих извивается река, пестреют широкие массы домов всех возможных величин и цветов; утомленный взор с трудом может достигнуть дальнего горизонта, на котором рисуются группы нескольких монастырей, между коими Симонов примечателен особенно своею, почти между небом и землей висящею платформой, откуда наши предки наблюдали за движениями приближающихся татар.
К югу, под горой, у самой подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот, протекает река, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церквями, простирается до самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидал его вещее пламя: этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение! На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки (ибо она, будучи построена после французов, не имеет внутри ни потолков, ни лестниц, и стены ее росперты крестообразно поставленными брусьями), возвышаются арки Каменного моста, который дугою перегибается с одного берега на другой; вода, удержанная небольшой запрудой, с шумом и пеною вырывается из-под него, образуя между сводами небольшие водопады, которые часто, особливо весною, привлекают любопытство московских зевак, а иногда принимают в свои недра тело бедного грешника. Далее моста, по правую сторону реки, отделяются на небосклоне зубчатые силуэты Алексеевокого монастыря; по левую, на равнине между кровлями купеческих домов, блещут верхи Донского монастыря... А там, за ним, одеты голубым туманом, восходящим от студеных волн реки, начинаются Воробьевы горы, увенчанные густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой серебристою чешуей. Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и окрестные холмы, тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всем ее блеске, ибо, подобно красавице, показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление.
Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?..
Он алтарь России, на нем должны совершаться и уже совершались многие жертвы, достойные отечества... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?..
Что величественнее этих мрачных храмин, тесно составленных в одну кучу, этого таинственного дворца Годунова, коего холодные столбы и плиты столько лет уже не слышат звуков человеческого голоса, подобно могильному мавзолею, возвышающемуся среди пустыни в память царей великих?!
Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно... Надо видеть, видеть... надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению!..
Юнкер Л.Г. Гусарского Полка Лермантов
http://poesias.ru/proza/lermontov-mihail/lermontov1006.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 18 Июл 2019, 22:57 | Сообщение # 30 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Иван Бунин
"СОЛНЕЧНЫЙ УДАР"

После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом, - все было прелестно в этой маленькой женщине, - и сказала:
- Я, кажется, пьяна... Откуда вы взялись? 3 часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно... Это у меня голова кружится или мы куда-то поворачиваем?
Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный, мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону: пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани. Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежанья под южным солнцем, на горячем морском песке (она сказала, что едет из Анапы). Поручик пробормотал:
- Сойдем...
- Куда? - спросила она удивленно.
- На этой пристани.
- Зачем?
Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.
- Сумасшествие..,
- Сойдем, - повторил он тупо. - Умоляю вас...
- Ах. Да делайте, как хотите, - сказала она, отворачиваясь.
Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Код головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни... Поручик кинулся за вещами. Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий, по ступицу, песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору, среди редких кривых фонарей, по мягкой от пыли дороге, показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой, вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города...
Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике, - и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой... В десять утра солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и - уже рассудительна.
- Нет, нет, милый, - сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе, - нет, вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не булет больше. На меня точно затмение нашло... Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара...
И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, - как раз к отходу розового Самолета, - при всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад. Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уж изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею - и пуст. Это было странно! еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате.
- Странное приключение! - сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. - "Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать" И уже уехала...
Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван... Да, вот и конец этому "дорожному приключению"! Уехала - и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную, блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор. И прости, и уже навсегда, навеки. Потому что где же они теперь могут встретиться? "Не могу же я,- подумал он,- не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь!"
И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом, и мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть! Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно! И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние. "Что за черт! - подумал он, вставая, опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. - Да что же это такое со мной? И что в ней особенного и что, собственно, случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар! И главное, как же я проведу теперь, без нее, целый день в этом захолустье?"
Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса... Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно, но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство - то странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь! "А главное,- подумал он,- ведь и никогда уже не скажешь! И что делать, как прожить этот бесконечный день, с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой, в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход!"
Нужно было спасаться, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами, по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд. Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке, и спокойно курил цигарку. Поручик взглянул на него растерянно и с изумлением: как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? "Вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе", - подумал он, направляясь к базару. Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди возов с огурцами, среди новью мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность, мужики оглушали его, кричали ему: "Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!" Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга, потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной светло-стальной ширью реки. Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. Околыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало. Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом, заказал ботвинью со льдом.
Все было хорошо, во всем было безмерное счастье, великая радость: даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость, а вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один, нынешний день, - провести только затем, только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее. Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем, но это было необходимее жизни. - Совсем разгулялись нервы! - сказал он, наливая пятую рюмку водки.
Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать: что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться - он это чувствовал слишком живо - было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы: "Отныне вся моя жизнь навеки, до гроба, ваша, в вашей власти". Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился: он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и 3-летняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее! Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила: - А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?
На углу, возле почты, была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых эполетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами. Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено, - да, поражено, он теперь понимал это, - этим страшным "солнечным ударом", слишком большой любовью, слишком большим счастьем! Он взглянул на чету новобрачных - молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе, - перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе набекрень. Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы. - Куда идти? Что делать?
Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, 2-этажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души; белая густая пыль лежала на мостовой; и все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбатилась и упиралась в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь, Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик, с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее, - только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике! Он снял китель и взглянул на себя в зеркало: лицо его, - обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесыми, выгоревшими от солнца усами и голубоватой белизной глаз, от загара казавшихся еще белее, - имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего, безмолвного волжского мира. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы - и наконец заснул, а когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи. И вчерашний день и нынешнее утро вспомнились так, точно они были десять лет тому назад.
Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет, долго пил чай с лимоном. Потом приказал привести извозчика, вынести вещи и, садясь в пролетку, на ее рыжее, выгоревшее сиденье, дал лакею целых 5 руб.
- А похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью! - весело сказал извозчик, берясь за вожжи. Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода. - В аккурат доставил! - сказал извозчик заискивающе. Поручик и ему дал 5 руб., взял билет, прошел на пристань. Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами, потом летящий конец, шум закипевшей и побежавшей вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода. И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней. Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло и ее давеча утром. Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на 10 лет.
http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2240.shtml

Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое горе: был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами, - от страха и от своей беспомощности. Что сделать, чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть... Стукнуло в прихожей, - Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул:
- Ну что, барыня, как? Не полегчало?
- Куда там, Нефедушка! Верно, и не выживет! Все какие-то красные лапти просит...
- Лапти? Что за лапти такие?
- А господь его знает. Бредит, весь огнем горит...
Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки - все в снегу, все обмерзло... И вдруг твердо:
- Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать.
- Как добывать?
- В Новоселки идти. В лавку. Покрасить фуксином нехитрое дело.
- Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас дойти!
Еще подумал.
- Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то...
И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море.
Пообедали, стало смеркаться, смерклось - Нефеда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если бог донес. Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но оттого, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что́ теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол, за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя (и как будто вполне разумно) дать ему красные лапти:
- Мамочка, дай! Мамочка, дорогая, ну что тебе стоит!
И мать кидалась на колени и била себя в грудь:
- Господи, помоги! Господи, защити!
А когда наконец рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый, зловещий стук в окно. Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, - белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефеда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело - оказывается, знакомый человек... Тем только и спаслись - поняли, что, значит, эти луга хуторские, протасовские, и что на горе, в двух шагах жилье. За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином.
22 июня 1924.
https://libking.ru/books....ti.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 05 Сен 2019, 22:56 | Сообщение # 31 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | К 136-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ И.С. ТУРГЕНЕВА

"Стихотворения в прозе Тургенева - это удивительный сплав поэзии и прозы в некое единство, позволяющее вместить целый мир в зерно небольших размышлений".
РОЗА

Последние дни августа… Осень уже наступала. Солнце садилось. Внезапный порывистый ливень, без грому и без молний, только что промчался над нашей широкой равниной. Сад перед домом горел и дымился, весь залитый пожаром зари и потопом дождя. Она сидела за столом в гостиной и с упорной задумчивостью глядела в сад сквозь полураскрытую дверь. Я знал, что́ свершалось тогда в ее душе; я знал, что после недолгой, хоть и мучительной, борьбы она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла более сладить. Вдруг она поднялась, проворно вышла в сад и скрылась. Пробил час… пробил другой; она не возвращалась. Тогда я встал и, выйдя из дому, отправился по аллее, по которой - я в том не сомневался - пошла и она. Всё потемнело вокруг; ночь уже надвинулась. Но на сыром песку дорожки, ярко алея даже сквозь разлитую мглу, виднелся кругловатый предмет. Я наклонился… То была молодая, чуть распустившаяся роза. Два часа тому назад я видел эту самую розу на ее груди. Я бережно поднял упавший в грязь цветок и, вернувшись в гостиную, положил его на стол, перед ее креслом.
Вот и она вернулась наконец - и, легкими шагами пройдя всю комнату, села за стол. Ее лицо и побледнело и ожило; быстро, с веселым смущеньем бегали по сторонам опущенные, как бы уменьшенные глаза. Она увидала розу, схватила ее, взглянула на ее измятые, запачканные лепестки, взглянула на меня и глаза ее, внезапно остановившись, засияли слезами.
- О чем вы плачете? - спросил я.
- Да вот об этой розе. Посмотрите, что с ней сталось.
Тут я вздумал выказать глубокомыслие.
- Ваши слезы смоют эту грязь, - промолвил я с значительным выраженьем.
- Слезы не моют, слезы жгут, - отвечала она и, обернувшись к камину, бросила цветок в умиравшее пламя.
- Огонь сожжет еще лучше слез, - воскликнула она не без удали, - и прекрасные глаза, еще блестевшие от слез, засмеялись дерзостно и счастливо .Я понял, что и она была сожжена.
Апрель 1878.
http://www.turgenev.org.ru/e-book/roza.htm
ПОСЕЩЕНИЕ
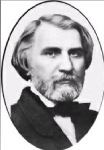 [ [
Я сидел у раскрытого окна утром, ранним утром первого мая. Заря еще не занималась; но уже бледнела, уже холодела темная теплая ночь. Туман не вставал, не бродил ветерок, всё было одноцветно и безмолвно, но чуялась близость пробуждения и в поредевшем воздухе пахло жесткой сыростью росы. Вдруг в мою комнату, сквозь раскрытое окно, легко позванивая и шурша, влетела большая птица. Я вздрогнул, вгляделся... То была не птица, то была крылатая маленькая женщина, одетая в тесное, длинное, книзу волнистое платье .Вся она была серая, перламутрового цвета; одна лишь внутренняя сторона ее крылышек алела нежной алостью распускающейся розы; венок из ландышей охватывал разбросанные кудри круглой головки - и, подобные усикам бабочки, два павлиньих пера забавно колебались над красивым, выпуклым лобиком. Она пронеслась раза два под потолком; ее крошечное лицо смеялось; смеялись также огромные, черные, светлые глаза. Веселая резвость прихотливого полета дробила их алмазные лучи. Она держала в руке длинный стебель степного цветка: «царским жезлом» зовут его русские люди, - он и то похож на скипетр. Стремительно пролетая надо мною, коснулась она моей головы тем цветком. Я рванулся к ней, но она уже выпорхнула из окна и умчалась. В саду, в глуши сиреневых кустов, горлинка встретила ее первым воркованьем, а там, где она скрылась, молочно-белое небо тихонько закраснелось .Я узнал тебя, богиня фантазии! Ты посетила меня случайно - ты полетела к молодым поэтам. О поэзия! Молодость! Женская, девственная красота! Вы только на миг можете блеснуть передо мною - ранним утром ранней весны!
Май, 1878
https://iknigi.net/avtor-i....-1.html
ЛАЗУРНОЕ ЦАРСТВО

О лазурное царство! О царство лазури, света, молодости и счастья! Я видел тебя... во сне. Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами. Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я !Да я и не замечал их. Я видел кругом одно безбрежное лазурное море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное небо и по нем, торжествуя и словно смеясь, катилось ласковое солнце. И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как смех богов! А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные дивной красоты и вдохновенной силы... Казалось, самое небо звучало им в ответ - и кругом море сочувственно трепетало. А там опять наступала блаженная тишина. Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. Не ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая. Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. Упоительные благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали нас дождем белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались радужные длиннокрылые птицы. Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки. Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки... Женские голоса чудились в них... И всё вокруг: небо, море, колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою - всё говорило о любви, о блаженной любви! И та, которую каждый из нас любил, - она была тут... невидимо и близко. Еще мгновение - и вот засияют ее глаза, расцветет ее улыбка... Ее рука возьмет твою руку - и увлечет тебя за собою в неувядаемый рай! О лазурное царство! я видел тебя... во сне.
Июнь, 1878
http://turgenev-lit.ru/turgene....tvo.htm
ПАМЯТИ Ю.П. ВРЕВСКОЙ

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный гошпиталь, в разоренной болгарской деревушке - с лишком две недели умирала она от тифа. Она была в беспамятстве и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка. Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.
Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастия... не ведала и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним. Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда, а теперь, конечно, не узнает. Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано. Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу, хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо. Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!
Сентябрь, 1878
http://turgenev-lit.ru/turgene....koj.htm
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 30 Окт 2019, 20:20 | Сообщение # 32 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Ольга Булгакова
«РАССКАЗ О МОЕЙ РОДИНЕ...»
Этот репортаж первый из той серии, которые по моей просьбе предоставила очень талантливая и очень честная во всех своих рассказах независимая журналистка Ольга Булгакова, уже хорошо известная многим поклонникам Олега Погудина по двум, совершенно замечательным ее интервью с ним. А еще она пишет о Сергее Есенине... Ее репортажи разнообразны по тематики, но главное, что их объединяет - это высокий профессиональный уровень человека, который их написал...
С любовью и болью.
Порой подует ветер с юга
И я расплакаться готов…
Михаил Танич
В Москве нет вишен. Не растут. Холодно. И винограда нет. И ему холодно. Холодно и мне, и я не расту. Я уже выросла. Выросла я на Кубани. И вместе со мной выросла та особая, хотя, в общем-то, глупая гордость, которая позволяет получать удовольствие от простой констатации факта: я родилась на Кубани. Но когда здесь, в Москве, я говорю, что я «с Кубани», у меня почти всегда переспрашивают: «С Украины?» и следом «А Кубань – широкая?» Отвечаю: «Нет». «Нет» – не «с Украины» и «нет» – не широкая. Кубань – это юг России. Неширокая извилистая, и о-очень с характером река. Широкий – Дон. Ну, так он – «батька»! Мощный, тяжёлый, как медведь. Вроде сибирских рек. Но узкая, причудливо петляющая Кубань – очень сильна. Красивая, норовистая, стремительная, она похожа на внезапно ожившую атласную ленту, с которой теперь не совладать, - течение. Не принимающее никаких возражений даже в мелководье течение. Не все знают, что это. Для тех, кто не знает: заходишь в реку по щиколотку и чувствуешь, как ступни медленно движутся по камням. Заходишь по колено, и устоять уже трудно, река хочет сбить с ног. Заходишь по пояс и движешься вместе с рекой. Это похоже на увлекательный аттракцион. Ты на несколько мгновений отрываешь ноги от дна, и тут же оказываешься в нескольких метрах от того места, где был только что. А можно просто лечь на воду и плыть с рекой. И тогда чувствуешь, что сила реки – очень добрая и надёжная. Но прогневить реку, даже просто отнестись к ней невнимательно нельзя – обидится. На безразличие ответит безразличием и утопит. Что делать, - Кавказ! Да, кроме того, что Кубань – юг России, это еще и северо-кавказский регион.
Русские появились здесь при Екатерине. Собственно, и Краснодар в период до провозглашения лозунга: «Вся власть Советам!» был Екатеринодаром. Мать-основательница города, Екатерина II, пересилила на Кубань казаков с Дона. Переселение, конечно, не прошло мирно, - черкесы не обрадовались. В сущности, взаимоотношения кавказских народов и казаков, описанные Лермонтовым, принципиальных изменений не претерпели. С государственной же точки зрения Екатерина хорошо понимала, что делала. Ее Екатеринодар обосновался на удивительной земле. Море, горы, реки, поля, сады, степи, уникальные источники, - на этой земле есть всё. Дар! Но жизнь людей на этой несравненной земле далеко не безмятежна. И дело не только в бесконечной «нестабильности на Кавказе». Хотя и она страшна. Здесь, в Москве, это понять сложнее. Многого просто не рассмотреть, а что-то видится по-своему. С берегов Кубани обзор лучше. И поэтому непонятно, зачем обыкновенную войну назвали безобидным и интеллигентным словом «конфликт». И за какие заслуги перед Россией бывшие полевые командиры награждались орденами и становились её героями? А в новостях серьёзные дяди и тети с серьёзными же лицами в это время сообщали, что «на территории Чеченской республики произошло столкновение федеральных сил с боевиками. С нашей стороны один солдат убит, двое ранены». Не верьте им! Они лукавили. Знаете, как в старом анекдоте: «правду, правду, одну только правду, но не всю». Они молчали о том, что в Чечне наёмники и боевики из числа местных, порой не прерываясь на обед и сон, вели снайперский обстрел позиций федеральных войск, которые, было время, процентов на 70 - 80 состояли из «срочников». А также охотно минировали всё, что только возможно, и, совершая провокационные вылазки, уходили в горы, где их сам чёрт не найдет. И федеральные войска теряли не по одному и не по двое. Теряли десятками. Теряли офицеров и парнишек 18 лет, не успевавших понять, что происходит. Просто потому, что даже если, как заклинание, миллион раз произнести слово «конфликт», обсудить его со всеми мировыми сообществами, это не поможет. Война останется войной, с кровью, грязью, страхом, слезами, оторванными ногами, вытекшими глазами, отрезанными головами, искалеченными судьбами «русских свиней». Вряд ли меньше были потери тех, кто, заметив, что войну вежливо именуют «конфликтом», назвали себя «правоверными». Но всегда были люди, которые «гибнут за металл» и всегда кому-то приходилось отдавать жизнь «за чей-то чужой интерес». И это длится, длится, длится… Открытая вражда переходит в скрытое недружелюбие, откровенная агрессивность сменяется лицемерными заверениями в братских чувствах. И всё возвращается на круги своя.
Ничем не лучше и лицемерие «слуг народных», дённо и нощно радеющих о благополучии страны. Дело в том, что Кубань – не только юг России, но и её «житница». Кто не слышал озабоченно-тревожных разговоров о необходимости поддерживать отечественного производителя? Кто ещё не осведомлён о том, как много сделано в этом направлении? Не знаю, где претворение в жизнь программы поддержки отечественного производителя, какой дало результат? Но на Кубани как-то всё это дело проходило странно. А именно: зерно гнило тоннами, дойные коровы пускались под нож. Опять для тех, кто не знает: растить хлеб – тяжёлый труд. Посевная и уборочная – работа на износ, если надо, то и круглосуточно. И посеять зерно, и собрать урожай нужно вовремя. А если дождь? А если засуха? Погода ненадёжна и непредсказуема, как необъезженный скакун. Как больно бывает видеть, когда вдруг в апреле после стольких солнечных дней на уже цветущие абрикосы крупными редкими хлопьями падает снег. Он неуверенный и робкий и, как будто, сам не понимает, зачем он? Через полчаса снова сияет солнце. Но на абрикосы, только что светящиеся от радости, уже нельзя смотреть. Цветы погибли. Они не выдержали прикосновений тут же, прямо на них тающего снега, лепестки почернели и осыпались. Поэтому, «сгниёт… засохнет… не уродит… не успеем собрать», - далеко не пустые сомнения. Те, кто растит пшеницу, от этих мыслей часто уснуть не могут. Впрочем, во время уборочной им много спать не приходится. Комбайнёры на поле уже в 3-4 часа утра. Потому что к 12 часам солнце поднимется высоко, перекатится с востока в зенит, уверенно займёт свое место над землёй, и спастись от его лучей будет невозможно. В раскалённое белое небо не поднять глаз. Солнышко иногда становится немилосердным. Незащищённые от него термометры стараются чем-нибудь прикрыть, боясь, чтобы не лопнуло стекло, и не разбежалась ртуть. Дело в том, что красный столбик поднимается к отметке 60. И трудно понять, ограничилось ли этим солнце или же только производитель измерительного прибора.
Чувствуя свою силу и мощь, солнечные лучи становятся несговорчивыми и упрямыми. И, словно наваливаясь на тебя со спины, прижимают к земле. Жизнь возможна только возле воды да под спасительно густой виноградной беседкой, и то лёжа. Мухи с комарами, и те не выдерживают и сдаются, в такую погоду раньше 8 часов вечера они не появляются. И как-то даже утешительно звучит сводка погоды, обещающая грозы и ливневые дожди через пару-тройку дней. Но только не для тех, на ком лежит ответственность за уборочную. Для них это означает, что через несколько дней ливни обобьют колосья, зерно намокнет и начнет гнить. И поэтому работы ведутся в режиме on-line, график: от зари до зари. В железной кабине комбайна, далеко не всегда оснащённого кондиционером, никакие мокрые полотенца, намотанные на голову, не спасают. И физически крепкие тридцати-сорокалетние мужчины теряют сознание. Но хлеб убирать надо! Нельзя допустить, чтобы зерно сгнило. И не допускают. Впрочем, больше всего на руку (или на крыло, - как угодно) это оказывается воронам. Парадокс в том, что не сгнившее на корню, зерно гниёт, собранным и обмолоченным. Всё его засыпать в ангары невозможно, они на это попросту не рассчитаны. Предполагается, что большая часть выращенного зерна будет продана государству. Дабы оное всю страну, включая те регионы, где пшеница не растет в силу неблагоприятных климатических условий, могло обеспечить хлебом. Однако, государство отчего-то предпочитает решать этот столь насущный вопрос по-другому, - за счёт импортного зерна. Как говорил Остап Бендер: «Заграница нам поможет!» А оптимистические сводки с полей о невиданных урожаях, передаваемые СМИ, к сожалению, совсем не означают, что государство распорядится зерном по-хозяйски мудро. В итоге: тонны и тонны зерна остаются лежать под открытым небом на радость птицам, мышам и наиболее предприимчивым гражданам. Цены же на хлеб растут с завидным постоянством. Понятно, его же ещё привезти надо: топливо, таможня, то да сё… В то же время условия, на которых государство готово купить зерно у «отечественного производителя» часто оказываются настолько невыгодными, что не покрывают даже себестоимости. Безусловно, хозяйства стараются как-то выкрутиться, но такого крупного покупателя, каким могло бы стать государство, им, конечно, уже не найти. И «златые горы» пшеницы тускнеют под ветрами и дождями до грязно-серых. Несколько лет назад я видела, как, не сдержавшись, в голос, плакали люди, глядя на неожиданно густой и пушистый снег, заботливо кутающий лежащие на поле неоглядные горы зерна. Все это приводит к тому, что посевные площади под пшеницу неуклонно сокращаются, местная администрация отдает в аренду частным лицам все новые и новые гектары вместе с головной болью: что делать с урожаем? Даже в крупных, некогда передовых районах муниципальной земли почти не осталось. А с частника какой спрос? В этом году засеял пшеницу, в следующем – люцерну, а в последующем – мак. Не передать словами, насколько это красиво, - алые маковые поля!
В животноводческих хозяйствах картина часто удручающая даже внешне. Полуразрушенные коровники, в которых давно отсутствующие в оконных проемах стёкла уже даже не заменены пленкой, красноречиво молчат о том, что они пусты, и никем не занятые стойла сквозняки не пугают. Полуразобранные свинарники с исчезнувшей, вероятно, не без участия вечно пьяных сторожей крышей, свидетельствуют о том же. А еще относительно недавно в отделениях, где содержали свиноматок и в телятниках были полы с подогревом. Огромнейшая птицефабрика с несчётным количеством корпусов называется «птицефабрикой» лишь по привычке. Птица там осталась всего одна – красивейший мозаичный петух, уже много лет куда-то шагающий с гордо вскинутой головой, но так и не отошедший от центрального входа. И это не тревожные сводки лихих 90-ых» это – «последние известия».
Нет, конечно, есть частные хозяйства, в которых все обстоит вполне благополучно. Но их не так много. И главное - неясно, зачем, прокричав с высоких трибун о необходимости «поддержать отечественного производителя», поднимать шлагбаум для ввоза мяса из-за границы? В то время, как этот самый, оскому набивший «отечественный производитель» ума не приложит, куда ему сбыть продукцию. И как следствие сокращает поголовье. А то и вовсе ограничивается какими-нибудь, в общем-то, довольно дружелюбными и лающими просто от скуки Самуром и Рексом, которые и становятся единственными постоянными обитателями «фермы». Подсчитать сколько исчезло рабочих мест, и, соответственно, сколько человек перестали получать зарплату, предоставим специально обученным людям из министерства труда и социальной защиты. А подумать о том, чем они на досуге, в освободившееся от работы время заняты, - представителям другого министерства - внутренних дел. Безработица в сельской местности характер имеет довольно жёсткий. Переквалифицироваться – понятие весьма условное, если только с пахаря на косаря. Подавляющая часть населения занята в сельском хозяйстве и в животноводстве. И если эти отрасли перестают быть рентабельными, то остается только «натуральное хозяйство», а без живых денег человек ай, как быстро начинает скучать! Безусловно, Кубань, как и вся страна, времена знала всякие. Были и богатейшие, передовые «имени В.И. Ленина» и «ордена Трудового Красного Знамени» колхозы, совхозы. Были и широкие народные гулянья по выходным, и железная трудовая дисциплина в будни. И вера людей в беспредельно светлое будущее напополам со страхом перед настоящим, прикрытым неуверенным «та нет… зря не посадют». И было время «великой оттепели» и великих же причуд, когда «царица полей» по указу свыше без боя взяла львиную долю земли у пшеницы, овса, сахарной свеклы и подсолнухов. Куда столько кукурузы и из чего печь хлеб и делать сахар? – вопросы, но которые мог ответить любой специалист по политической экономике, и не мог ни один хозяйственник на земле. Только рукой махнуть и чертыхнуться сквозь зубы. Несмотря на то, что «это тебе не 37-ой» выражать неудовольствие вслух было крайне неосмотрительно. А следом было совсем оголтелое: сдать двойной и тройной план мяса! И уже почти открыто ругались непечатно, хватались за голову и «горькую» пили все: от председателя райкома, чья голова полетела бы первой («а у тебя в районе колхоз…») до зоотехника, которому тоже мало бы не показалось. Не сдать мясо, согласно поставленному плану – саботаж, со всеми вытекающими. Но где ж его брать? Оттого, что какой-то остро чувствующий веяния времени, но недалекий чиновник выпустил бумагу, предписывающую хозяйствам выполнить двойной и тройной план по сдаче мяса, поголовье не увеличится молниеносно до нужного числа. Это просто и понятно каждому. Как понятно и то, что, если пустить под нож все имеющееся поголовье во имя выполнения этого плана, то на следующий год не будет не только мяса, но и молока. Но тем не менее: вынь да положь! Оттого и ругались, и за стакан хватались, - у всех нервы живые. Как такое сотворить на трезвую голову? И чего делать после? Театр абсурда.
Видела Кубань и относительно спокойные «застойные» времена, и «перестройку», и бессмысленное, варварское действо – вырубку виноградников. Та же охота на ведьм. Алкоголики как пили сивуху и иже с ней «всё, что горит», так и продолжили. А виноградные плантации, включая редкие и капризные сорта, которые не растить, - холить надо годами, гибли под топорами. И рубить лозы пришлось тем же людям, которые столько труда вложили, чтобы эти лозы выросли. Тем же людям, которые закутывали на зиму каждый куст и в холода ночами выходили окуривать плантацию дымом. Впрочем, время становления коллективных хозяйств было куда как страшнее времени их развала. Раскулачивание, отягощенное расказачиванием, продразвёрстка, коллективизация, голод. По берегам Кубани текли реки крови. Моя бабушка с недетскими подробностями помнит картинку из своих четырёх лет: ночь, сильный стук в дверь, отец открывает, с шумом входят несколько человек, о чём-то говорят, потом дядя Андрей – двадцатилетний парень, сидя на лавке в сенях, надевает сапоги, а мама (сестра дяди Андрея), упав на пол, тихо повторяет: «Андрюша, Андрюша…» Он хочет подойти к ней, но его не пускают. Отец, молча, стоит рядом. Потом дядя Андрей уходит с ночными визитёрами. До рассвета проплакавшая мать рано утром идёт куда-то с отцом и, вернувшись, снова плачет. Дядю Андрея никто больше не видел. Остались только две фотографии худощавого, беззаботно улыбающегося парнишки в черкеске, чудом сохранившиеся до сих пор. А вскоре бабушку, троих её сестёр: мал, мала, меньше и родителей посадили в столыпинский вагон и отправили дышать целебным хвойным воздухом. На Кубань бабушка вернулась только пол века спустя, прожив жизнь в Казахстане. А когда приехала в родную станицу, на том месте, где когда-то был их дом, застала яблоневые сады. Но старики на ее расспросы, внимательно вглядываясь ей в лицо, вдруг улыбались: «Фёдора Уварова дочка?» «Да вас же было… сколько-то? Четверо? Пятеро?» «А остальные где ж? В белых шубках овчинных бегали!» А какая-то совсем древняя старушка, обнимая бабушку, все качала головой: «Ой, что наделали-то…ироды… ой, что наделали…» Слишком многие не понаслышке знали, как величественен таёжный пейзаж. И не было семьи, из которой не увели бы «дядю Андрея».
Сколько ещё раз потом бабушка с дедом ездили туда. Так, не зачем, на яблони посмотреть. Яблоневый сад всегда притягивает. Даже зимой. И особенно зимой – предощущением весны. В самые суровые морозы ветки яблонь сохраняют тот горьковатый хмельной запах, которым навстречу солнцу, они наполнят всё, от земли до неба, застенчиво спрятавшись в розовато-белом облаке...
«WELKOME BY КУБАНЬ!..»
(Лето Тимура)

Сначала было очень страшно и неприятно. Меня посадили в клетку и закрыли дверцу. Вокруг всё качалось, стучало и скрипело, а она только повторяла: «Потерпи, ничего не поделать». Рядом были какие-то незнакомые люди. Все они заглядывали ко мне в клетку и что-то говорили наперебой. Запомнил я только: «О-ой, какой!» и «Да это же кролик!» Да, я – кролик. Зовут меня Тимур. Сначала, правда, меня несколько дней звали Филька, но потом я заболел, и она поменяла мне имя, решив, что имя должно быть сильным, помогать мне. А «Тимур» в переводе с персидского означает «железный». Я много раз был с ней в каком-то «метро», где тоже было страшно и шумно, но это не было так долго! А в этот раз конца-края этому беспределу не было. Потом она, правда, открыла клетку, и я смог походить по какому-то узкому и жёсткому дивану. А она сидела напротив, и на пол мне спрыгнуть не позволяла, хоть очень хотелось. Я так расстроился, что у меня даже аппетит пропал. Не хотелось ни сыра, ни бананов, ни орехов, ни картошки, - ни-че-го!

Господи! Так все хорошо было, и - нате! Мыкался, как хотел по всей квартире, в парк гулять ходил, на шлейке, конечно, но чего не потерпишь, когда трава под лапами? Настоящая зелёная трава! Ворон видел, уток. Утки – птицы бестолковые, ничё не понимают. Я к ним – они от меня, и прямо в воду. Что за удовольствие? Вороны – дело другое. Нахальные, - ужас, но любопытные. Голову наклоняют, глазом косят, - рассматривают, и сами ко мне прыгают. Да, вороны прыгают, совсем как кролики. Вы обратите внимание. А теперь, вот ни травы, ни уток, ни дивана путнего даже, и страшно так! А-ай! И всё время мелькает кто-то, и запахи – чёрт их знает, какие. А жарко… Куда б деться?
Ой, опять куда-то понесла. Прямо в клетке. Хорошо, в переноску не сажает, - хоть видно, чего вокруг. Боже, свежий воздух! Ну, наконец-то! Кто-то смеётся: «С ума сошла! Как ты его везла?» О-о, рассказал бы я вам… Куда-то пошли. Лестницы, лестницы, шум страшный. Да, кончится это когда-нибудь? – снова едем, но уже тихо, только разговаривают. Так быстро и так много, что я уже ничё не понимаю. И пускай! Да, делайте, чего хотите, - надоело! Остановились, засуетились, вошли в какую-то дверь, но всё равно остались на улице. А как пахнет тут интересно, надо же! Опять куда-то вошли – громадная комната. Поставила клетку на пол и открыла. Что, - всё? Можно выходить? Можно! Свобода! Сво-бо-да!!!
Так, ну, этого-то я знаю, это друг - холодильник, если его открыть, сколько там приятных вещей найти можно! Хорошо, что он тут есть. Шкафчики, тумбочки, печка, стол, табуретки. Стоп, да это ж не комната, это – кухня! О, вот проход. Что там? Маленькая комнатка, но с диванчиком. Ладно, завтра разберёмся, устал я, да и ночь давно.
...Солнечно как! Не знаю, где я, но мне здесь нравится! Стою возле порога, смотрю вокруг себя. Страшновато, конечно, но интересно! Простор неоглядный! Как в парке, но без травы, под лапами – бетон. О, а напротив меня – крыльцо, и на нижней ступеньке сидит она и смеётся. Ей, наверное, тоже здесь нравится. А вон доски сложены, - много, пойду, гляну. Хорошо пахнут, помечу, на всякий случай, пусть мои будут. Ой, а где моя кухня-то? А вот она, лучше вернусь. Тут и заблудиться недолго. А дверей-то сколько! Неужели везде кухни? Все приоткрыты, ай, была-не была, пойду! За этой – темно. Загляну, а заходить пока не буду. И дверь помечу. Мало ли, кто здесь шляется? Так спокойнее все-таки. Кухня где? О, Господи, чуть не забыл. А чего это с другой стороны? О, да это ж земля! Кусты какие-то… ёлка… Точно – ёлка! А это – калина! А это – не знаю чего такое, но пахнет вкусно. Земля какая мягкая… Да, её ж копать можно! Ох, как здорово получается! Красота! Что сутки? Двое ехать можно! Ай, понял, понял я! Это мы приехали на Кубань! Она же мне рассказывала. Ну, как я сразу не сообразил! Кубань… А кухня?.. Да, куда она денется? Вот она, сбоку от меня. Ах, как приятно под калиной поваляться! Оченно душевно!

Оказывается огород – это намного лучше, чем парк, даже лучше, чем палисадник. Сначала она меня туда отнесла, а потом я научился бегать сам. Это далеко. Надо перебежать весь двор, мимо всех сараев, обежать курятник, и по дорожке – в огород! Сколько там всего вкусного, просто не знаю, куда сначала бежать!

Укроп – везде, салат – рядами, свёкла и морковка – грядками, травы всякой… Ешь - не хочу! А капуста какая, - хоровод вокруг водить можно! В огород посмотреть на меня приходят все, даже соседи. И умиляются, как маленькие, от того, что я прыгаю по дорожкам, а не ломлюсь через грядки. Ну что я - глупый, что ли? Разве я не понимаю, что эти их «синенькие» попереломаются в два счёта, если я задену куст. Я – парень крепкий, во мне больше 3 кг.

Когда я бегу мимо курятника - это такой сарай с двориком, где живут курицы, я обязательно останавливаюсь, поднимаюсь на задние лапы и здороваюсь с ними. Но они почему-то шарахаются в дальний угол и начинают кричать. Дикие какие-то… А ещё – домашняя птица! Их в огород не пускают, они всегда в своем дворике за сеткой. И правильно, эти, уж точно, по дорожкам ходить бы не стали… Как-то раз одна вышла. Спасибо, я в огороде был, а то б она прогулялась… Мало бы никому не показалось! Я сразу к ней понёсся, ну, - загнать ее. Она – громадная – бройлер, килограмм 8 веса, как побежит от меня, сломя свою пустую голову, о-ой!!! Да мимо курятника во двор, а там цибарка 14-литровая, полная песка стояла, её с места не сдвинуть, так эта звезда на неё наскочила и опрокинула. Мама дорогая! Я думал, убьётся. Ничё, обошлось. А моих куры никого не боятся, усядутся перед дверью курятника и ни с места, хоть ногой отодвигай – по фигу, А тут – нате, пожалуйста! Какая прыть! А у соседей за забором, прямо рядом с нашим огородом живут гуси. Они меня не боятся, но и играть со мной не хотят. Я хочу, чтобы они побегали со мной вдоль сетки, а они шеи наклонят и стоят, как вкопанные. То ли дело коты! Вот за кем можно побегать вволю! Правда есть одно неудобство: коты умеют высоко залазить, даже на забор. А я – ещё пока нет. Впрочем, забор, похоже – единственное место, куда я ещё не научился залазить! И они, пользуясь этим, играют нечестно. А так, я бы догнал их, безо всяких сомнений догнал бы!

Наш кот Лиза – единственный, кто научился со мной играть. Лиза – кот, просто мои год назад не досмотрели, а потом решили не менять имя, пусть будет Елисей. Мы с Лизкой – ровесники, и нам вдвоём весело. Он умеет и убегать, и догонять. Притаится и выскакивает, - очень смешно!

Или разляжется и аккуратненько так меня лапкой задевает, сам заигрывает, а потом резко подскакивает и отбегает, я к нему, а он прыгает через меня! Загоняет меня – не отдышусь! И прятаться он умеет здорово: вот только что здесь был, и уже нет. Я – вокруг себя юлой, по сторонам – нету! И вдруг – раз, откуда-то прямо мне на спину и - кусаться! Хитрый! А то еще лучше: опираясь на стену летней кухни, стоят большие листы железа, Лизка забегает за них и прячется, а я – за ним. А тут забежал за листы, я – следом. А его там нет! Представляете? Я выскочил, оббежал листы снаружи, заглянул с другой стороны – нет! Я туда, сюда, - мечусь, ничё не пойму… Ну, куда делся? Смотрю по сторонам, а он рядом на корыте с песком сидит и на меня смотрит. А морда – довольная! Кстати, чужие коты с Лизкой играть не умеют, как и со мной. Они от него тоже прыгают на забор и исчезают. Правда, Лизка особо за ними не гонится и под забором, как я, не сидит.
Ещё охотно со мной играет соседская Клёпа – маленькая рыжая собачка с приплюснутым носом. Она носится вокруг меня, кувыркается через себя и все время лижется. С ней можно всё! Иногда она мне даже надоедает, я толкаю ее головой, но ей, похоже, всё равно. Тут про меня многие говорят, что я похож на собачонка. Не знаю, где они видели таких собачат? Если я на кого и похож, то на медвежонка. Есть тут у меня и еще приятели – жабы. Две из них живут у нас за домом и тоже любят поболтаться в палисаднике. Здоровые, важные! Но если подойти, упрыгивают. Я за одной побежал, так, куда там! Юркнула куда-то под листья… Понимаю, что здесь, некуда ей деться… Кручусь, кручусь… нет, не вижу! Почище Лизки. А ещё в огороде живут в тыквах лягухи. У тыквы листья большие, плети густые и прям по земле ползут. Ох, им и благодать. Я их там ловил вечером. Но там и вовсе… Тем более, что пока светло они не очень-то выходят. А мы гуляем до самого темна, пока меня видно на земле. А потом всё: негры ночью уголь крадут, - надо заходить. Каюсь, было дело, по темноте маханул под забором к соседям. Забор-то, Господи – стальная сетка, натянутая между кольями! Никто не заметил. А тут сосед стоит себе, расслабленный такой, вышел во двор покурить перед сном. Вдруг смотрит: я бегу. Говорит мне: «Вот это гость! Вечер добрый!» Ну, он меня поймал и отнёс моим. А она уже хватилась, бегает по огороду: «Тимур! Тимур!» Как мне повезло, я понял только после. Это мало ли куда я мог зафестивалить, если бы не сосед. А собаки? Да и люди-то разные… Всё, с тех пор на улице с меня глаз не спускают. Ценный я груз!
Встаём мы утром рано. Часов в пять. Идём гулять. В это время ещё прохладно, и можно бегать везде. Но не дольше, чем до девяти часов. Поднимается солнышко, и становится жарко. Для меня – слишком. Тогда меня уводят домой или, в крайнем случае, пускают поваляться в палисаднике под калиной. Домой я, конечно, не хочу, я ворчу и вырываюсь. Хотя и знаю, что сейчас мне дадут что-нибудь очень вкусное. В доме я сижу до вечера, примерно до половины восьмого, когда снова станет попрохладнее. Каждый раз, как кто-нибудь заходит в дом, я бегу навстречу и в надежде, что меня возьмут с собой на улицу, провожаю до двери. Без толку. Не пускают. Тогда я писаю на полу, возле входной двери. Но всем на это наплевать. Потому что в доме идет ремонт, и пол на веранде будут менять. На летнюю кухню меня почти не пускают. Там кафельный пол, и работает сплит-система, чтобы мой хлебосольный друг не сломался. Он тоже не очень хорошо переносит жару. Можно только во второй комнатке поспать с Лизкой на диване или посидеть на табуретке. Не очень-то интересно, когда все вокруг что-то делают. Надо же ко всем подойти, кругом просунуть нос, пометить миллион вещей. А кое-что и попробовать, - вдруг вкусно? Новые продукты, запах которых мне не знаком, я пробую очень осторожненько: сначала тщательно обнюхиваю, потом откусываю совсем махонький кусочек и долго разжёвываю. И только потом, если понравилось, ем. Меня даже передразнивают и смеются. Ну, смеются - не плачут. Ладно! Тем более, что ради того, чтобы понаблюдать, как я ем, все норовят покормить с руки. Под это дело запросто можно получить сразу пол банана или варёную картошину размером с куриное яйцо или даже абрикосину! Кормят вкусно и много: «хочет животное, пусть ест!» Так-то вот!
Ещё я не сразу, но распробовал клубнику. Хорошее дело! Уважаю. А главное, - очень удобно: если тебе не дают, сколько хочешь, можно пойти в огород и поесть самому – элементарно! Идёшь вдоль рядочка клубники, подсовываешь мордочку под листья и ищешь ягодки. Нашел – попробуй, несладкая – иди, ищи дальше, сладкая – кушай. Всего делов! А она сначала думала, что я просто так надкусываю ягодки. Нет, я хорошую ищу! Трудно так вот сразу определиться. Пока это придёт «сын ошибок трудных»! А 2 августа у меня был день рождения, - исполнился год! Почётным гостем стал Лизка. Мне в честь радостного события дали целую конфетину «Птичье молоко». Ах, как я их люблю! И, вообще, всё, чего я люблю дали без ограничения! Даже сыр. А уж как гладили! Как чесали! И кино про меня снимали! Как я по огороду бегаю. О-о-о! Есть на что посмотреть. Арабский скакун! Только уши развеваются, как крылья бабочки. Ах, красавец - я! Ах, умница! Ах, сокровище! Посмотрел, сам влюбился!
«- А на той планете есть охотники?
- Нет.
- Как интересно! А куры там есть?
- Нет.
- Нет в мире совершенства! – вздохнул Лис»
Помните? Всё на Кубани хорошо. И пожелать нечего. Но… Вечно это «но»! Живёт там один страшный враг, с которым ленятся бороться, - миксоматоз. Да, он самый. Поселился он там давно и чувствует себя комфортно. Кроликов, в общем-то, прививают, но не поголовно. А, главное, не соблюдают меры безопасности в случае, если происходит падёж. Какое там - сжечь, зарыть в землю, обработать паяльной лампой! Я вас умоляю! Слыхом не слыхивали. Это тем более странно, что нередки случаи, когда в кролиководческих хозяйствах, которых не мало, от миксоматоза вымирает все поголовье. Иногда это – несколько тысяч. Этих животных, как ни грустно, никому не жалко. Их держат не для любви, а для денег. Но и такие тяжелейшие убытки, какие наносит хозяйству падёж поголовья, не могут заставить нерадивых хозяев элементарно обезопасить себя от следующего мора. Разве что святой водой обрызгают клетки. Мероприятие, безусловно, не лишнее. Только миксоматоз, он же ведь - не от лукавого. Его соратники - банальная антисанитария и обыкновенное разгильдяйство. Чем же здесь святая вода поможет? Впрочем, что я вам рассказываю? Однажды нам какая-то весьма уже взрослая тётя поведала, что на соседней улице у некого Витьки недавно умерли все кролики. «Да быстро так, видать, от порчи. Морды пораспухали, складками, ужас. Сглазил кто-то», - абсолютно серьезно поделилась она. Ну, что ей скажешь? От порчи и сглаза прививок нет. От глупости, к сожалению, тоже.
Я в Москве перед отъездом был привит и от миксоматоза, и от ВГБ. И два месяца всё было нормально. Обходила чаша сия. А в самом конце августа у меня отекло левое ухо. Как свинец. Тяжёлое, твёрдое. Она сначала ничего не поняла, подумала, может оса укусила. Когда её оса или пчела кусает, у нее тоже такой свинцовый отёк бывает. Но на следующий день отёк у меня не спал. К вечеру начало отекать правое ухо. Я пока чувствовал себя неплохо. Бегал и кушал хорошо. Но к утру появились подкожные шарики на ушах и в паховой области. Поехали к ветеринару. Он пожал плечами и сказал, что нужно «подождать, посмотреть». Кубанские ветеринары от московских отличаются только местом жительства. Хорошего врача ищут точно так же - днём с огнём и со служебно-розыскными собаками. Вернувшись, она позвонила в Москву, Татьяне, которая уже много раз нас выручала. И та сразу сказала ей: «Это – миксоматоз. Узелковая форма». Но самое главное, сказала, как лечить. Милостив Господь, при таких врачах у нас оказалась очень приличная ветаптека, в которой были все препараты, и брались привезти любые необходимые в ближайший четверг. Начали лечиться. Но на следующий день узелки были уже по всему телу, а через два дня моё состояние резко ухудшилось. Я почти ничего не ел, лежал, как тряпка, шёрстка свалялась. А еще совсем недавно, когда я лежал на диване под виноградной беседкой, к нам зашла какая-то женщина и засмеялась: «Вы чего это, в пылу ремонта и кролика лаком вскрыли?» Такой я был сверкающий да гладкий. А теперь… Моментально, всё моментально так… И не хочется ничего, и ничего не надо. И у всех в доме настроения нет. И все, кто заходит, сразу спрашивают: «Ну, как ваш пациент?»
Дня через три некоторые узелки на ушах и в паху - все прорвались наружными ранами. Но по телу узелки остались, плюс добавилась новая сложность. Я стал задыхаться. При дыхании были сильнейшие хрипы в носу. Мы с ней ездили к другому ветеринару. Врач, ещё меня не увидев и не узнав, в чем дело, сразу после слова «кролик» почему-то радостно не то спросила, не то сказала: «Шишки?!» Глянув на меня, так же весело сообщила, что миксоматоз не лечится, и прививка не спасает. У них умирают и привитые… сколько угодно случаев. Татьяне звонили постоянно, звонили Александре в Новосибирск, мне что-то вливали в рот шприцом, по часам делали уколы и закапывали нос. Тяжко мне дышалось. Вероятно, и в носу на слизистой были узелки, которые, возможно, тоже вскрылись, и образовались корки. И весь этот ужас без просвета длился больше двух недель. Пока, наконец, не стало точно понятно, что я медленно, но верно выздоравливаю. Процесс выздоровления был далеко не молниеносным. Появлялись новые узелки. Старые, вскрывшиеся ранами, заживали неохотно, покрывались толстыми корками и чесались. Хрипел я еще месяца полтора. Но я заметно повеселел, снова стал везде носиться и кушать с аппетитом. Но ох, и страшен же я был тогда! Похудел чуть не в половину. Кругом толщенные круглые корки, уши – не приведи Божья Мать! Но за Лизкой уже бегаю, хотя пока и без азарта.
Лизка… Я хочу сказать о нем особо. Когда он понял, что мне плохо, - а коты, они всё понимают, если хотят, конечно, - как он был внимателен! Он подходил ко мне, усаживался рядом и начинал меня облизывать. Долго, тщательно, с удовольствием, щуря глаза… Это удивительно приятно! И сворачивался со мной рядом спать. Мне так это дело понравилось, что и потом, когда я уже не болел, увидев Лизку, я сразу к нему подбегал и подсовывал прямо к его морде свою, чтобы он меня облизал. И сам я его облизывал с удовольствием. Котик-братик! Спасибо ему за понимание и ласку. Да, а 31 августа день рождения был у неё, и лучшим подарком оказался мой, - я не умер.
Досье:

Тимур Булгаков. Родился 2 августа 2008 г. в Москве. Мама – Вега, папа – Персей. Характер – нордический. Выдержка – железная. Упрямый крайне, дружелюбный беспредельно, умный – неправдоподобно. Трогательно ласков и хитёр. Адаптивен, обучаем, любопытен. Собственник. Властен, но лоялен. Любим сверх всякой меры.
«UITIMA RATIO» («Последний повод»)

Горы, песок, скалы и – море. Море и солнце. Безрассудно щедрое и неутомимое солнце! Как будто астрономы что-то путают, и там светит совсем другое солнце, непохожее на непостоянное и капризное московское. «Там» - это у меня на родине, в Краснодарском крае. И именно это безмятежное солнце, как спасательный круг, бросает мне память в тяжёлые минуты. Ведь плохо без солнца, что ни говори… И здесь, в Москве, я поняла всю силу детской радости в желании – поехать на юг!
Краснодарский край – это юг России. И Сочи с недавнего времени называют «третьей» или «южной» столицей. Сочи, Дагомыс, Лазаревское, Лоо, - притаившаяся вдоль моря сказка, обаянию которой противостоять невозможно. Вызывающе красивый, величественный и одновременно трогательный берег. Художественный беспорядок из кипарисов, пальм, сосен и цветов, глядя на которые проще поверить в то, что они созданы ювелирами по эскизам художников-импрессионистов, нежели в то, что они растут тут просто так, сами по себе. Природа – непревзойдённый ландшафтный дизайнер. Причудливые, яркие, неправдоподобно-огромные цветы перемешиваются с совсем махонькими, забавными цветочками и вместе карабкаются на деревья, стелются по земле и насмешливо заглядывают в глаза с высоких, в твой рост, стеблей. И запах, воспроизвести который затруднились бы самые искушенные парфюмеры, даже собрав консилиум! Прихотливое смешение свежего хвойного, удушающе-сладкого и почти неуловимого древесного с запахом моря и ленивый, томный зной. Раскаленный светло-жёлтый песок, на который не наступить босиком и валуны, шипящие на брызгающую на них воду. Они тоже имеют свой собственный запах.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 30 Окт 2019, 20:58 | Сообщение # 33 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Это запах жары, отсутствия мыслей и того особого изнеможения, когда ты расслаблен настолько, что тебе легче умереть, чем пошевелиться. И море – «самое синее в мире»! Море – сверкающая бесконечность, непрерывно играющая цветом, переливающимся от бледного зелёного до глубокого фиолетового. Море добродушно-спокойное, взбалмошно-игривое или рассвирепевшее и яростное. Но всегда равнодушное и безупречное! Изученное и обследованное вдоль и поперёк, а все же загадочное, непостижимое и таинственное, как тысячи лет назад! И уже кажется, что железный лязг и грохот города, движение в восемь полос, метро и сообразительная машина – компьютер – это просто какая-то нелепость, несообразность, случайно попавшая в твою жизнь. Да, и существуют ли они вообще? Лёжа на раскалённом песке, слушая мерное ворчание прибоя и крики чаек, в этом начинаешь очень серьёзно сомневаться. Чайки - птицы почти мистические, чем-то сродни ворону. С ними связано не меньше легенд и преданий. Причина тому – пронзительный, плачущий крик чаек или что другое, но только легенды, связанные с чайками, как правило, светлы и печальны. По одной из них, чайками стали матери погибших моряков, не дождавшиеся своих сыновей. По другой – их любимые. По третьей, чайки – это души самих погибших моряков, тоскующие по морю и не находящие без него покоя. В любом случае, убить или поранить чайку – знак дурной – пойдут беды, как волны, одна за другой.
Наблюдать за чайками очень интересно. Настолько эффектны и впечатляющи они в воздухе, настолько же забавно-неуклюжи на земле. Если прийти на пляж рано утром, когда еще не рассвело, как следует, то чаек можно покормить почти с руки. Они очень любопытны и дружелюбны. Скопление людей им не нравится и, вероятно, их пугает. На пустынном же пляже к одинокому человеку они подходят достаточно охотно. Смешно и неловко шагая по песку, они внимательно высматривают что-нибудь съедобное. Чайки – хищники, но хлеб, печенье, рыбу, бананы и виноград едят с одинаковым удовольствием. Море рано утром особое. Оно, вообще всегда разное: утром, днём, вечером и ночью оно сильно меняется. Утром, если нет шторма, оно тихое, задумчивое, холодное и чистое-чистое. Его настроение передаётся тебе, и утреннее купание на пустынном пляже похоже на своего рода обряд очищения. Вечернее море напоминает утреннее. Но оно тёплое и не так тихое, как притихшее, уставшее. Тёплым оно будет долго, почти всю ночь, как будто солнце после заката опустилось в море и согревает его. Закат на море, как и рассвет, завораживает. Смотреть, как садится за море и поднимается из-за него Солнце, можно бесконечно. Появляется особое чувство – сопричастности вечности. Ведь море и Солнце - вечны, начало всех начал. И до начала времен Солнце садилось за море и поднималось из-за него точно так же, как сегодня. Когда не было ничего, море и Солнце были. Они создали жизнь. Выйдя из моря, на суше жизнь стала не менее разнообразной, чем под водой. Но море – наша общая, далёкая родина, как потерянный рай.
Ночное море само по себе очень разное. В беззвёздную ночь все сливается. Море, небо, скалы,- ничего нет, только тихий плеск и мерцание воды. Южные ночи – очень тёмные, непроглядные. В звёздные ночи хорошо видны очертания прибрежных скал, становящихся незнакомыми и таинственными, море же и небо сливаются совершенно. Звёзды сталкиваются и разбегаются у самого берега, и неподвижно сверкают где-то в глубине блестящей глади и совсем низко, над головой. Луны - две, и одна из них, слегка покачиваясь, словно подмигивает другой. А море в наступившей тишине, как будто рассказывает одну из своих сказок голосом прибоя. И высматривающие рыбу чайки внезапно вскрикивают, словно удивляясь услышанному. Но всю свою силу и мощь море демонстрирует в шторм. Уже не маленькие, словно раздумывающие, надо им это или нет, волны, нехотя, вползают на песок, а громадные, несколько метров в высоту, с остервенением набрасываются на берег и забирают любую добычу. Как будто море долго терпело и вот, наконец, не выдержало и дало выход эмоциям. И, глядя на море, бледное и утомлённое после шторма, уже волей-неволей думаешь об обманчивости его покоя.
М.Горький писал: «Буря на море и гроза в степи! – я не знаю более грандиозных явлений в природе». Они, и впрямь, чем-то похожи. Также жутко, также великолепно, также невозможно отвести глаз и также невозможно унять. Море – это стихия, и стихия, которая может быть и страшной, и разрушительной. Но сколь могущественно море, столь оно и беззащитно. Беззащитно перед человеком, который, не секрет, «есть враг всего живого». Впрочем, как гласит восточная мудрость «что отдал ты, то и получишь обратно». Терпение моря велико. Но если однажды оно иссякнет, иссякнет совсем, окончательно… Я не призываю всех под знамена Green Peace, нет. Но пока мы будем считать, что рысь – это роскошная шуба, море существует для нашего удовольствия и обогащения, а человек – царь природы, плохи наши дела. Дело в том, что рысь – это удивительный зверь редкой красоты и грации.
ОНА

Она капризна. Она мучительно капризна. Она измотала мне всю душу. И мне иногда казалось, я умирать буду, она головы не повернёт. Но стоило мне оступиться - по своей вине и, как водится, на ровном месте, она вдруг протягивала руку: «Вставай… Ну, что ты?.. Больно?» И её всегда лукавые, всякое повидавшие глаза улыбались светло. Я знаю её 4 с лишним года. Мы познакомились в последних числах октября 2005. И я пропала. Она смотрела на меня сначала равнодушно, потом - насмешно и испытующе, но держалась дружелюбно и просто. И я очень привязалась к ней. Мы много времени проводили вместе, и вскоре мне уже казалось, что я знаю её давным-давно. Знаю и не могу разгадать. Она обаятельна и по-настоящему, элегантно стервозна. Она не отпускает меня и не удерживает. Я всегда вольна с ней расстаться. Но мне даже подумать страшно, что однажды я могу её потерять. Я скучаю по ней, скучаю, даже когда она рядом. Мне всегда её немножко не хватает. И я вдруг пугаюсь, что суета затянет меня в свои зыбучие пески, и она незаметно ускользнёт от меня. Она по-кошачьи ненавязчива. Но есть в ней какая-то особая доверительность, способность к откровению. Способность поделиться сокровенным. И всегда как будто между прочим да мимоходом. Уловишь? Почувствуешь?
Её влияние на меня велико. Я не могу ей противостоять. Я живу по придуманным ею правилам, а у неё есть привычка менять их по ходу действия. Она не позволяет мне расслабиться, не позволяет успокоиться и не позволяет повзрослеть. Зато она позволяет мне быть самой собой! Она принимает меня такой, какая я есть. Это избавляет меня от необходимости кривляться и что-то такое-растакое из себя строить. Она слишком умна. Она этого не потерпит. Она непостижима. Она ироничная и холодная. Она сентиментальная и ласковая. Она, насмешливо прищурив глаза, улыбается, глядя куда-то в сторону, когда я не нахожу себе места от одиночества рядом с ней. Она смешит и заигрывает, слепя солнечными зайчиками, и протягивает подснежники, когда мне становится немного грустно от затянувшейся зимы. Она ошеломляет яркой, броской красотой, - глазам больно! Она вдруг заставляет застыть от тихого очарования и какого-то щемящего чувства её беззащитности. Это удивительно. Она очень сильная, она очень влиятельная. О её возможностях легенды ходят и, как правило, не врут. Но внезапно от тревожной нежности сжимается сердце, и вдруг осознаёшь её ранимость и беззащитность. В её жизни было всё: любовь, ложь, предательство, могущество, триумфы, разорение, роскошь. Она восставала из пепла. Она всегда снова находила в себе силы любить и верить.
С ней не бывает скучно. И не бывает просто. У неё своеобразное и блестящее чувство юмора и особое умение создавать нелепые ситуации. Она любит делать сюрпризы и с удовольствием дарит подарки. С огромным и нескрываемым удовольствием - просто не часто! Это для неё – не ритуал. Она всегда очень придирчиво вбирает подарок, она учитывает всё. И каждый её подарок становится событием и запоминается, во всяком случае, надолго, а часто - на всю жизнь. Впрочем, нередко бывает и так, что её подарки меняют саму жизнь. А когда я, действительно, умирала, когда мне было слишком плохо, плохо настолько, что ничего не хотелось. Когда усталость с безразличием опустошали меня, как добросовестные мародёры. Когда доброжелатели сочувственно качали головой и твердили, - весьма уверенно, как все дураки, что это она во всём виновата, что нам необходимо расстаться, что она меня погубила. Когда на меня смотрели, как, вероятно, смотрели бы на разбившегося акробата: «допрыгался». Когда на меня махнули рукой, - вот тогда-то она не отходила от меня, как мать от больного ребёнка. Она не выпускала мою руку. Она находила те самые, спасительные слова. Она гнала безразличие, угадывая в нём главного врага. Она вместе со мной искала, за что можно зацепиться. Она куда-то уводила меня. Она прятала меня от всех «чёрных» глаз. Она показывала мне удивительные места. Она знакомила меня с чудесными людьми. И такой, какая я есть сейчас, я без неё, ни за что бы, не стала. Мы с ней обе – девы. И день рождения у неё ещё не скоро, - в сентябре. Но во мне, радостно звеня, уже крутятся мысли, - что ей подарить на 863-летие. Так же, как и она, я не люблю случайных подарков. Я люблю её. А она капризна. Она мучительно капризна.
Эмилия:
Всегда с огромным интересом читаю все, что выходит из-под пера О.Булгаковой: и интервью с О.Погудиным и Ю.Решетниковым, и статьи о С.Есенине, и рассказы (очерки? эссе?) на "отвлеченные" темы. Вот и это "произведение искусства" прочитала с огромным удовольствием. Это надо же ТАК написать о своей любви к нашей Москве! Ничего подобного прежде не читала, у Ольги свой особый стиль. Ольга, спасибо Вам огромное, будем ждать новых необыкновенных "зарисовок".
ЛЕХА
Я спускалась к реке. Широкая песчаная тропинка, утоптанная, как асфальт, сверкала на солнце, и шлёпанцы скользили по ней пугающе легко. А спуск не слишком пологий. Пройти здесь обутой я никогда не могла. Дойдя до изгиба, я привычно сняла шлёпанцы и осторожно, упираясь пальцами, пошла вниз. В это время раздался надтреснутый голос: - Смотри, там колючки. Чё разулась-то?
Я подняла голову. Шагов на десять выше меня и несколько левее на горе стоял мужчина. Среднего роста, худой. На вид – лет 60. Одет чисто: светло-серые брюки с отглаженными стрелками и белая рубашка нараспах. Весь в татуировках. Смотрел он хмуро.
- Шлёпанцы едут, - объяснила я.
- Вьетнамки, - поправил он. И с чувством превосходства добавил: - Соображать надо, куда идёшь. Обулась…
Он хотел ещё что-то сказать, но только отвернулся в сторону. Мне стало смешно. Начальник Чукотки!
Медленно пройдя крутую часть склона, я обулась и пошла быстрее. Ближе к Кубани тропинка становилась уже, а трава выше, и не было скользко. Я уже вышла из воды и лежала на траве, когда услышала над собой: - Я тебя раньше не видел.
Мне не хотелось говорить. Мне было лень. Зной, горький запах смятой травы, стрекотание кузнечиков, мычание коров, - присутствие человека мешало. Я молчала. Он уселся рядом:
- Нормально? Солнце не закрываю?
«Провалился бы ты», - подумала я.
- А ты плавать умеешь?
Я приподнялась на руке:
- А ты чего, спасатель, что ли?
- Нет, просто.
Он был уже без рубашки. Мама дорогая! «Золотые купола на груди наколоты, только синие они». Татуировок нет только на лице. Глаза мутно-голубые, волосы пегие, с сильной проседью. Смотрит без всякого выражения. Ему скучно.
- Ты кто такая?
Что ему ответить? Я смотрю вверх. В небе – ни облака. Высокое, чистое. Хорошо. Тихо. Принесло его. За спиной плеск воды – корова пошла пить.
- Я – Оля.
- А я – Лёха.
- Отлично.
- Так ты плавать умеешь?
- Лёха, чё ты хочешь?
- Я тебя спасу, если будешь тонуть, - вдруг заявил он.
Глядя на его более, чем субтильное телосложение, я сильно усомнилась в возможности такого поворота, но он смотрел серьёзно: - Я тут спас девчонку, Настю. Лет восемь. Её под коряги понесло, а я вытащил.
Говорит с деланным равнодушием. Констатирует факт.
Недалеко от места, где мы сидим, раньше был мост через реку. Но он давно разрушился. Под водой остались бетонные сваи. Возле них и без того не слабое течение здорово усиливается. Попадающие в реку ветки, стволы молодых деревьев течение несёт до свай, зацепившись за которые они останавливаются. На другом берегу – лес, и за годы веток к сваям прибило столько, что образовался небольшой, возвышающийся над водой остров - коряги. Если течение занесёт под них, шансов выплыть - мало. Запутаться в них под водой - много. Поймать ребёнка, когда его несёт под коряги – значит, спасти ему жизнь. Но река на это оставляет слишком мало времени.
- Как же ты её спас?
- Да… плещется, смеётся, а саму уже тянет. Еле успел схватить, вот прям… метра два от берега.
Лёха показывает рукой на коряги.
- А с кем она была?
- С мамашей, - и раздражённо добавил, - загорала…
- Испугалась?
- Кто?
- Мамаша.
- Да прям. Она же, - говорит, - рядом с берегом была, ничего бы не случилось. Дура!
- Дура, - согласилась я, - меня затягивало под коряги. Но мне лет 17 было. Переплывала с того берега и не рассчитала, течением отнесло в сторону, не смогла выплыть. Вот так же, метра три до берега. Раз – и под коряги. Страшно. Дышать нечем, хлебаю. Несё-ёт... Налетела на бревно поперёк сваи. Свая держит бревно, бревно – меня. Выбралась. Ободранная! Сижу на ветках, берег – вот он, а я боюсь в воду прыгать.
Лёха посмотрел на меня с интересом:
- Больше не плавала?
- Дня три.
Он засмеялся:
- Обгоришь ты.
- А ты не обгоришь?
- Да я тут с марта. Я коров пасу.
- А Сашка – цыган?
- Хватилась… помер, - Лёха помолчал, - а мне батюшка сказал: «Пойдёшь коров пасти?» Я ему говорю: «Да я их в глаза никогда не видел». А он: «Ну, вот и посмотришь. Главное, чтоб не ушли далеко и чтоб в воду глубоко не заходили». Вот и смотрю. А чё? Хорошо. Воздух свежий, ходи себе. Никто не мешает. Никто не надоедает. Сам себе хозяин.
- Ты у батюшки живёшь?
- Да. Он вот мне крестик подарил, - Лёха показал на нательный крестик, висевший у него на шее, - уже второй. Я потерял один. Да здесь где-то. Купался. Теперь шнур короче сделали. Я ему говорил: «Батюшка, да я и так в крестах весь!» - Лёха весело смеётся, - а он: «Вижу». Не нравится ему, но он не ругается. Говорит: «Всё в жизни бывает». Богу - что я, что ты, что Папа Римский. Понимаешь?
Я, в общем-то, как-то так это и понимала, но Лёха говорил с видом открывающего великую истину, и мне вдруг очень захотелось «быть удивлённой».
- Батюшка меня отправлял в поездку по монастырям. Она денег стоит, тысяч пять. А он меня бесплатно отправил, чтобы я посмотрел. И ещё тысячу с собой дал. Ну, там свечки где поставить, может, сувениры купить, может, поесть чего. Там-то кормили, но, знаешь… Только сказал, чтобы я не пил. И я не пил, - Лёха смотрит на меня очень внимательно, - правда, не пил.
- Не подвёл.
- Ну. Он же мне по-человечески. А знаешь, в монастырях как хорошо! Очень красиво и спокойно так. Там люди по-другому живут. Но я бы не смог. Мы и в женских монастырях были. Ты знаешь, монашенки красивые такие есть. Чего ушли? Такие девчонки, жили бы, детей рожали. Ты бы в монастырь пошла?
- Нет.
Лёха задумывается: «Нет»… и вдруг философски замечает:
- Я в твои годы тоже не думал, что жизнь вот так пойдёт.
- Ты где родился?
- В Ташкенте, и жил там долго. Красивый город, большой. А потом мы оттуда уехали, - русские уехали… Я больше там и не был. Давно не был.
- Сколько?
- Не помню.
- А сколько тебе лет?
- 52. Не старый же ещё…
- Да нет, конечно… А родные у тебя есть?
- Сеструха. Она тут недалеко живёт, я и приехал. Ну, у неё свои дела, я ей не нужен. Родные… - смеётся, - батюшка – родной.
- Ты к нему сам пришёл?
- Ну. А то он нас собирает? Все сами пришли.
Батюшка – это отец Георгий. Когда у нас в станице восстанавливали разрушенную в революционном порыве церковь, назначенный в ней служить священник из другого района – отец Георгий, быстро взял всё в свои руки. Руки оказались по-хозяйски надёжными. Благодаря этому обстоятельству церковь не пополнила список долгостроев. Стоит церковь на удивительном месте. Откуда ни подъезжай к станице, её видно издалека, и всегда кажется, что она совсем рядом, хотя до неё ёще километров десять. Через время отец Георгий завёл при церкви хозяйство: коровы, лошади, овцы. И организовалась своего рода коммуна. Те, кому некуда было идти, шли к батюшке. Условия простые: не пить и работать. Впрочем, кроме тех, кому некуда идти, в церковь стали приезжать люди из других станиц и из других районов. Сначала бабушки. А потом – верующие без различия пола и возраста. К батюшке. Поговорить. В обращении он прост и очень внимателен. Походка у батюшки стремительная. Строят часовню, - он на лесах. Разбивают клумбу, - он с лопатой. Говорят о нём с уважением и ласково. «Батюшка сказал» - для многих точка в любом споре.
Как-то Лёха, нисколько не нуждаясь в моём ответе, риторически поинтересовался:
- Вот если бы не отец Георгий, что бы я сейчас делал?
«Сидел бы», - подумала я и пожала плечами:
- Не знаю.
- Сидел бы, - жёстко и с убеждённостью сказал Лёха.
На коров он кричал страшным голосом и звонко щёлкал кнутом о землю. Но они его не боялись. Мягко тычась мордой в руки, они искали хлеб. «Нету, нету. Ну, видишь, нету!» - разводил Лёха пустыми руками.
- Жалко мне их. Гляди, глаза какие. Иногда разозлишься так, а она стоит, смотрит на тебя своими глазами. Аж мороз по коже. Вот эта, рыжая, лижется. Я же в городе жил. Я ни коров, ни огорода этого, - ничё не знал. А они всё понимают.
- Да, Лёха, как собаки.
- Как их…
- Не знаю. Тут у одних корова была. Ну, уже не молодая. Решили зарезать. Хозяйка ушла, чтоб без неё. А вернулась, зашла во двор и сразу увидела голову отрезанную. Закричала страшно и – в дом. На диван упала, истерика. Кричит: «Увозите, чтоб ничего не было: ни мяса, ни шкуры. Хоть выкиньте, из дома увезите. Не могу!» Потом мимо сарая пустого шла, ноги подгибались, но корову больше брать не хотела. А муж с сыном втайне купили телёнка – тёлочку. Она рассказывает: «Днём была у матери. Вечером прихожу, ужин готовлю, а Сашка говорит: «Мы завтра с утра сено косить». И смотрит на меня: «Ночку-то кормить надо». Я – к сараю, открываю… Села возле неё и расплакалась».
- А у нас, знаешь, кошка окотилась. Так, пацаны, себе б ловить не пошли, а ей сгоняли, рыбы наловили, полную морозилку накидали. Сказали, чтоб никто не трогал, - Мурке. Ей котят кормить надо. Понимаешь? Я закурю?
Курил он много. И каждый раз, закуривая, спрашивал разрешения.
- Умирает мозг. Нам батюшка фильм показывал. Не наш. Но с переводом, всё, как надо. Там профессора всякие, ну, немцы там, американцы, шведы, что ли, рассказывали о вреде алкоголя и курения. Как выпьешь или закуришь, так сразу умирают клетки головного мозга. Ну а потом – болезни всякие. Ну, и рак, конечно.
Говоря об умирающих клетках, Лёха назвал точное число, но я не запомнила. Потом он подсчитал, сколько клеток головного мозга теряет за день. Сумма получилась внушительная.
- Дураком делаюсь. Бросать надо.
- Ну так?
- Да, не получается. Чуть не сорок лет уже курю. Да чё – курю? Жизнь-то уже прошла… Жалко себя, дурака.
Однажды, пока я купалась, Лёха принёс абрикосы. По берегу растут фруктовые деревья, но это надо идти, искать…Положил возле моего сарафана на траву. А сам сел немного в стороне с нейтральным видом. Абрикосы мелкие, обожжённые солнцем. Но это был жест, если не поступок!
- Мне вот наши женщины часы подарили. А то телефон то работает, то – нет, то зарядить забуду.
Лёха протянул вперёд руку и полюбовался на часы с большим циферблатом и металлическим браслетом. Потом задумчиво уставился на воду.
- Может, ещё женюсь. Женщин одиноких много. Им тоже невесело. Вдвоём всё-таки… И курить брошу. Буду конфеты покупать, а не сигареты эти.
- Кому?
- ???
- Конфеты.
- Ей… Собаки сладкого не едят.
«ЛИС»
Всего больнее мне от счастья –
Неслыханного – тебя любить.
Лис. Два ряда мелких ровных зубов. Смеётся. При очень мягком голосе смех неожиданно низкий и хищный. Неожиданно… Как подходит ему это слово. Неожиданно. Я смотрю на него, и у меня перехватывает дыхание. Я люблю, когда он смеётся. Он улыбается, и я прощаю жизни всё. За этот подарок… А улыбка – трогательная и всегда чуть застенчивая. Я знаю его всю жизнь. Или дольше. Я не знаю его совсем. Кто он? Какой он? А я – какая? Мне страшно. Это страх потери. Это страх – без него. Я уговариваю себя. Думать об этом больно. Сомнения. В себе. Я - красивая? О-о-о… В зеркале вертится кто-то растерянный и малознакомый. А в его глазах отражается Лилит. Нет сомнений. Никаких. Голубоглазый, очень ласковый. Неуловимый. Близкий. Брат, сын, любовник, друг. Он.
Как это случилось? Что, собственно, случилось? Я терзаюсь глупыми вопросами. Ответов не бывает. Не может быть. У него красивые руки. Невиданно. Непростительно. Какая ладонь… Смотрит внимательно. И тревожно. Я с ума сойду от нежности. Я пойду за ним на край света. И за край – пойду. Пойду по битому стеклу и раскалённым углям босиком. И не поранюсь. Пойду под падающими камнями. И ни один меня даже не заденет. А, может, просто не замечу... Я не боюсь камней и стёкол. Я боюсь пустоты в этих голубых глазах. Зависимость. Я зависима. Солнце, воздух, вода, он.
Обаятельный. Удивительно. Нестерпимо. Обаять… Высокий лоб. Растрёпанная его рукой чёлка. Хочется поцеловать. Неудержимо Постоянно. Каждое мгновение. Помню. Помню руками, щекой. Недолго и осторожно. Неловко. Первое прикосновение. Запах. Его запах. Цепкий и стойкий. На щеке, на руках, на платье. Я не сразу заметила. Он остался и мучил меня. Смятение. Нервное. Тревожное.
Я редко его вижу. Я так редко его вижу. Я так безжалостно редко его вижу. А вдруг я забуду запах? Не-ет… нет, нет, нет… Губы тонкие. Нежные. Удивляется подлости. Расстраивается от камней в спину. Не оттого, что попали. Потому, что кинули.
Свет. Во мне – свет. Тёплый. Иногда – лампадный, неяркий. Иногда – солнечный, искрящийся. Отражение его света. Он светлый. Он лёгкий. Он не простой. С ним легко. С ним не просто. Он понимает с полуслова. С ним можно разговаривать глазами. Можно молчать. Можно просто улыбнуться. Просто поднять глаза. Он привязывает к себе. Он привязывается. Он сам по себе. Он позволяет быть с собой. Он подпускает к себе. Он любит. Он дарит радость. Океан. Можно плавать, можно загорать. Нельзя управлять. Глупо считать своим. Он будет делать то, что захочет. Только. Он не поменяет цвет, не остановит шторм по твоему желанию. Он свободен. Всегда. Во всём. Когда кажется покорным и ручным – особенно. И всё-таки он – мой. Ревность. Нет, не ревность. Пытка. Тихая. Где-то глубоко. Повод? Нет, не нужен. Формальности. Его легко обидеть. Легко рассмешить. Доверчивый, искренний, сентиментальный, сильный. Грустноглазый. Сумасшедший. Сладкий.
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА
Все люди – дети,
Только разного возраста.
М.Светлов
Тезка
Ой, дети немного сложнее, чем мне казалось. И значительно прикольнее! День рождения. Ване – 7 лет! Восемь гостей 6-8 лет. Они еще немного стесняются, - место незнакомое и фактически одни, родители отошли в сторону. Я, стараясь растормошить, собираю их в центре Царского двора: у нас же праздник, мы сегодня тут главные! Они сбиваются в маленькую стайку, а на мое предложение встать так, чтобы я всех видела, выстраиваются в линейку. Нормальное обычное начало. Но тут раздается голос: «Оля-я!» От офисного крыльца через двор идет администратор, на протянутой раскрытой ладони – ключи. Ну, конечно, забыла! Ключи от колокольни. Нам же надо будет позвонить, чтоб все знали, что у нас – радость! Я забираю ключи и начинаю программу. Выяснив, по какому поводу они тут собрались, я предлагаю знакомиться.
- Меня зовут Леля, - радостно сообщаю я, - а как зовут вас, я щас угадаю!
Благополучно отгадав несколько имен по первой букве и развеселив собрание, я обращаюсь к очередной гостье:
- А у тебя какая первая буква?
- Лэ.
- Летучая мышь?
Смех и отрицательное качание головой.
- Лида? Люстра? Лимон? Ой, нет, это же – мужское имя!
Они смеются, я быстро перебираю слова вперемешку с именами:
- Ладога? Люда? Лестница? Лодка? Лимпопо? Лена? Ландыш? Люминий? Нет? – я до предела удивлена.
- Ну, тогда - Люк-сем-бург? Лариса? Люба? Лайма Вайкуле? Лед? Лэйла? Лала? – у девочка славянская внешность, но имена, приходящие мне на память, она весело отвергает. И я, уже отгадывая всерьез, называю все.
- Лолита? Леонсия? Ласточка? Ландыш? Ляля?
И тут она не выдерживает и радостно кричит: - Оля!
Я в замешательстве, медленно соображая, смотрю на них. Ничего себе… Им 6-8 лет… Они оглушительно хохочут. Они поняли, не сговариваясь? «Леля», захлебываясь от восторга, хлопает в ладоши.
Вот поди, пойми, что произведет на них впечатление. Им по 5-6 лет. Они стоят около меня полукругом, а я долго и бестолково выясняю, у кого сегодня день рождения? Они уже валятся от смеха, а я все никак не могу понять! Ну, что поделаешь?
- Может у вас? – с надеждой обращаюсь я к проходящему мимо охраннику, - у вас сегодня не день рожденья?
- Нет, - смеется он, - у меня летом.
Я отчаиваюсь:
- Ой, что же делать? Без торта останемся!
В десятый раз прямо ко мне выпихивают смеющуюся девочку, которая, взвизгнув, убегает за круг.
- У тебя! – догадываюсь я, обращаясь к мальчику передо мной.
- Нет, у Даши, - честно отвечает он.
Нерассекреченная Даша довольно хихикает за его спиной. И тут из полукруга делает два шага вперед и останавливается девочка с крутыми, сложно уложенными локонами. Она смотрит на меня несколько с вызовом:
- Я – Саша, - коротко сообщает она.
Я понимаю так, что этот факт сам по себе, по ее мнению, заслуживает респекта.
- О-бал-деть! В жизни бы не подумала!
Она с силой топает ногой, и раздается легкое позвякивание:
- У меня колокольчики на туфлях, - она вытягивает носок, демонстрируя маленькие колокольчики на пряжках. На мне медный браслет, сделанный по принципу монист. Глядя на Сашу, я резко взмахиваю рукой, и раздается звон, куда более сильный и эффектный. Топнув ногой, уже с досады и зло скрестив руки на груди, она поворачивается и возвращается на место. Компания смеется, а одна из девочек строго говорит: - Даша!
Даша выходит вперед и сознается:
- У меня сегодня день рождения!
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
Абстрагируйтесь от самоуверенного и коварного «как свои 5 пальцев». Никто так не знает наших близких, как мы их не знаем. Правда-правда! Прямо перед началом праздника ко мне подошла немолодая женщина, очень интеллигентная, очень приятная и напряженная:
- Вы у нас будете? Ой, как хорошо! – проавансировала она.
- Это удача, - уточнила я серьезно, но это ее не расслабило.
- Я – Димина бабушка, - волнуясь, стала объяснять она, - вы знаете, он у нас немножко… не такой. Он – хороший мальчик, но он – сложный и очень закрытый. Понимаете? Ну, такая… еще не открывшаяся шкатулочка. Надо подобрать ключик. Пожалуйста, вы как-то подчеркните его значимость, чтобы другие дети, его не «забивали». У него друзья такие… более яркие…
Она как-то виновато улыбалась. Я предложила ей составить нам компанию и ни о чем не переживать.
Сработал стереотип: я представила себе мальчика с недовольным лицом, взглядом изподлобья, руками в карманах, нервно и неприязненно твердящего: «не хочу». И, обозревая стоящую передо мной банду 10-12-летних подростков, я такого не обнаружила. На мой вопрос:
- По какому случаю гуляем? – все дружно показали на стоящего в центре мальчишку:
- У Димки день рождения!
Я удивилась. Нет, молодежь, конечно, может пошутить, но они не переглядываются. Это – Димка. Передо мной стоял парнишка с любопытными внимательными глазами, которые он вдруг смущенно опускал. Но это скорее было кокетство, чем закрытость. Впрочем, он оказался немногословным. Говорил мало, тихо, но уверенно и глядя в глаза. Его приятели, действительно, оказались более яркими, точнее – более шумными. Но через пять минут я могла бы поспорить на большие деньги, что вожак стаи – Димка. Нам предстояло искать клад – дело непростое, да еще - кругом враги, поэтому вначале, я должна была убедиться, что мне не будет страшно, ребята – сильные, смелые и дружные. Решили тянуть канат. Часто я сама делю на команды, «не глядя», чтобы избежать колебаний и споров. Но Димке предложила:
- Одного – ты, одного – я.
Он выбирал быстро, спокойно, молча показывая пальцем на избранника. Речи не могло быть о том, что его «забьют». Тянул канат Димка так же, молча, с выражением спокойной и какой-то радостной решимости на лице. Когда, войдя в азарт, все кричали, падали, толкались, Димка молчал, у него было все такое же спокойное лицо. Глядя на него, я подумала, что даже если бы это был стальной трос, в кровь режущий руки, - этот бы тянул. Так же спокойно.
Когда, сбиваясь с ног в поисках бесценных сокровищ, мы пришли на Серебряно-Виноградные пруды, я, честно рассказав о некогда обширных виноградниках и соврав о рассыпанных по дну серебряных слитках и монетах, поинтересовалась:
- Вы знаете царя Петра I?
- Да-а, - осчастливили меня.
А Димка тихо добавил:
- Петр Алексеевич.
- Петр Алексеевич, - согласилась я, - а ты откуда знаешь?
- Я знаю всех царей от Иоанна Грозного, - от Рюриковичей, - серьезно пояснил Димка.
- Да ты что? - я не очень поверила. Дети склонны преувеличить свои знания. Дети любого возраста.
- Я сначала читал только про Грозного, - он интересный, а потом пошел дальше. Петр I мне очень понравился. Он владел 14-ью ремеслами.
- А еще?- меня интересовал флот.
Димка рассказывал легко, увлеченно, дети его возраста в таких интересах мной замечены не были. Он поведал не только об основании «непобедимого флота», но и о старом ботике – «дедушке российского флота» и первых плотиках Петра. Я ликовала, мне было чем поразить этого, действительно, «не такого» мальчика. Он не знал об историческом значении места, на котором находился.
- На Серебряных прудах маленький Петр начал свое «судоходство», сплавляясь на тех самых плотиках и управляя тем самым «дедушкой». Это – «колыбель российского флота»!
И пока все суетливо искали подсказку, Димка, видимо, осознавая липовость «древнего» клада, все смотрел на пруды:
- По-настоящему, здесь начал плавать?
- По-настоящему, Дим, честное слово.
- Когда ему было 10 лет?
- Да.
И впервые я увидела на его серьезном лице совершенно детское, нескрываемое удовольствие. В маленьком Петре он согласен был признать равного.
- А почему – Серебряные?
- Раньше в этих прудах били родники с очень чистой водой. В ее составе было серебро. Но сейчас уже…
- Слитки? – весело спросил Димка.
- И монеты! – кивнула я.
Когда наши многотрудные поиски были счастливо завершены обнаружением клада, и дети отправились на мастер-класс к нашим умельцам, я встретила Димкину бабушку во дворе:
- Ну как?
- Я всю программу переживала, - честно сказала я,- зачем я такая старая? Какой будет мужчина!
МОЖНО С ВАМИ?
Иногда, сдав мне детей: «вот наши» и уточнив, во сколько и где они получат их обратно, взрослые моментально куда-то теряются на территории. Им не скучно, есть, что посмотреть, есть, где погулять и «Трактиръ», конечно! Но иногда взрослые выражают желание принять участие в детской праздничной программе. Не в смысле покрутиться возле нас, пофотографировать или из недоверия ко мне походить следом, последить за происходящим, нет. Они хотят стать полноценными участниками действа. Обычно такое желание появляется в самом начале программы, пока я налаживаю дипломатические связи с цветами жизни, и посещает оно открытых, умеющих обрадоваться любой ерунде людей. Такие играют с нами в царские забавы, ходят на чудо-лыжах, ползают на четвереньках отыскивая подсказки и сами от себя приходят в неописуемый восторг, вспомнив пять сказок про царя. «Но только про царя! Короли и принцы – свободны, «Золушек» и «Белоснежек» не нужно!» Мне такие глубоко симпатичны. И поэтому, когда у меня спрашивают: «А можно с вами?», я обращаюсь к коллективу:
- Ну, что – берем с собой? Они нам на что-нибудь пригодятся!
Получив согласие, они бурно радуются, суматошно решают вопрос, как им быстрее избавиться от сумок и пакетов с подарками и становятся «в строй». Что тут начинается! Ни дорогие костюмы, ни рискующие жестоко разорваться колготки не в силах их остановить. И уж, конечно, бессильны мои символические предупреждения:
- Взрослые могут искать подсказки, но, найдя, должны молчать. Если не молчится, сказать мне. Если хочется большой аудитории, сказать всем, но не обнаруживать подсказку!
Следом неизбежно раздается счастливый крик:
- Я нашел! (нашла) – и торжественно вздымается вверх рука с обрывком карты. Они не выдерживают! Скажите, пожалуйста! Они с детской сосредоченностью разгадывают хитрые загадки ремесленников. И вдруг поняв, что «язык есть, речей нет, а вести подает» - это книга, радостно кричат:
- Я знаю, я знаю! – и снова не выдерживают:
- Книга!
И искренне озадачиваются и задумываются, когда я говорю:
- Вообще не она! Где у нее язык?
Но если кто-то догадывается, что это – не книга, ни в коем случае не радио, а – колокол, счастье безгранично! Мое – тоже!
Такие взрослые по-детски проникаются презентацией кузнеца как «повелителя огня и металла» и робко просят у него разрешения «подержать молоток». А когда кузнец благодушно позволяет еще и ударить, еще и по раскаленному, ярко-рыжему железу, - о-о-о!!! Они так рады! Они так за это благодарны! И они правы, - кузнец не обязан уделять им внимание. Максимум – виновнику, и то – по особой предварительной договоренности. Но как советует мама сыну в одном хорошем мультике: «Улыбнись тому, кто в пруду!» А сколько людей ходят с палками, всерьез рассчитывая, что тот, кто в пруду, будет им улыбаться! Может, мультики не те смотрят? Вот, кстати, отдельный поклон – благодаря этим искренне принимающим игру взрослым, я постигла удивительную вещь. Раньше приходя на Серебряно-Виноградные пруды в поисках подсказки, я в приступе научно-обоснованной честности, мотивируя название водоема, рассказывала о виноградных плантациях, которые когда-то росли по его берегам и о родниках с чистой, содержащей серебро водой. И только самым маленьким, я плела о вечно плодоносящих виноградных садах на дне и о затонувшем корабле, груженном серебром. И в какой-то момент именно по взрослым я стала замечать, что подводные сады и затонувший корабль – это сказка, которой рады. А «серебро в составе воды» - это такая утомительная, неуместная банальность. И я упразднила возрастной ценз. Полностью. И теперь эту историю для восприятия «видящих в луже только лужу», я адаптирую исключительно по дополнительному запросу. Но что интересно, иногда малышам, если компания любознательная, я сообщаю историческую правду, и они удивляются. Они еще только постигают мир, и сказки в их жизни больше, чем действительности, подводные сады встречаются им чаще, чем источники с очень чистой водой.
Вообще, дети лет до 6 охотно удивляются и радуются чему угодно: таинственному царю, пока занятому, принимающему послов во дворце, белым голубям, расхаживающим по двору, построенному без гвоздей храму Николая Чудотворца, вытянувшейся поперек бревна кошке, бойцам в высоких сторожевых башнях, спасающим нас от внезапного нападения врагов… И как здорово, когда взрослые сохраняют эту способность и шепотом интересуются, не будет ли царь гневаться оттого, что мы шумим во дворе? И не набегут ли стражники с алебардами? И где сейчас дофантазированные ими самими наследники царя? И как грустно от всех эрудитов, корректирующих мою неосведомленность:
- Царей у нас с 17-ого года нет!
- Это у вас нет, а у нас – Божьей милостью!
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 31 Окт 2019, 09:53 | Сообщение # 34 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | МЕЖДУ ПРОЧИМ...
Сижу на изогнутом стволе дерева возле озера в Лефортовском парке. Крошу уткам хлеб. Пытаюсь приманить поближе любимых мной за исключительную сообразительность ворон, чтобы покормить с руки. Хоть и побаиваюсь. Однажды в этом же парке я видела, как ворона, найдя маленький бублик, взяла его в клюв, допрыгала до озера и, опустив голову так, что бублик полностью погрузился в воду, стала поворачивать шею влево-вправо. Я обалдела! Размачивает!
Так вот, сижу. И солнышко светит, и ветерок дует, и листочки распускаются, и слышен запах земли от свежевскопанной клумбы, и состояние у меня благостное и расслабленное. И тут нате: подходит какой-то лысеющий и невыразительный и без предисловий интересуется:
- Как вы относитесь к действиям премьера?
Мне не понравился тон. Тупость вопроса – еще больше. Сам премьер – объект моей стойкой и глубокой симпатии десятилетней выдержки. А его действия?..
- А как вы относитесь к действиям физиков-ядерщиков?
- Это не ответ на мой вопрос.
- А вам кто-то дал позволение задавать мне вопросы?
Он смотрит на меня долго и презрительно:
- Что нормально сказать не можешь?
- Могу позвать сержанта милиции.
- Дура!
Центральный пост охраны парка шагах в 20, и он предпочитает отойти. Вороны возвращаются. Но, видно, не день Бекхема. Следом подходят две неприметно и прилично одетые дамочки и протягивают мне тоненькие книжечки:
- Почитайте, - крайне благожелательным голосом говорит одна.
Я, молча, отрицательно качаю головой.
- Вы знаете, откуда столько проблем и горя в мире?
Я – нет, но и они не производят впечатление просветленных. Они похожи на цыганок у Киевского вокзала, спрашивающих, как пройти на Дорогомиловскую? И пока ты рассеянно показываешь рукой на ближайший поворот, начинающих быстро причитать: «Ой, золотая, беда тебе большая будет!»
- А еще не поздно остановиться, - доверительно сообщают мне.
- Вам непременно нужно меня остановить?
- Вы напрасно смеетесь.
Какой уж тут смех. Я думаю о том, что с любимого места придется уйти, - не отвяжутся. Предпринимаю отчаянную попытку – говорю правду:
- Понимаете, мне очень хочется побыть одной, я не хочу разговаривать.
И тут, увидев спасительно шествующих по аллее двух молодых мужчин в милицейской форме, весело предлагаю дамочкам:
- Вы вот им расскажите про мировые напасти! Они послушают. И даже запишут… в протокол.
Те переглядываются, сокрушенно качают головами и, выразив сожаление о моей недальновидности, уходят. Ave Maria! Воробьи бесстрашно пытаются вклиниться между утками и, схватив кусок побольше, тут же улетают. Утки деловито топчутся у самых моих ног, а два селезня, вытянув изумрудные головы и раскрыв крылья, грозно шипят друг на друга, - весна! Но мне не дают досмотреть, чем у них кончится дело. Передо мной присаживается на корточки какой-то не состоящий в обществе трезвости хлыщ с сакраментальным:
- Девушка, а вам не скучно одной?
- А ты чего развеселить можешь?
- Я все могу, - он кажется себе обаятельным.
- Джин?
- Угу, - кивает удовлетворенно.
- И желания исполняешь?
- Пиво будешь? – с готовностью предлагает он.
- Нет, пива не хочу.
- А чего хочешь? – говорит он с видом шейха, предлагающего алмазы. Я оглядываюсь по сторонам, ища мужчин в форме, и обнаруживаю их рядом, возле грота. Если крикнуть, даже просто повысить голос, они услышат. И я, успокоенная, загадываю «джину» желание:
- Пошел вон отсюда.
Конечно, некрасиво. Конечно, хамство. Но такой противный! Судя по всему, я не была оригинальна. «Джин» привычно оскалился:
- Ты че?
Я молчала. Он завелся:
- Где хочу, там сижу. Поняла?
Милиционеры пошли в нашу сторону, и желание сидеть именно здесь у «джина» молниеносно пропало. Впрочем, поздно. Его уверенно окликнули. Что бы я без них делала? Маги и чародеи в форме, решающие вопрос фактом присутствия! И запах земли такой приятный, весенний, и ветерок шелестит ласково, и вороны косят умным глазом. Глядя на темную воду, сижу и вспоминаю Высоцкого: «Давайте выпьем за тех, кто в МУРе, за тех, кто в МУРе, никто не пьет!»
«СЕРЕЖКА С МАЛОЙ БРОННОЙ»
Братья и сестры!
Иосиф Сталин
Его я заметила сразу. Старик. Но не дед. Худощавый. До неприличия импозантный. Костюм цвета горького шоколада и бирюзовый галстук. Под глаза. Спина прямая. Взгляд ясный. Держится с достоинством и очень галантно. Порода!
- Сергей Андреевич, - представился он, пристально глядя в глаза. Он родился в Москве в феврале 1921 года. Третий и самый младший сын в семье архитектора. Жили в одном из переулков Малой Бронной – Спиридоньевском. В коммуналке. Был когда-то свой дом под Москвой и квартира на Серпуховке, но Сергей Андреевич этого уже не застал. Застал веселую, по его воспоминаниям, тесноту коммуналки, не сытое, не голодное детство, поздно приходящего домой с тубусом в руках отца и маму, то шьющую, то кроящую. Как это было давно! А во дворе была девочка – Любка. Вся в веснушках. Рыжая-рыжая! Тощая-тощая! И ослепительно красивая!
Мама – Анна Матвеевна - шила на заказ, и если кто-то из заказчиц в благодарность приносил что-то вкусное: конфеты, пирожное, хорошее печенье, сыр, - Сережка не ел свою долю. С этим сокровищем он несся к Любке. И пробегал так девять лет, до 38-ого года. От старшего брата – Дмитрия перенял страсть к боксу и коллекционированию репродукций. Это было как коллекционирование картин, но в условиях действующего времени. А средний брат – Миша любил рисовать сам. И пока Сережа с Димой обклеивали одну стену комнаты репродукциями картин великих мастеров, стену напротив Мишка украшал своими шедеврами, среди которых был очень похожий портрет рыжеволосой длинноносой девчонки. Картина называлась: «Невестка».
Отец – Андрей Андреевич, никогда не позволявший себе небрежности в одежде и грубости в обращении, говорил: - Мальчики, что бы ни случилось, не теряйте достоинства и ничего не бойтесь, стойте спина к спине.
В ноябре 33-его года утром отец ушел с двумя, специально приехавшими за ним мужчинами. И не вернулся. Матери не сказали ни где он, ни что с ним. Так же утром в апреле 34-ого приехали за Дмитрием. А ему только что исполнился 21 год. «Участие в подготовке контрреволюционного переворота». Он, кроме бокса своего, знать ничего не хотел. Режим дня, зарядка, тренировки и мечта о почему-то непременно итальянском бежевом костюме. Сначала его кидали по московским изоляторам, и мама бегала с передачами, чуть не сутки отстаивая в очередях. А однажды передачу не приняли и сказали, что Дмитрий сослан в лагерь на десять лет без права переписки. Был ли он еще тогда жив? Кто это знает. А потом мама на последние деньги купила какую-то красивую ткань, бежевую с искрой, и сшила изумительный костюм. Он висел в шкафу. Другие вещи Дмитрия носили Мишка с Сережей, а костюм ждал старшего брата.
В январе 37-ого шли повальные обыски, у соседей нашли какие-то «не те» книжки и забрали друга Дмитрия – Сашу, а в марте, ничего не ища, забрали Мишку. Он был некрепкий такой, смешливый, и страшно было видеть, как, положив ему на голову руку, его впихнул в машину здоровый мужик в высоченных сапогах. Что было с матерью… И снова она собирала передачи, и снова стояла в многочасовых очередях, но уже почти не могла шить, - дрожали руки. А Сергей работал, где придется: разгружал, подметал, мыл, подносил… И теперь Любка бежала к ним с сокровищами: куском сала, консервой, маслом. Через год при пересылке как-то пропал Миша. Из лагеря, где он был, сообщили, что его отправили в другой. Но в другой он не прибыл. Это был август 38-ого.
В конце октября пришли за Сергеем. Он помнит, как у него похолодело все внутри, и как, словно не он, а кто-то другой оделся и вышел из дома. Разобрались быстро, - «антисоветская пропаганда». Суть не уточнили. То ли что-то где-то ляпнул, то ли с кем-то «не тем» общался. Да, мало ли? Невеселая шутка того времени: был бы человек, - статья найдется. Через три месяца он уже сплавлял лес. Никого из родных он больше не видел. Никогда. Он часто думал про маму. Что с ней? За что это ей? Живы ли братья? Увидит ли Любку? О том, что началась война, в лагере знали, но не из офиц. источников. А потом по внутреннему радио передали обращение Сталина, начинавшееся словами «братья и сестры». И лагерь плакал. Сказали, что те, кто хочет искупить свою вину перед Родиной, могут отправиться на фронт. Хотели все. Но поначалу не всех пускали. Не все оказались достойны права умереть за Родину. Сереже это право великодушно предоставили. Штрафбат. Солдаты к штрафбатовским относились по-разному, но больше жалели, особенно совсем молодых. Он дошел до конца войны, ранен был восемь раз, но цел. И какая была радость – понимать, что фашисты разгромлены, Победа! Все теперь будет по-другому! Все изменится!
И изменилось. Вместо лесосплава – лесоповал. В августе 45-ого Сергей вернулся в лагерь, - в свой, советский. Кроме врагов революции и антисоветчиков в лагере оказались те, кто попал в плен во время войны, часто – по бездарности и неумелым действиям военачальников. Жуткое чувство несправедливости и не менее жуткое – беспомощности. Сергей Андреевич вышел из лагеря в феврале 54-ого. Никита Сергеевич выпустил. 15 лет. С небольшим.
- Я в Москву вернулся, ходил, как шальной. Другой город, другая страна, и люди улыбаются. А я – один. Никого. И не знаю, жив ли хоть кто-нибудь, и где искать. И все надеюсь, что кто-нибудь вернется: Мишка, Димка, папа. А вдруг – мама. Но почему-то знал, что мамы нет. У меня же ничего в жизни не было, кроме этих воспоминаний. Ни одной вещи, ни одной фотографии… Ничего… Сижу на Патриарших и не пойму: было, не было? Много лет спустя, я узнал, что отец и Дмитрий были расстреляны сразу, в Москве, а Мишка умер в лагере. Он тоже работал на лесоповале и сильно поранился, наверное, деревом задавило… Мама умерла в 41-ом, и Любка – в 41-ом под Москвой. Санитаркой была. А я – живой. Выживший. Мне часто говорят: «Как вы выглядите… какой вы молодой… какой вы бодрый… в ваши годы…» А я смеюсь: «Какие годы-то? Я не 21-ого, я – 54-ого!» Нет, я жизнь хорошую прожил. У меня семья большая: два сына, дочка, семь внуков, правнуков – уже четверо. А жена – умница. Когда дочка родилась – в 61-ом, я в роддом примчался, земли не чуял! Счастливый был - очень дочку хотел, и говорю жене:
-Ты только не обижайся, но давай Любкой назовем…
А она мне тихо так:
- Нет, Сережа, - и улыбается, - Любушкой!
Сергей Андреевич, лукаво наклонив голову, счастливо улыбнулся. 54-ого, не старше! Закончился какой-то торжественный марш, и понеслась мелодия «Ах, эти тучи в голубом».
- Оль, а вы вальс танцуете?
«ПОДАРОК СОЛНЦА»

Но что бы ни было, всего дороже мне
Перечеркнувший прошлое мое
Шрам тонкий, бровь чуть рассеченная.
На нем костюм, которого я еще не видела: а-ах какой! Медленно, эффектно вертится, дурашливо-игриво позируя, показывает себя со всех сторон. Я любуюсь. Я балдею. Мне хорошо до восторга, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не броситься ему на шею. Еще на мгновение у меня хватит сил. Он это понимает. Я теряю сознание. Я утрачиваю всякую способность соображать. Немного выше меня ростом, крепкого сложения, гладкий и не так красивый, как удивительно ладный. Я точнее слова не подберу. Он именно - ладный. Все в нем – так. И эта его мелкозубая улыбка… Драма, катастрофа, любовь! Любовь? Любовь. Я испугалась, я отговаривала себя долго. И боялась отговорить, и боялась поверить.
Встретились мы случайно. И в нашу первую встречу я запомнила только роскошные ярко-красные легкие туфли и необычайно красивые руки. Еще - собственную легкую прострацию.
- Ты видела, какие руки? - спросила я потом у подруги.
- А-а, ты на руки смотрела, ну, слава Богу, - с театральным облегчением выдохнула она, - А то я уже думаю: ну что делает, хоть бы глаза подняла!
- Балда. Я серьезно.
- Серьезно – он и сам ничего.
Осталось странное и приятное чувство. Он мне понравился, и чем-то удивил. Я и сама не могла бы сказать, чем. Чем-то неназываемым. Шло время. Редко, но я его видела. Всегда с удовольствием, всегда была искренне рада видеть, но не скучала по нему. Вспоминала отвлеченно, как приятный сон.
Впрочем, если в моем присутствии о нем заговаривали, я проявляла живейший интерес. Маркс правильно заметил: спрос рождает предложение. Для внимательных он стал одной из тем в разговоре со мной. Отзывались по-разному. Если говорили плохо, я чувствовала неудовольствие. Отпор не жесткий, но давала, - умывала. Он, кстати, совершенно не умеет отвечать на открытое хамство. Он теряется. Но это не страшно, - я умею. Мне самой не все в нем нравилось, многое не нравилось. Но вот то, что замечательней всего в моем к нему отношении: с самого начала я приняла его целиком, таким, какой есть. Поверхностно на что-то негативно реагируя, я глубоко в себе приняла все. Это особое чувство. Трудно объяснить. Мне что-то в нем не нравилось, но он мне нравился именно таким со всеми этими «что-то». Бывает и так. Сама до конца не понимаю!
Потом-потом-потом, все глубже в него вглядываясь, я увидела то, что за красными туфлями ускользает от взгляда. И его потрясающая искренность и вместе с тем закрытость. И желание верить, и усталый страх – ошибиться. И способность «идти с добром», и грустная привычка к тому, что доброту принимают за слабость и стараются ударить. И готовность еще обжигаться, и по-детски наивная попытка спрятаться за внешнюю независимость. Философы говорят: «Пройдет время, и…» И беспроигрышно оказываются правы: время проходит. И как-то так незаметно все, что мне в нем не нравилось, со временем стало нравиться. Если бы в нем хоть что-то изменилось, это была бы кража, обворована – я. Сейчас я, схватив за руку память, кидаюсь назад. Я ищу тот день, ту минуту, тот взгляд, то слово, - Господи, да хоть что-нибудь! Откуда что взялось? Где начало этой терзающей наркотической привязки? Как появилась эта бездонная нежность и боль с ним, без него, за него? И какие молитвы превратили все это необъяснимое просто в любовь?
Память разводит руками, в тот момент она отвлеклась. « Хорошая моя, ну, давай попробуем еще раз! Ну, давай вернемся, я тебя очень прошу!» - и мы с памятью снова несемся куда-то наугад. И снова ничего не находим. Мы просто не знаем - что искать? Событийно моя память безупречна. Была «великая депрессия». Отправных точек для нее нашлось много, причина одна – загнанность. В суете сует «вдруг ни с того, ни с сего» умер мой кролик – Шмель. А я, запредельно занятая, даже не заметила, что с ним что-то не так, - некогда было. Потом, когда лежала лицом вниз, времени оказалось навалом. Неотложные дела отложились, даже не вздрогнув. Моя редкой лояльности совесть слушать ничего не захотела. И я что-то поняла. То, что недавно определяло направление движения, оказалось ненужным. Потеряли значение отношения, люди, желания. Немногое уцелело, почти ничего. И то я доломала.
И была великая реставрация. И чудо - еще не отравленная мыслями радость – он. Сначала – настороженная, потом – безудержно хлынувшая как прорвавшая плотину вода. И вот тут мы с памятью мечемся, растеряно глядя друг на друга: отчего так неодолимо потянуло к нему? Откуда взялась эта радость? Смятение, нежность, боль пришли после. После с ясностью чистого белого листа я осознала сотворение из ребра. А когда пришла любовь, я не знаю. Может, она прокралась еще тогда, отвлекая меня красными туфлями, и затаилась. О-о, она могла! А, может, она, сметая все, ворвалась ноябрьским вечером, когда, обернувшись, он улыбнулся и подбежал ко мне. Все, что было до этой улыбки, осталось «до». Вечер обрывая нервы, швырял меня от смеха к слезам. До утра, не снимая плаща, не включая света, я просидела в кресле со странной парой - безмятежностью и безысходностью. А, может, любовь пришла несколько дней спустя, властно и спокойно, - хозяйка. И я стала веселой, сильной, беззащитной и счастливой. Впрочем, может, и не пришла. Может, любовь была всегда, как Солнце. Ночью его не видно, но оно есть! Восходит рассвет и завладевает землей. Я отпущу память. Когда началось Солнце?
|
| |
| |
| Анастасия | Дата: Вторник, 07 Янв 2020, 17:02 | Сообщение # 35 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 236
Статус: Offline | Иван Давыдов
"ЛЕДЯНОЙ ЗВЕРЬ"
У кошки не было имени, зато была стая и еще была густая шуба. Они так и жили на улице, гоняли в парках - там было 4 парка сразу - воробьев и спали, сбившись в кучу, так теплее. Крупные, серые, ну, то есть это старшие - крупные и серые, а кошка - совсем маленькая. Будь кошка человеком, она бы сказала, что живет уже 4 месяца на этом свете, скорее, все-таки уютном, чем наоборот. Но кошка была кошкой и помнила только, что сначала было тепло, а потом не очень тепло. В ее мире случались неприятности. Сначала - изредка - вода с неба, потом - тоже изредка - что-то белое и холодное. Но у нее была шуба и возможность спать, прижавшись к старшим, и всерьез ее расстраивало только то, что воробьи слишком ловкие. Поймать воробья никак у кошки не получалось.
У человека имя было, так уж у людей принято, но оно никакого значения для нашей истории не имеет. И был адрес - Тайнинская ул., там рядом еще строят новые дома с большими красивыми окнами. Теперь и у домов есть имена, дома как корабли, эти назывались «Нормандия». Не центр, скажет житель центра, влюбившийся в шум и копоть. Ну да, не центр. Зато деревья, медленная Яуза, которая даже в самые безжалостные морозы отчего-то не замерзает, утки на Яузе и кошки в парке.
Человек иногда смотрел, как кошки в парке гоняют воробьев. Наверное, он и эту, маленькую, видел, но при встрече узнал бы едва ли - все бездомные кошки кажутся одинаковыми, а эти и правда походили друг на друга - стая ведь. Густые шубы, сероватые с отливом в коричневый. Вот, пожалуй, и все, что он мог про этих кошек сказать, если бы его вдруг спросили про кошек. Но его никто никогда не спрашивал про кошек. Его спрашивали про другие, куда как более скучные вещи. Где отчет. Почему не вовремя. Как прошли переговоры. Или - это если в мир человека заглянуть с другой стороны: планы на вечер. Сходим в ресторан сегодня, отличный новый, говорят, открылся на Покровке, Игорь, между прочим, Наташку уже сводил, а ты со мной никуда не ходишь. Ну и так далее. Кошачий век короче человеческого, и если пересчитать по курсу, человек прожил уже несколько кошачьих жизней. А если прожить несколько жизней, многое становится скучным.
Человек стал раздражительным, мог ответить резко на любой из вопросов - и про ресторан, и даже про отчет. Человек спал меньше, чем хотелось бы (есть у людей такая странная традиция), что тоже его добрее не делало. Человек, как все городские люди, природу вокруг замечал не всегда, но, как все вообще люди, от смены сезонов зависел. Когда на деревьях листья и ночью на Яузе поют свои немелодичные любовные песни лягушки, человек злился меньше. Когда вокруг снег, как сейчас, человек злился сильнее. Но всегда оставался верным себе: всегда был немного сонным и немного нервным. В то утро - совсем рано, когда все почти люди спят и только дворники посыпают снег чем-то едким, от чего потом болят лапы, кошка зачем-то отправилась в путешествие. У нее, конечно, не было особого плана. Сначала она заметила пустой пакет, который ветер гнал вдоль тропки, погналась, согрелась, оглянулась. Где-то там, в подвале, сбившись в кучу, грели друг друга старшие. Пакет наскучил ей, и она двинула, удивляясь холодному снегу, вниз, к речке. Прошлась по берегу. Вспомнила: раньше берег был липкий, теперь стал твердый. А вода осталась водой. И тут. Тут случилась беда. Кошка почувствовала вдруг, что берег не просто твердый. Он еще и скользкий. Лапы разъехались, она плавно съехала в воду, и сразу поняла, что это такое - когда холодно становится по-настоящему. В тельце кто-то недобрый воткнул невидимые когти. Кошка рванулась вверх, скатилась еще раз в воду, снова рванулась, выбралась и побежала туда. Где свои, старшие, подвал, тепло, куда большие странные существа приносят иногда еду. Человек, вообще говоря, рассчитывал выспаться. В этот день как раз отменилось совещание с утра, и можно было позволить себе пару лишних часов сна. Когда проживешь много жизней, начинаешь понимать, что пара лишних часов сна - в списке самых дорогих для тебя вещей.
Но еще вечером планы накрылись. Сначала человек - он и сам не знал почему, так бывает, и в этот раз так вышло, - отбился от очередного похода в театр. Не в этом беда, театр он любил умеренно, но девушку, которая хотела с ним в театр, обидел все- таки зря. Сами собой отыскались злые слова, сами собой сказались. И не следовало бы, да что уж теперь. Он повесил трубку, мессенджер тут же взорвался потоком однообразных упреков, и человек собрался было выключить телефон, но телефон зазвонил. Нет, не девушка, начальник, надо завтра встретиться с клиентом из Воркуты, нет, нельзя перенести, он всего здесь несколько часов между самолетами, нет, он именно с тобой хочет, вот ты мне потом и расскажешь почему. Все, разговор окончен, выполнять. И человек, ругая про себя театры, начальников и даже Воркуту, в которой никогда не был и побывать не стремился, поставил будильник. Смотрел на цифры на экране, злился все сильнее и долго потом не мог успокоиться. Сидел, смотрел в телевизор и даже не очень понимал, что в телевизоре показывают. Чтобы развлечься, достал с антресолей искусственную елку. Какая-то из прошлых жизней оставила эту елку на антресолях. Достал коробку с игрушками. Новый год ведь скоро. Единственный праздник, который не успевает совсем разонравиться, сколько бы ты ни жил. Сколько бы ты ни жил, где-то внутри все равно есть тот самый ребенок, который на елку привык смотреть большими глазами. Собрал елку, повесил шарик, еще шарик. Рассматривал долго игрушку, доставшуюся от бабушки: серый котенок с искусственной улыбкой, внизу специальная прищепка, там, где задние лапы. Твердая, стальная. Чтобы крепить к ветке. Подумал, бывает ли у котов Новый год. Бросил елку, лег все-таки спать. Кошка уже не бежала, а ползла к домам, потому что задние ноги перестали ее слушаться. Все, что там, сзади, стало вдруг неживым и твердым, как берег у реки. Как лед на лужах. Она доползла. Легла среди машин и заплакала. Она не знала, кого она звала. Мир был пуст, и никто не шел к ней на помощь. Мир перестал быть уютным. Мир кончался. Человек, проклиная все, что можно проклинать, потянулся, встал, привычным движением выключил будильник, отправился в душ. Сварил чашку кофе и понял, что не хочет кофе. Тем более - возиться с завтраком. Оделся. Замотал шею шарфом, потому что вспомнил - телевизор что-то говорил в ночи про мороз. Вообще-то шарфы человек любил даже меньше, чем театр, но в это утро боялся почему-то холода. Слово «Воркута», что ли, угнездившись в мозгу, начало на него действовать.
Он вышел, поежился, поискал перчатки в кармане, понял, что забыл перчатки, решил не возвращаться, хотя мороз уже воткнул ему когти в ладони. Солнце больно ударило по глазам, он остановился, закрутил головой в нелепой ушастой шапке. Он носил эту шапку, чтобы напоминать себе самому, что когда-то и у него была юность. Довольно веселая юность. Он улыбнулся невольно, забыв на короткую секунду про недосып, Воркуту и прочие неприятности. Потом пошел к машинам и тут увидел кошку. Или даже не совсем кошку. Между машин по грязному снегу ползал и вопил ледяной ком. Человек вздрогнул. Ему было некогда спасать кошку. Он не выспался. У него встреча. Он вообще не умеет заниматься такими вещами. Он даже хотел закурить, но вспомнил, что бросил курить. Просто стоял и смотрел на это - почти неживое, но все еще кричащее. А потом выругался про себя, замотал кошку в шарф и пошел домой. Старшие приучили кошку - у этих странных больших можно брать еду, но близко их к себе подпускать нельзя. Однако теперь она не могла сопротивляться. Она просто дрожала. Даже глаза у нее дрожали, и это было страшно. Человек кое-как оттер кошку салфетками, замотал в полотенца, положил в коробку из-под ботинок. Перерыв записную книжку, нашел телефон знакомой, которая работала в каком-то там приюте. Не сразу объяснил, кто он, она все-таки вспомнила, назвала номер клиники, сказала, на кого сослаться. Руки дрожали почему-то, пришлось вызвать такси, кошка в коробке затихла, и он не знал, довезет ли ее живой до врачей. Но очень хотел довезти. После долго не мог натянуть на ботинки синие бахилы. Потом сбивчиво рассказал улыбчивому мальчику в халате, тоже синем, а не белом, почему-то, как нашел кошку. Потом перевел на лечение денег, рассказал про кошку знакомым в социальных сетях, и они тоже перевели денег. И даже незнакомые перевели. Кошек любят многие люди. Есть люди, которые любят кошек сильнее даже, чем других людей. И, может быть, они по-своему правы. А кошка оказалась живучей. Оттаяла, ела с аппетитом, радовалась, что задние лапы снова ей подчиняются, скакала по тесному больничному вольеру и пыталась маленькими зубешками прокусить ветеринару перчатку, чтобы добраться до пальца. Человеку присылали фото и видео, он смотрел и делался чуть менее раздражительным.
Они не должны были встретиться, конечно. Если бы не эта ссора, не этот звонок, не эта Воркута. В нем не должно было хватить остатков добра, чтобы забыть про работу и возиться с кошкой. Человек давно уже ни во что не верил, а во что верят кошки - их кошачья тайна. Но вот получилось так почему-то, что они встретились и что он завернул ее в шарф. Что-то их вместе свело, и кошка не умерла страшной ледяной смертью. Когда кошка подлечилась, ей нашли семью. И она постепенно забыла стаю, подвал, воробьев. Хотя нет, на воробьев она теперь смотрела с подоконника, и поймать их все равно не получалось: мешало стекло. Стекло - это вроде льда, но совсем не такое страшное. Кошка привыкла принимать поклонение от людей, самонадеянно называвших себя ее хозяевами. У кошки появилось имя, а также - присущая всем домашним котам самодовольная наглость. И никто не мог бы сказать наверняка, вспоминает ли кошка тот твердый и скользкий берег, холодную воду, колючий шарф. И человека, который случайно оказался рядом с машинами утром. Что-то, наверное, вспоминала все же, потому что во сне иногда билась, сучила лапками и скалила зубы. Человек остался доживать очередную жизнь, такую же, как все предыдущие: с совещаниями, встречами, отчетами, ссорами, перепиской в мессенджерах и вечным недосыпом. Он кошку больше не видел, но иногда вспоминал ее. Дрожащие глаза, плач, шарф и то, как уже в машине она отогрелась немного. Он стыдился слегка своих мыслей о той кошке, они казались ему слишком сентиментальными. Но ему становилось теплее, когда эти мысли его догоняли вдруг.
https://snob.ru/literature/etalon/2/
Катерина Холабёрд
"АНГЕЛИНА ВСТРЕЧАЕТ РОЖДЕСТВО"
Близился чудесный праздник Рождества. В школе, где училась Ангелина, полным ходом шла подготовка к рождественскому концерту. Вот и сегодня все остались после уроков, чтобы украсить зал гирляндами, серебристым дождиком, шариками и снежинками. Когда Ангелина наконец отправилась домой, на улице совсем стемнело. В небе зажглись яркие звёздочки. Белые хлопья снега тихо падали на землю. У Ангелины было прекрасное настроение, и она то и дело принималась танцевать на тротуаре, к удивлению прохожих. Домики, мимо которых шла маленькая мышка, были такими тёплыми и уютными! Из труб вился лёгкий дымок, приветливо светились окошки, а на каждой двери уже висел рождественский венок. Только самый последний домик на улице казался заброшенным и сиротливым.
Ангелина подошла к нему и заглянула в тёмное окошко. Она увидела пожилого почтальона мистера Белла, который, съёжившись, сидел в кресле возле камина. Ангелина со всех лапок помчалась домой. Запыхавшаяся, она ворвалась в кухню, где мама и кузен Генри готовили вкусный праздничный ужин, и рассказала об увиденном. «Бедняжка мистер Белл, - сокрушённо покачала головой миссис Мышаусс. - Когда-то он служил почтальоном у нас в городке, но теперь стал совсем стареньким и больше не может работать». Ангелина тут же решила, что мистеру Беллу непременно нужно подарить что-нибудь на Рождество.
Мама приготовила тесто, и Ангелина вместе с Генри стали лепить сладкое фигурное печенье. Они вырезали из теста звёздочки, колокольчики и ёлочки. Генри слепил большое печенье в подарок Санта-Клаусу. «Смотрите, как красиво получилось! - гордо пропищал малыш. - Я сегодня не лягу спать, буду ждать, когда придёт Санта-Клаус, и сам подарю ему печенье!»
«Нет, Генри, - строго сказала Ангелина. - Санта-Клаус приходит ночью, когда все дети уже крепко спят. Оставь печенье на каминной полке. Санта-Клаус поймёт, что оно для него. А теперь быстро в кровать!». Генри топнул лапкой и захныкал: «Не-е-ет! Я не буду спать! Я хочу увидеть Санта-Клауса!»«Перестань, Генри! Нельзя быть таким плаксой!» - рассердилась Ангелина.Но Генри никак не успокаивался. Наконец миссис Мышаусс взяла его на руки и отнесла в постель.
Наутро Ангелина помогла маме и папе уложить в корзинку печенье, сладкие пирожки и головку сыра для мистера Белла. «Генри, хочешь пойти вместе с Ангелиной? - спросила миссис Мышаусс. - То-то обрадуется мистер Белл, когда вы принесёте ему рождественское угощение!» Но малыш Генри всё ещё был обижен и не сказал в ответ ни слова. Ангелина вместе с папой взяли корзинку и отправились к мистеру Беллу. По дороге они купили для пожилого джентльмена большую пушистую ёлку. Генри с хмурым видом плёлся за ними.
Старенький почтальон был очень рад гостям. Он расцеловал Ангелину, пожал лапу мистеру Мышауссу. А потом заметил одинокую фигурку малыша Генри. «Что же ты не заходишь в гости, дружок? - ласково сказал мистер Белл. - Добро пожаловать!». Когда все прошли в дом, почтенный старичок лукаво улыбнулся гостям: «Ну-ка, друзья, подождите меня!». Через несколько минут он снова появился в гостиной. Ангелина и Генри взглянули на него - и ахнули! Перед ними стоял……самый настоящий САНТА-КЛАУС! «Когда-то давным-давно я был Санта-Клаусом на городском рождественском празднике, - вздохнул мистер Белл. - Славное было времечко!». Он обнял Генри, посадил его себе на колени и начал рассказывать разные истории. В это время Анжелина наряжала ёлку, а мистер Мышаусс достал из корзинки печенье и заварил душистый чай. «В городе все меня знали, - вспоминал мистер Белл. - И привыкли, что в любую погоду я разъезжал на велосипеде и доставлял письма и посылки. А накануне Рождества я всегда привозил мышатам подарки. Однажды поднялась сильная метель, все дороги замело. Тогда я сложил подарки в санки, встал на лыжи и пошёл вперёд, несмотря на ветер и вьюгу. Я страшно замёрз и чуть не сбился с пути… Но всё-таки мышата получили свои рождественские подарки вовремя!». Генри слушал затаив дыхание.
Наконец гости стали прощаться с добрым хозяином. Перед выходом Генри сунул лапку в карман своего пальтишка, достал большое печенье, приготовленное специально для Санта-Клауса, и протянул его мистеру Беллу. «Спасибо, мои маленькие друзья! - растроганно произнёс старичок. - Какой чудесный подарок! В последние годы мне никто ничего не дарил на Рождество!». Он обнял мышат, и в глазах его блеснули слёзы. Ангелина пожелала мистеру Беллу счастливого Рождества и пригласила его в школу на праздник. -Только непременно наденьте костюм Сайта-Клауса!» - попроси -ла она.
«Я обязательно приду!» - сказал бывший почтальон.Мистер Белл сдержал своё обещание: он пришёл на праздник в костюме Санта-Клауса.Почтенного джентльмена усадили в 1-й ряд, чтобы ему было хорошо видно рождественское представление. После выступления нее мышата окружили мистера Белла, который раздавал им игрушки, сладости и рассказывал удивительные истории. Больше всех радовался малыш Генри. Он так гордился, что этот замечательный Санта-Клаус - его лучший друг!
С тех пор мистер Белл никогда больше не встречал Рождество в одиночестве. Каждый год он играл роль доброго Санта-Клауса на радость всем мышатам.
https://skazki.rustih.ru/katerin....hdestvo
Ирина Рогалёва
"ПОДАРОК ДЛЯ БАБУШКИ"

Соседи по двору звали Леночку сиротой, но она себя сиротой не считала. Потому что жила с Аней.
Девочка бабушку очень любила, старалась ей во всем помогать и главное не огорчать. У бабушки Ани было больное сердце. Училась Леночка в гимназии, рядом с домом, на одни пятерки. Кто-то скажет – подумаешь, в 3-м классе учиться легко; но Леночке эти 5 с трудом давались. Она не очень способная была к учебе. Зато трудолюбивая и пол подметала, и пыль вытирала, и посуду мыла и мусор выносила. Жили старушка с внучкой в маленькой квартирке на 1-м этаже. Жили бедно, на бабушкину пенсию, зато в центре города. Все деньги тратили на еду, лекарства для сердца, и плату за квартиру; Одежду им знакомые отдавали, иногда совсем плохенькую; Но дареному коню в зубы не смотрят, - бабушка радовалась любой помощи. Бабушка Аня была верующая и часто ходила в церковь. Дома у нее были 3 старинных иконы - Спаситель, Богородица и св. Спиридон Тримифунтский, которому бабушка молилась о житейских нуждах, хотя и стеснялась тревожить великого святого своими просьбами. Как-то бабушка рассказала Леночке житие св. Спиридона. Особенно девочку поразила история, как св. Спиридон обратил змею в кучу золота.Леночка давно заметила – попросит бабушка Аня св. Спиридона помочь с теплой одеждой для внучки - на следующий день кто-нибудь принесет пуховичок Леночкиного размера. И так во всем.
Бабушка Аня всегда за все благодарила Бога, а вместе с ней и внучка. «Молитва – это разговор с Богом», - говорила бабушка. Леночка любила разговаривать с Богом. Рассказывала Ему горести и радости, как родному любимому Отцу. В этом году город начал готовиться к празднованию Нового года и Христова Рождества неожиданно рано. Уже в ноябре на улицах установили елки и развесили поздравительные гирлянды. Ярко украшенные витрины магазинов навязчиво зазывали горожанам за подарками. Идя из школы домой, Леночка в одной из витрин, заметила пуховый белый платок – именно о таком платке давно мечтала бабушка. Стоил он 150 руб. С одной стороны недорого, а с другой – у девочки и таких денег не было. Раз у меня появилась житейская нужда, значит, я могу попросить св. Спиридона помочь мне купить подарок для бабушки, решила девочка. Вечером, она встала на коленки и шепотом, что бы бабушка не услышала, рассказала святому о платке. У Леночки была игрушечная змейка, и девочка была уверена, что именно ее св. Спиридон превратит в деньги. Она спрятала игрушку под подушку, что бы бабушка не нашла деньги раньше; Но время шло, а змея так и оставалась змеею. «Наверное, св. Спиридон меня не услышал. Не смогу я порадовать бабушку платком», - расстроилась девочка, как вдруг услышала разговор одноклассниц: - Я сегодня шла мимо дворца, где люди женятся, и видела целую кучу монет, лежащих на асфальте, -сказала одна девочка.
- Да кому нужны эти монеты. Там одни копейки. Их только нищие собирают, - ответила другая.
«Мне! Мне нужны эти монеты!», - сердце Леночки от радости забилось сильнее. «И как я раньше не догадалась собирать там деньги?! Я же видела, как их бросают под ноги жениху и невесте!».
После школы Леночка помчалась собирать монетки. Их было множество, но в основном это была мелочь. За один раз девочка собрала несколько рублей. Каждый раз, нагибаясь, Леночка говорила про себя – «Спасибо, Господи». Она собирала деньги долго, но совсем не устала. За три дня до Христова Рождества Леночка собрала нужную сумму. Вечером, она ненадолго отпросилась у бабушки, и побежала к заветному магазину, крепко сжимая в руке тяжелый мешочек, набитый мелочью. Пуховый кружевной платок по-прежнему красовался в витрине, а рядом с ним появилась голубая вязаная шапочка с вышитыми серебряными снежинками. Леночке очень захотелось ее купить и тут же надеть. Стоила шапочка, как и платок 150 руб. На девочку вдруг накинулись мысли о том, что бабушке на платок можно насобирать монеток в другой раз, в конце-концов, жила же бабушка без платка и еще поживет, а шапочка так подойдет к Леночкиным голубым глазам. «Купи себе шапочку, купи», - вкрадчиво уговаривал девочку внутренний голос. «Господи, помоги мне. Что мне делать?!», -подумала Леночка, и голос тут же исчез вместе с мыслями о шапочке. Девочка уверенно зашла в магазин и весело сказала продавщице: - Я хочу купить белый пуховый платок с витрины!
- С тебя 1500 руб., - равнодушно сказала продавщица. Леночка не поверила своим ушам.
- Там же написано 150 руб. Вот. У меня ровно столько.
Она протянула продавщице свой мешочек.
- Учиться надо лучше, девочка. Ты что нули считать не умеешь? Да и как такой платок может стоить 150 руб.! Ты что с луны свалилась. Не знаешь сегодняшних цен? Или ты из деревни приехала?
Продавщица разошлась не на шутку, но Леночка ее не слышала. Сдерживая слезы, она вышла на улицу и горько разрыдалась. Прохожие не обращали внимания на плачущую, бедно одетую девочку. Неожиданно рядом с Леночкой появился старик в длинном парчовом платье. На голове у него переливалась драгоценными камнями необычная шапка. Люди, видевшие его не удивлялись – по улицам ходило много дедов Морозов в разных костюмах.
- Леночка, не плачь. Слезами горю не поможешь, - ласково сказал старик и погладил девочку по голове. От его ласки Леночкины слезы мгновенно высохли, а горе исчезло.
- Давай мне твой мешочек с поклончиками.
Леночка протянула старику мешочек. И он на глазах у девочки превратился в большой, расшитый звездами и крестами, бархатный мешок.
- Это тебе и бабушке.
Старик вручил его Леночке, благословил ее и исчез. Прижимая к груди подарок, девочка мчалась домой, пытаясь вспомнить, где она видела доброго старичка-волшебника. Бабушка Аня спала. Леночка достала из мешка белый пуховый платок и голубую шапочку с серебряными снежинками. «Слава Богу за все», - сказала она, как учила бабушка, и подошла к иконам. С одной из икон на девочку с улыбкой смотрел добрый старик-волшебник св. Спиридон Тримифунтский.
https://skazkibasni.com/podarok-dlya-babushki
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 17 Июн 2020, 16:34 | Сообщение # 36 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | ТРАМВАЙЧИК ИЗ ДЕТСТВА

Первое, что я помню… Память сохранила много ярких картинок из детства, только вот когда всё это было? Вспоминаю тёмный зимний вечер, я гуляю сам на улице, мне весело и совсем не страшно: ведь со мной моя верная подруга – рыжая дворовая собака Пальма. Мои родители спокойно отпускают меня вечерами гулять под её охраной, а я никогда не забываю вынести для неё что-нибудь вкусненькое: косточку, кусочек колбаски, а то и просто хлебушек. Пальма встречает меня во дворе, радостно виляя хвостом, я глажу её, даю угощение, и мы идем гулять. Она прекрасно знает свои обязанности: сопровождает меня повсюду, не отходя ни на шаг. Мы живём в старом 4-этажном доме, вся улица застроена такими домами, мы с Пальмой бродим по дворам, по заснеженной улице, и я до сих пор помню яркие фонари на улице, падающий в их свете снег, запорошенные этим снегом фигурки маленького мальчика и рыжей собаки. Тогда, в начале шестидесятых, 6-летнему мальчугану еще не опасно было бродить по вечерним улицам в сопровождении одной лишь дворняги…
А вот уже другая картинка: лето, радостное яркое утро, мы живем на даче. Я только проснулся, дверь во двор открыта, солнечные блики весело кувыркаются среди виноградных листьев, отражаясь на белом потолке, из их гущи разносится жизнерадостное воробьиное чириканье. Я тоже радуюсь новому дню, впереди столько чудесных дел: можно лазать на старый высоченный орех, у него очень удобные ветки в виде винтовой лестницы, с вершины которой видны все соседские дворы, можно собирать разноцветных божьих коровок в спичечный коробок, а затем выпускать их на волю - красных, оранжевых, жёлтых, пурпурных, кофейных. Вдруг вдали раздается звяканье колокольчика. Да это же самое радостное событие – керосин привезли! Мне дают небольшой бидон и деньги, и я важно выхожу за ворота к подъехавшей автоцистерне. Сзади у неё кран, а под ним большой железный резервуар. Керосинщик берёт у меня бидончик, вставляет в горловину воронку и наливает в неё керосин большой жестяной кружкой. Керосин течет из открытого крана, но керосинщик сначала зачерпывает кружкой из резервуара, затем подносит её под кран, наполняет и только потом выливает в воронку. Весёлый керосин в резервуаре играет всеми цветами радуги, от него исходит какой-то тёрпкий радостный запах; и на всю жизнь остается привычка: переливая воду, зачерпывать её сначала кружкой со дна ёмкости и только потом подносить к крану. Носейчас мне всё же около семи, а что же яркого было раньше?..
Вот, пожалуй, мне лет 5. Дело происходит в нашей городской коммунальной квартире. Я живу в ней со своей любимой бабушкой, родители работают далеко, приезжают редко. Бабуля на кухне сидит за чаем с соседкой, я в комнате один. Очевидно это январь, потому что в углу светится лампочками ёлка. Ах, эти чудные лампочки родом из ГДР, тогда передовой соцстраны! Их привезли в один из приездов родители. Лампочки на гирлянде сделаны в виде разных фигурок – домика, цветка, початка кукурузы, кота, щенка, уличного фонаря и так далее. Выполнены они и раскрашены очень добротно, качественно, с истинно немецкой обстоятельностью. Но самое интересное, то что эти стеклянные фигурки и есть оболочки лампочек! Конечно, стекло в них толстое, просто так не разобьёшь, но всё равно брать их в руки страшновато.
Итак, ёлка светится, вечер, все игры сыграны, становится скучно. И тут в голову пятилетнему экспериментатору приходит вопрос: вот если в розетку засунуть эту розовую вилку, загорится гирлянда на ёлке, а если ту черную, то загорится настольная лампа. А что загорится, если засунуть в розетку ножницы? И недрогнувшей рукой, ничтоже сумняшеся, я втыкаю в розетку старые портновские ножницы с тонкими лезвиями. Как я тогда остался жив, и даже не получил травму, знает один Господь. Конечно, сыграло свою роль то, что у нас был паркетный пол, он не дал разряду пройти сквозь крохотное тельце 5-летнего ребёнка. Но всё равно, страшно подумать, чем всё могло закончиться. Была вспышка, треск, запах палёного, в квартире погас свет, меня, заикающегося от страха, отшвырнуло в другой угол комнаты. Прибежала перепуганная бабушка с соседкой, а я несмотря на испуг твердил слегка заплетающимся языком, что ничего не знаю, играл себе тихо-мирно, оно само. Через несколько дней бабушка нашла те самые ножницы с оплавившимся на треть одним лезвием. Долго они с соседкой гадали, что же с ними приключилось. Я твердо стоял на своём – ничего не видел, никаких ножниц не брал. От меня быстро отстали – ну как 5-летний малец может такое сотворить с металлическими ножницами? Я хранил эту тайну очень долго и признался во всем только лет в 17…
А вот теперь пора уже вспомнить об одном из самых ярких воспоминаний детства. Был когда-то в Одессе единственный в стране маршрут детского трамвайчика. Всё там было самое-самое настоящее: недолгая узкоколейная линия, столбы с проводами, трамвайный вагончик давнего бельгийского производства с № 36 и маленькими, под детский рост, сиденьями. Раньше я думал, что было мне тогда не меньше 6 лет, но недавно откопал в Интернете сведения об этом трамвайчике и с удивлением узнал, что век его был недолог – с 1956 по 1960 г. То есть было мне тогда не больше 4-х. Вот это и есть моё самое раннее воспоминание, хотя память сохранила все подробности того дня. На улице поздняя весна или лето – я отлично помню яркое тёплое солнце, свежие зеленые листья деревьев. Мы с бабушкой идем в центральный парк им. Шевченко. Я знаю, что предстоит что-то очень важное и интересное! Вот мы поднимаемся по невысокой лесенке не возвышение типа вокзального перрона, и я вижу чудесный маленький вагончик, в который сейчас сяду. Нет, трамвай для меня не экзотика, Одесса – большой город, и в трамваях меня возили часто. Но в том то и дело, что возили! А это трамвай особый, в него разрешено садиться только детям! Нас рассаживают по маленьким сиденьям, все взрослые, в том числе и моя любимая бабуля, остаются снаружи. Немного страшновато, но плакать, как девчонка, сидящая рядом, нельзя – я ведь мужчина! Трамвайчик трогается в путь, и страх снимает как рукой – так интересно и завораживающе ехать одному, без взрослых! Мелькают за окном деревья, весело звенит звонок, я радостно смеюсь, и даже девчонка рядом не плачет, а смотрит в окно огромными удивленными глазами. Сделав круг, мы возвращаемся к перрону. Нас встречают родные, разбирают по рукам. Вокруг стоит радостный смех и гомон. Вот и бабушка, я бросаюсь к ней, меня обуревают смешанные чувства: тут и радость встречи, родной бабушкин запах, тут и гордость от первого путешествия, и непередаваемое чувство праздника, которое бывает только в детстве…
Давно уже нет на свете любимой моей бабушки, умерли и родители. Перестроен старый дачный дом, где так ликующе галдели воробьи в бликах летнего утреннего солнца. 10 лет назад рухнул от старости высоченный орех, на который очень удобно было взбираться в детстве. Исчезли божьи коровки разных цветов, остались только темно-красные, и никогда уже не побежать за ворота с бидончиком для исчезнувшего давно керосина. В аллеях престижного центрального парка с современными аттракционами, боулингом, картингом и пейнтболом можно еще найти остатки посадочной платформы весёлого трамвайчика, который так радовал детишек много лет тому назад. Но грусть светла. Это ушло, придёт новое, не менее радостное, праздничное в детстве и немного грустное в зрелости. Но придёт оно уже к нашим детям…
Александр Сороковик
http://parnasse.ru/prose/small/novel/tramvaichik-iz-detstva.html
БАБКА

Бабка была тучная, широкая, с мягким, певучим голосом. В старой вязаной кофте, с подоткнутой за пояс юбкой расхаживала она по комнатам, неожиданно появляясь перед глазами как большая тень.
- Всю квартиру собой заполонила!..- ворчал Борькин отец. А мать робко возражала ему:
- Старый человек... Куда же ей деться?
- Зажилась на свете... - вздыхал отец. - В инвалидном доме ей место - вот где!
Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабку как на совершенно лишнего человека. Бабка спала на сундуке. Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на бок, а утром вставала раньше всех и гремела в кухне посудой. Потом будила зятя и дочь:
- Самовар поспел. Вставайте! Попейте горяченького-то на дорожку...
Подходила к Борьке:
- Вставай, батюшка мой, в школу пора!
- Зачем? - сонным голосом спрашивал Борька . - В школу зачем?
Темный человек глух и нем - вот зачем! Борька прятал голову под одеяло:
- Иди ты, бабка...
- Я-то пойду, да мне не к спеху, а вот тебе к спеху.
- Мама! - кричал Борька. - Чего она тут гудит над ухом, как шмель?
- Боря, вставай! — стучал в стенку отец. - А вы, мать, отойдите от него, не надоедайте с утра.
Но бабка не уходила. Она натягивала на Борьку чулки, фуфайку. Грузным телом колыхалась перед его кроватью, мягко шлепала туфлями по комнатам, гремела тазом и все что-то приговаривала. В сенях отец шаркал веником.
- А куда вы, мать, галоши дели? Каждый раз во все углы тыкаешься из-за них!
Бабка торопилась к нему на помощь.
- Да вот они, Петруша, на самом виду. Вчерась уж очень грязны были, я их обмыла и поставила.
Отец хлопал дверью. За ним торопливо выбегал Борька. На лестнице бабка совала ему в сумку яблоко или конфету, а в карман чистый носовой платок.
- Да ну тебя! — отмахивался Борька. - Раньше не могла дать! Опоздаю вот...
Потом уходила на работу мать. Она оставляла бабке продукты и уговаривала ее не тратить лишнего:
- Поэкономней, мама. Петя и так сердится: у него ведь четыре рта на шее.
- Чей род - того и рот, - вздыхала бабка.
- Да я не о вас говорю! - смягчалась дочь. - Вообще расходы большие... Поаккуратнее, мама, с жирами. Боре пожирней, Пете пожирней...
Потом сыпались на бабку другие наставления. Бабка принимала их молча, без возражений. Когда дочь уходила, она начинала хозяйничать. Чистила, мыла, варила, потом вынимала из сундука спицы и вязала. Спицы двигались в бабкиных пальцах то быстро, то медленно - по ходу ее мыслей. Иногда совсем останавливались, падали на колени, и бабка качала головой:
- Так-то, голубчики мои... Не просто, не просто жить на свете!
Приходил из школы Борька, сбрасывал на руки бабке пальто и шапку, швырял на стул сумку с книгами и кричал:
- Бабка, поесть!
Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала на стол и, скрестив на животе руки, следила, как Борька ест. В эти часы как-то невольно Борька чувствовал бабку своим, близким человеком. Он охотно рассказывал ей об уроках, товарищах. Бабка слушала его любовно, с большим вниманием, приговаривая:
- Все хорошо, Борюшка: и плохое и хорошее хорошо. От плохого человек крепче делается, от хорошего душа у него зацветает.
Иногда Борька жаловался на родителей:
- Обещал отец портфель. Все пятиклассники с портфелями ходят!
Бабка обещала поговорить с матерью и выговаривала Борьке портфель. Наевшись, Борька отодвигал от себя тарелку:
- Вкусный кисель сегодня! Ты ела, бабка?
- Ела, ела, - кивала головой бабка. - Не заботься обо мне, Борюшка, я, спасибо, сыта и здрава.
Потом вдруг, глядя на Борьку выцветшими глазами, долго жевала она беззубым ртом какие-то слова. Щеки ее покрывались рябью, и голос понижался до шепота:
- Вырастешь, Борюшка, не бросай мать, заботься о матери. Старое что малое. В старину говаривали: трудней всего три вещи в жизни - богу молиться, долги платить да родителей кормить. Так-то, Борюшка, голубчик!
- Я мать не брошу. Это в старину, может, такие люди были, а я не такой!
- Вот и хорошо, Борюшка! Будешь поить-кормить да подавать с ласкою? А уж бабка твоя на это с того света радоваться будет.
- Ладно. Только мертвой не приходи, - говорил Борька.
После обеда, если Борька оставался дома, бабка подавала ему газету и, присаживаясь рядом, просила:
- Почитай что-нибудь из газеты, Борюшка: кто живет, а кто мается на белом свете.
- «Почитай»! - ворчал Борька. - Сама не маленькая!
- Да что ж, коли не умею я.
Борька засовывал руки в карманы и становился похожим на отца.
- Ленишься! Сколько я тебя учил? Давай тетрадку!
Бабка доставала из сундука тетрадку, карандаш, очки.
- Да зачем тебе очки? Все равно ты буквы не знаешь.
- Все как-то явственней в них, Борюшка.
Начинался урок. Бабка старательно выводила буквы: «ш» и «т» не давались ей никак.
- Опять лишнюю палку приставила! - сердился Борька.
- Ох! - пугалась бабка. - Не сосчитаю никак.
- Хорошо, ты при Советской власти живешь, а то в царское время знаешь как тебя драли бы за это? Мое почтение!
- Верно, верно, Борюшка. Бог - судья, солдат - свидетель. Жаловаться было некому.
Со двора доносился визг ребят.
- Давай пальто, бабка, скорей, некогда мне!
Бабка опять оставалась одна. Поправив на носу очки, она осторожно развертывала газету, подходила к окну и долго, мучительно вглядывалась в черные строки. Буквы, как жучки, то расползались перед глазами, то, натыкаясь друг на дружку, сбивались в кучу. Неожиданно выпрыгивала откуда-то знакомая трудная буква. Бабка поспешно зажимала ее толстым пальцем и торопилась к столу.
- Три палки... три палки... - радовалась она.
Досаждали бабке забавы внука. То летали по комнате белые, как голуби, вырезанные из бумаги самолеты. Описав под потолком круг, они застревали в масленке, падали на бабкину голову. То являлся Борька с новой игрой - в «чеканочку». Завязав в тряпочку пятак, он бешено прыгал по комнате, подбрасывая его ногой. При этом, охваченный азартом игры, он натыкался на все окружающие предметы. А бабка бегала за ним и растерянно повторяла:
- Батюшки, батюшки... Да что же это за игра такая? Да ведь ты все в доме переколотишь!
- Бабка, не мешай! - задыхался Борька.
- Да ногами-то зачем, голубчик? Руками-то безопасней ведь.
- Отстань, бабка! Что ты понимаешь? Ногами надо.
Пришел к Борьке товарищ. Товарищ сказал:
- Здравствуйте, бабушка!
Борька весело подтолкнул его локтем:
- Идем, идем! Можешь с ней не здороваться. Она у нас старая старушенция.
Бабка одернула кофту, поправила платок и тихо пошевелила губами:
- Обидеть - что ударить, приласкать - надо слова искать.
А в соседней комнате товарищ говорил Борьке:
- А с нашей бабушкой всегда здороваются. И свои, и чужие. Она у нас главная.
- Как это - главная? - заинтересовался Борька.
- Ну, старенькая... всех вырастила. Ее нельзя обижать. А что же ты со своей-то так? Смотри, отец взгреет за это.
- Не взгреет! - нахмурился Борька. - Он сам с ней не здоровается.
Товарищ покачал головой.
- Чудно! Теперь старых все уважают. Советская власть знаешь как за них заступается! Вот у одних в нашем дворе старичку плохо жилось, так ему теперь они платят. Суд постановил. А стыдно-то как перед всеми, жуть!
- Да мы свою бабку не обижаем, - покраснел Борька. - Она у нас... сыта и здрава.
Прощаясь с товарищем, Борька задержал его у дверей.
- Бабка, - нетерпеливо крикнул он, - иди сюда!
- Иду, иду! - заковыляла из кухни бабка.
- Вот, - сказал товарищу Борька, - попрощайся с моей бабушкой.
После этого разговора Борька часто ни с того ни с сего спрашивал бабку:
- Обижаем мы тебя?
А родителям говорил:
- Наша бабка лучше всех, а живет хуже всех - никто о ней не заботится.
Мать удивлялась, а отец сердился:
- Кто это тебя научил родителей осуждать? Смотри у меня - мал еще!
И, разволновавшись, набрасывался на бабку:
- Вы, что ли, мамаша, ребенка учите? Если недовольны нами, могли бы сами сказать.
Бабка, мягко улыбаясь, качала головой:
- Не я учу - жизнь учит. А вам бы, глупые, радоваться надо. Для вас сын растет! Я свое отжила на свете, а ваша старость впереди. Что убьете, то не вернете.
Перед праздником возилась бабка до полуночи в кухне. Гладила, чистила, пекла. Утром поздравляла домашних, подавала чистое глаженое белье, дарила носки, шарфы, платочки. Отец, примеряя носки, кряхтел от удовольствия:
- Угодили вы мне, мамаша! Очень хорошо, спасибо вам, мамаша!
Борька удивлялся:
- Когда это ты навязала, бабка? Ведь у тебя глаза старые - еще ослепнешь!
Бабка улыбалась морщинистым лицом. Около носа у нее была большая бородавка. Борьку эта бородавка забавляла.
- Какой петух тебя клюнул? - смеялся он.
- Да вот выросла, что поделаешь!
Борьку вообще интересовало бабкино лицо. Были на этом лице разные морщины: глубокие, мелкие, тонкие, как ниточки, и широкие, вырытые годами.
- Чего это ты такая разрисованная? Старая очень? - спрашивал он.
Бабка задумывалась.
- По морщинам, голубчик, жизнь человеческую, как по книге, можно читать.
- Как же это? Маршрут, что ли?
- Какой маршрут? Просто горе и нужда здесь расписались. Детей хоронила, плакала - ложились на лицо морщины. Нужду терпела, билась - опять морщины. Мужа на войне убили - много слез было, много и морщин осталось. Большой дождь и тот в земле ямки роет.
Слушал Борька и со страхом глядел в зеркало: мало ли он поревел в своей жизни - неужели все лицо такими нитками затянется?—- Иди ты, бабка! - ворчал он. - Наговоришь всегда глупостей...
Когда в доме бывали гости, наряжалась бабка в чистую ситцевую кофту, белую с красными полосками, и чинно сидела за столом. При этом следила она в оба глаза за Борькой, а тот, делая ей гримасы, таскал со стола конфеты. У бабки лицо покрывалось пятнами, но сказать при гостях она не могла. Подавали на стол дочь и зять и делали вид, что мамаша занимает в доме почетное место, чтобы люди плохого не сказали. Зато после ухода гостей бабке доставалось за все: и за почетное место, и за Борькины конфеты.
- Я вам, мамаша, не мальчик, чтобы за столом подавать, - сердился Борькин отец.
- И если уж сидите, мамаша, сложа руки, то хоть за мальчишкой приглядели бы: ведь все конфеты потаскал! - добавляла мать.
- Да что же я с ним сделаю-то, милые мои, когда он при гостях вольным делается? Что спил, что съел - царь коленом не выдавит, - плакалась бабка.
В Борьке шевелилось раздражение против родителей, и он думал про себя: «Вот будете старыми, я вам покажу тогда!»
Была у бабки заветная шкатулка с двумя замками; никто из домашних не интересовался этой шкатулкой. И дочь и зять хорошо знали, что денег у бабки нет. Прятала в ней бабка какие-то вещицы «на смерть». Борьку одолевало любопытство.
- Что у тебя там, бабка?
- Вот помру - все ваше будет! - сердилась она. - Оставь ты меня в покое, не лезу я к твоим-то вещам!
Раз Борька застал бабку спящей в кресле. Он открыл сундук, взял шкатулку и заперся в своей комнате. Бабка проснулась, увидала открытый сундук, охнула и припала к двери. Борька дразнился, гремя замками:
- Все равно открою!..
Бабка заплакала, отошла в свой угол, легла на сундук. Тогда Борька испугался, открыл дверь, бросил ей шкатулку и убежал.
- Все равно возьму у тебя, мне как раз такая нужна, - дразнился он потом.
За последнее время бабка вдруг сгорбилась, спина у нее стала круглая, ходила она тише и все присаживалась.
- В землю врастает, - шутил отец.
- Не смейся ты над старым человеком, - обижалась мать. А бабке в кухне говорила:
- Что это вы, мама, как черепаха, по комнате двигаетесь? Пошлешь вас за чем-нибудь и назад не дождешься.
Умерла бабка перед майским праздником. Умерла одна, сидя в кресле с вязаньем в руках: лежал на коленях недоконченный носок, на полу - клубок ниток. Ждала, видно, Борьку. Стоял на столе готовый прибор. Но обедать Борька не стал. Он долго глядел на мертвую бабку и вдруг опрометью бросился из комнаты. Бегал по улицам и боялся вернуться домой. А когда осторожно открыл дверь, отец и мать были уже дома.
Бабка, наряженная, как для гостей, - в белой кофте с красными полосками, лежала на столе. Мать плакала, а отец вполголоса утешал ее: - Что же делать? Пожила, и довольно. Мы ее не обижали, терпели и неудобства и расход.
В комнату набились соседи. Борька стоял у бабки в ногах и с любопытством рассматривал ее. Лицо у бабки было обыкновенное, только бородавка побелела, а морщин стало меньше. Ночью Борьке было страшно: он боялся, что бабка слезет со стола и подойдет к его постели. «Хоть бы унесли ее скорее!» - думал он. На другой день бабку схоронили. Когда шли на кладбище, Борька беспокоился, что уронят гроб, а когда заглянул в глубокую яму, то поспешно спрятался за спину отца. Домой шли медленно. Провожали соседи. Борька забежал вперед, открыл свою дверь и на цыпочках прошел мимо бабкиного кресла. Тяжелый сундук, обитый железом, выпирал на середину комнаты; теплое лоскутное одеяло и подушка были сложены в углу.Борька постоял у окна, поковырял пальцем прошлогоднюю замазку и открыл дверь в кухню. Под умывальником отец, засучив рукава, мыл галоши; вода затекала на подкладку, брызгала на стены. Мать гремела посудой. Борька вышел на лестницу, сел на перила и съехал вниз. Вернувшись со двора, он застал мать сидящей перед раскрытым сундуком. На полу была свалена всякая рухлядь. Пахло залежавшимися вещами. Мать вынула смятый рыжий башмачок и осторожно расправила его пальцами.
- Мой еще, - сказала она и низко наклонилась над сундуком. - Мой...
На самом дне загремела шкатулка. Борька присел на корточки. Отец потрепал его по плечу:
- Ну что же, наследник, разбогатеем сейчас!
Борька искоса взглянул на него.
- Без ключей не открыть, - сказал он и отвернулся. Ключей долго не могли найти: они были спрятаны в кармане бабкиной кофты. Когда отец встряхнул кофту и ключи со звоном упали на пол, у Борьки отчего-то сжалось сердце. Шкатулку открыли. Отец вынул тугой сверток: в нем были теплые варежки для Борьки, носки для зятя и безрукавка для дочери. За ними следовала вышитая рубашка из старинного выцветшего шелка - тоже для Борьки. В самом углу лежал пакетик с леденцами, перевязанный красной ленточкой. На пакетике что-то было написано большими печатными буквами. Отец повертел его в руках, прищурился и громко прочел:
- «Внуку моему Борюшке».
Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет и убежал на улицу. Там, присев у чужих ворот, долго вглядывался он в бабкины каракули: «Внуку моему Борюшке». В букве «ш» было четыре палочки.
«Не научилась!» - подумал Борька.
И вдруг, как живая, встала перед ним бабка - тихая, виноватая, не выучившая урока. Борька растерянно оглянулся на свой дом и, зажав в руке пакетик, побрел по улице вдоль чужого длинного забора.. .Домой он пришел поздно вечером; глаза у него распухли от слез, к коленкам пристала свежая глина. Бабкин пакетик он положил к себе под подушку и, закрывшись с головой одеялом, подумал: «Не придет утром бабка!»
Валентина Осеева
https://nukadeti.ru/rasskazy/babka
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 30 Июн 2020, 17:14 | Сообщение # 37 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 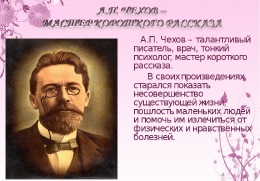
"О МАРТЕ. ОБ АПРЕЛЕ. О МАЕ. ОБ ИЮНЕ И ИЮЛЕ. ОБ АВГУСТЕ"
(Филологические заметки)
О МАРТЕ
Месяц март получил свое название от Марса, который, если верить учебнику Иловайского, был богом войны. Формулярный список этого душки-военного затерян, а посему о личности его почти ничего не известно. Судя по характеру его амурных предприятий и кредиту, которым пользовался он у Бахуса, следует думать, что он, занимая должность бога войны, был причислен к армейской пехоте и имел чин не ниже штабс-капитана. Визитная карточка его была, вероятно, такова: "Штабс-капитан Марс, бог войны". Стало быть, март есть месяц военных и всех тех, кои к военному ведомству прикосновенность имеют: интендантов, военных врачей, батальных художников, институток и проч. Числится в штате о рангах третьим месяцем в году и имеет с дозволения начальства 31 день. Римляне в этом месяце праздновали так называемые Гилярии - торжество в честь Никиты Гилярова-Платонова и богини Цибеллы. Цибеллой называлась богиня земли. Из ее метрической выписи явствует, что она была дочкой Солнца, женою Сатурна, матерью Юпитера, - одним словом, особой астрономической, имеющей право на казенную квартиру в Пулковской обсерватории. Изобрела тамбур, тромбон, свирель и ветеринарное искусство. Была, стало быть, и музыкантшей и коновалом - комбинация, современным музыкантшам неизвестная. В этом же месяце римляне праздновали и именины Венеры, богини любви, брака (законного и незаконного), красоты, турнюров и ртутных мазей. Родилась эта Венера из пены морской таким же образом, как наши барышни родятся из кисеи. Была женою хромого Вулкана, чеканившего для богов фальшивую монету и делавшего тонкие сети для ловли храбрых любовников. Состояла на содержании у всех богов и бескорыстно любила одного только Марса. Когда ей надоедали боги, она сходила на землю и заводила здесь интрижки с чиновниками гражданского ведомства: Энеем, Адонисом и др. Покровительствует дамским парикмахерам, учителям словесности и доктору Тарновскому. В мартовский праздник ей приносили в жертву котов и гимназистов, начинающих влюбляться обыкновенно с марта. У наших предков март назывался Березозолом. Карамзин думал, что наши предки жгли в марте березовый уголь, откуда, по его мнению, и произошло прозвище Березозол. Люди же, которых много секли, знают, что это слово происходит от слова "береза" и "зла", ибо никогда береза не работает так зло и энергично, как перед экзаменами. У нашего Нестора март был первым месяцем в году. У римлян тоже.
ОБ АПРЕЛЕ
Апрель получил свое название от латинского глагола 4-го спряжения aperire, что значит открывать, разверзать, ибо в этом месяце земля разверзается для того, чтобы выпустить из себя растения. Так у юноши разверзается подбородок, чтобы дать беспрепятственный пропуск желающей расти бороде. В царствование Нерона этот месяц был назван Neroneus за заслуги, оказанные Нероном отечеству, но потом, по недосмотру римской полиции и по охлаждении римского патриотизма, утерял это прозвище. Имеет 30 дней по числу иудиных сребреников. На памятниках древности этот месяц изображается брандахлыстом, пляшущим, подмигивающим левым глазом и с поднятыми фалдами. В руках его кастаньеты, у ног свирель, из кармана глядит полуштоф. Очевидно, был пьяницей, знал много скабрезных анекдотов и жил на неопределенные средства. Обыкновенно перед его изображением ставилась статуя Венеры. На подножии этой статуи юный читатель мог бы усмотреть немало геометрических фигур, относящихся к подобию треугольников и к учению о пределах. Как Апрель, так и Венера в геометрии ничего не смыслили, а посему здесь следует усматривать аллегорию: для наслаждений любви можно попрать ногами даже геометрию - смысл, если принять во внимание близость экзаменов, губительный! Предки наши именовали апрель кветенем, или цветенем, в честь цветов, которые цветут в этом месяце в цветочных горшках Петербургской стороны и на физиономиях юнкеров. Обычай надувать ближних в первый день апреля существует всюду, даже на берегу Маклая. О происхождении этого обычая толкуют различно. Одни говорят, что он получил свое начало в Ост-Индии, где индусы в этот день занимаются невинным надувательством: посылают друг друга в разные места под вымышленными предлогами и потом хохочут над обманутыми. Другие же ставят этот обычай в связь с отчетами, которые в древности изготовляли чиновники консисторий к первому апреля. Ввиду того, что взаимное надувательство стало в наше время явлением обыденным, обычай этот утерял свою соль и стал постепенно стушевываться; в старину же, когда меньше врали, он был в большой моде. Рассказывают, что в один из первых апрелей труппа немецких актеров, дававших представления в Петербурге во времена Петра, пообещала "блистательное представление" и, когда в театр припожаловала публика, вывесила на занавесе транспарант с надписью "Первое апреля". Спектакля не было. Петр не рассердился на эту шутку и только, выходя из театра, проговорил: "Вольность комедьянтов!" Если эта труппа не забыла собрать перед спектаклем с публики деньги, то нужно пожалеть, что не все наши актеры-современники знакомы с этим историческим анекдотом.
О МАЕ
Месяц любви, сирени и белых ночей. Месяц, когда поэты обвиняют соловьев в незаконном сожительстве с розами и когда даже отставные, заржавленные фельдфебеля поддаются нежной страсти. Получил он свое название по приказанию Ромула от majores - старшин, или сенаторов, которые за старостью лет заседали в римском сенате и посыпали песком деловые бумаги. Другие же говорят, что он назван в честь плеяды Майи, родившейся от Атланта. Маленький, но щекотливый вопрос: как мог Атлант стать отцом, если он должен был день и ночь, не отдыхая ни секунды, держать на плечах своды небесные? Оставляю этот вопрос открытым... Сама Майя родила биржевого зайца и гешефтмахера Меркурия. У древних май был посвящен старости, и в этом месяце строжайше запрещалось вступать в брак. Всякого, женившегося в этом месяце, называли азинусом, стультусом и тряпкой. "Май - месяц любви, но не брака, - пишет Корнелий Непот. - Не раскисайте же, граждане, и не попадайте на удочку! Знайте, что майская любовь кончается в начале июня и то, что в мае казалось вашей разгоряченной фантазии эфиром, в июне будет казаться бревном" (XXVI, 7). По мнению россиян, кто женится в мае, тот будет весь век маяться - и это справедливо. У астрономов май занимает в эклиптике третье место и солнце вступает в знак близнецов, у дачниц же он занимает первое место, так как военные выступают в лагери. Если лагери находятся близко к дачам, то знак близнецов может служить предостережением: не увлекайтесь в мае, чтобы зимою не иметь дела с двойнями! В мае родятся майские жуки, майоры и поэты а la Майков.
ОБ ИЮНЕ И ИЮЛЕ
В мае и в августе русские люди ходят в шубах и щелкают зубами; следовательно, русское лето состоит только из июня и июля. Среди дачных бурь и штилей, в вихре Цукк и Монбазонш, эти два месяца проходят так быстро, что пора уже считать их за один месяц, тем более, что оба они начинаются с ию, стоят в календаре рядышком и оба потогонны... Соединение двух месяцев в один повело бы за собой уменьшение расходов: 20-е число случилось бы однажды, а не дважды. Июнь получил свое название от слова junior, что значит юноша, гимназист, ибо в этом месяце гимназисты созревают и хотя, созревши, плода не дают, но тем не менее получают аттестаты зрелости. У римлян июнь был посвящен Меркурию, богу второй гильдии, занимавшемуся коммерцией. Сей Меркурий считается покровителем содержателей ссудных касс, шулеров и купеческих саврасов. Давал богам деньги под проценты, плясал в салонах "кадрель" и пил по девяти самоваров в день; имел медаль за службу в благотворительных учреждениях, куда поставлял бесплатно дрова, наживая при этом "рупь на рупь"; любил Москву, где держал кабак, ел в балаганах голубей и издавал благонамеренно-ерническую газету. В июне произошли следующие события: издан указ, воспрещавший продавать на базарах живых людей, и основано училище правоведения для разведения на Руси товарищей прокурора... В этом же месяце, по свидетельству Иловайского, в Париже происходили кровавые события (вероятно, дизентерия). Июль же, по протекции Марка Антония, получил свое название от Юлия Цезаря, милого малого, перешедшего Рубикон и написавшего "De bello galliсо" - произведение, по мнению учителей латинского языка, достойное 12 уроков в неделю. Был посвящен его превосходительству г. директору небесной канцелярии, действительному статскому советнику и кавалеру Юпитеру. Будучи происхождения божеского, г. Юпитер, тем не менее, занимался одними только человеческими делами: играл в винт, пил горькую и прохаживался по части клубнички. Юным классикам не безызвестны его ухаживания за коровой Ио. Солнце в июле вступает в знак Льва, чего ради все кавалеры "Льва и Солнца" в июле именинники. Для писателей июль несчастный месяц. Смерть своим неумолимым красным карандашом зачеркнула в июле шестерых русских поэтов и одного Памву Берынду. У нас в России вследствие сильных июльских жаров князь Мещерский пишет записки, читаемые на провинциальных сценах Андреевым-Бурлаком. За июлем следует осень.
ОБ АВГУСТЕ
Месяц всякого рода плодов. Поселянин собирает в житницы плоды своего годового труда и кладет зубы на полку. Кабатчики получают долги, кулаки почивают от дел. Изобилие плодов земных поражает иностранца в такой степени, что у него делаются схватки: среднее яблоко стоит 50 коп., груша - рубль, а покупка арбуза влечет за собою карманную чахотку. Барыни едут ради виноградного лечения в Ялту, где виноград только вдвое дороже, чем в Гельсингфорсе. Август плодовит во всех отношениях. Тот ненастный вечер, в который дева шла в пустынных местах и держала в трепетных руках плод, был именно в августе. Плоды же злонравия поспевают у нас ежемесячно. У римлян август был 6- в году и назывался sextilis'ом, y нас же он 8-й и называется августом в честь римского императора Августа, основавшего, как известно, августинский орден и сочинившего романс "Ах, мейн либер Августин". В этом месяце солнце вступает в знак Девы, отчего природа приобретает вид томный, кислый, меланхолический. Все, что веселило взор летом, в августе наводит уныние. Листья желтеют, трава ржавеет, дачники чумеют и бегут с дач в города, где поедаются живьем домовладельцами. Дни становятся короче, точно дневной свет поступает в ведение интендантского ведомства, печенки, ревматизмы и злые жены разыгрываются, как неподмазанные двери во время сквозного ветра. Светлые брюки, соломенные шляпы, пикейные жилетки, кители, крылатки - все это посыпается от моли вонючим нафталином и прячется на чертовски долгое время в мамашины или бабушкины сундуки. Одетые в чиновничьи капюшоны на вате, идут театральный, учебный и свадебный сезоны. Кто летом ленился, шалил и родителей не слушался, тот в августе учись или женись... Умнее всех оказываются в августе птицы и медведи. Первые собираются толпами и стараются улететь как можно подальше от зимы с ее увеселениями, рецензиями, единицами, сугробами, вторые же берут лапы в зубы, безмятежно засыпают и будут спать, несмотря ни на что; даже если Цукки согласится остаться на всю зиму в России, и тогда они не проснутся. В августе начинается так называемое "бабье лето", когда природа - совершенная баба: то улыбается, то куксит. У наших предков август назывался серпенем. "В первых числах сего серпения, - писали предки, - секретарь
http://chehov-lit.ru/chehov/text/o-marte-avguste.htm

Рассказ охотника никогда не попадающего в цель
Было четыре часа утра. Степь обливалась золотом первых солнечных лучей и, покрытая росой, сверкала, точно усыпанная бриллиантовою пылью. Туман прогнало утренним ветром, и он остановился за рекой свинцовой стеной. Ржаные колосья, головки репейника и шиповника стояли тихо, смирно, только изредка покланиваясь друг другу и пошептывая. Над травой и над нашими головами, плавно помахивая крыльями, носились коршуны, кобчики и совы. Они охотились. Аким Петрович Отлетаев, мировой судья, земский врач, я, зять Отлетаева Предположенский и волостной старшина Козоедов ехали все шестеро на отлетаевской коляске-розвальне на охоту. За коляской, вывалив языки, бежали четыре пса. Я и земский врач народ худенький, остальные же толсты, как стоведерные бочки, а потому, несмотря на то, что дедовская коляска была и широка и глубока, нам было до чёртиков тесно. Я то и дело толкал локтем и ружейным прикладом в живот Козоедова. Все мы толкались, пыхтели, морщились, всей душой ненавидели друг друга и с нетерпением ждали того времени, когда нам можно будет вылезть из коляски. Ехали мы подальше в степь пострелять куропаток, стрепетов, перепелов, болотной дичи и, если фортуна оглянется на нас, дрохв. Предводительствовал нами хозяин коляски и коней Отлетаев, по милости которого мы и ехали на охоту. Тела наши были сдавлены, но зато души были преисполнены радостями самого высшего качества! Кто никогда не ездил и не шлялся на охоту, тому не понять этих радостей. Мы держали наши ружья и глядели на них так любовно, как маменьки глядят на своих сыночков, подающих большие надежды.
- А каков наш будет маршрут? - спросил я, когда мы отъехали от Отлетаевки верст на десять.
- Сейчас едем на Еланчик, - отвечал Отлетаев, - бекасов стрелять... Отсюда это верст 8 будет. Там же и перепелов на просе постреляем. Пострелявши перепелов, ночевать станем, а уж завтра чуть свет у нас самая-то настоящая стрельба начнется..
.- А что, господа, как думаете, - спросил я, показывая пальцем на коршуна, который купался далеко в небесной синеве, - можно ли попасть отсюда? Попадете?
- Не попадешь! Далеко очень! Впрочем, из моего ружья попадешь... - сказал Отлетаев.
- И из вашего ружья не попадешь, - заметил Предположенский. - Попадешь. Дробью не попадешь, не достанет, а пулей наверно...
- И пулей не попадешь.
- Уж это позвольте мне знать, попаду я или не попаду! Вы ружья моего не знаете, а я знаю. Вы отродясь не видали хороших ружей, а потому это вам и кажется таким странным. Я и дальше попадал...
Предположенский откинул назад голову и засмеялся...
- Чего же смеешься? - продолжал Отлетаев. - Не веришь, небось?
- Разумеется, не верю.
- Гм... Ружья моего, значит, не знаешь... Ружье замечательное! Недаром шестьсот целковых стоит...
- Сколь...ко?? - спросил Предположенский и вытянул шею... - Сколько? Повторите, папаша!
- Шестьсот рублей... Чего же ты смеешься? Ты погляди на ружье, да потом и скаль зубы!
- Я вижу... Чьей фабрики?
- Марсельское... Фабрики Лепелье...
- Лепелье? Не слыхал что-то такой фабрики. Ружье, как ружье... Рублей сто стоит... Не люблю, тесть, когда вы врете! Зачем врать? Я не понимаю, зачем врать?
- Ружье хорошее, - заметил мировой, - но шестисот не стоит. Вы переплатили, Аким Петрович!
- Он вовсе не переплачивал! - горячился Предположенский, - он врет! Врет, как школяр!
Отлетаев завертелся и покраснел.
- Не таковский, чтоб врать, - сказал он. - Так-то-с! Ты вот... ты вот так врешь! Ну да! Ты вот так и норовишь уколоть! С тобой ездить не следует. Я не знаю, зачем я с тобой поехал!..
- И не ездил бы. Зачем врать, не понимаю! Врет, как свинья!
- Сам свинья! Свинья и дурак вместе с тем...
Мы начали усовещевать Предположенского.
- Пусть он не врет! - оправдывался непокорный зять. - Моя душа возмущается, ежели кто врет. И свиньей пусть не бранится. Сам он свинья, вот что! А если ему неприятно, что я еду, так... шут с ним! Я могу и не ехать!
- Ну, полноте! Аким Петрович и не думал вас оскорблять! Стоит ли поднимать бурю из-за пустяков?
Предположенский надулся, как объевшийся индюк, и умолк.
- Нельзя-с! - обратился, немного погодя, к Предположенскому Козоедов. - Нельзя-с! Он вам теперь, можно сказать, заместо родителев, тесть он вам, а вы грубости наносите... А грешно!
Зять взглянул презрительно на старшину и сардонически усмехнулся...
- Тебя спрашивают нешто? - спросил он.
- Спрашивают? Молчи, коли... Сиди, ежели сидишь!.. Заместо родителев... Говорить еще не умеешь, а тоже лезешь. Гм... Суконное ры... Мужлан!
- Вот видите-с, какие вы! Не любите, коли люди покойно сидят. Я хотя и из простого звания произошел, хотя, могу сказать, и никакого образования не проходил, но могу сказать, что имею в груди, и в сердце, и в душе всякие чувства, а вы вот так нет, хоть вы и науки проходили по всем степеням... Так-то-с!
- Перестаньте, господа! - вмешался я. - Полно вам друг другу мораль читать! Давайте молчать...
Отлетаев с сопеньем вытащил из бокового кармана объемистый, сильно потертый портсигар и запустил в него свои толстые пальцы. Доктор и мировой протянули руки к его портсигару.
- Нет-с, извините-с! - сказал внушительно Отлетаев. - Дружба дружбой, а табачок врозь. Мне самому не хватит... Дорога велика, а у меня папирос-то с собой только четыре десятка.
Доктор и мировой сильно сконфузились и, чтобы скрыть подальше от света белого свой конфуз, засвистали из «Мадам Анго» Отлетаев был глуп, как сорок тысяч братьев, и невежа страшная. Мы его терпеть не могли. Сконфуженный доктор закурил собственную папироску и начал рассказывать анекдоты. Рассказал он их штук двадцать; из них только один не был сальным, остальные же так и таяли в наших ушах.
- А вы, батенька, мастер! - похвалил я доктора. - Не знал я, что вы такой юморист!
- Да-с... Кое-что знаем, - сказал доктор. - Ежели б я захотел в журналах сотрудничать, то миллионы бы имел. Больше вашего зарабатывал бы.
- Не сомневаюсь... Чего же не сотрудничаете?
- Не хочу!
- Почему же?
- Не хочу, вот и всё! Совесть есть! Нешто человек с совестью может в ваших журналах писать? Никогда! Я даже не читаю никогда газет! Считаю болванами тех, кто выписывает их, тратит деньги...
- А я наоборот, - заметил мировой, - считаю тех болванами, кто не тратит деньги на газеты...
- Доктор не в духе сегодня, - сказал я. - Не будем его трогать...
- Кто вам сказал, что я не в духе? Я в духе... Вы потому так заступаетесь за газеты, что в них пишете, а по-моему, они... тьфу! Яйца выеденного не стоят. Врут, врут и врут. Первые вруны и сплетники! Газетчики - те же адвокаты... Врут и не имеют совести!
- Я был адвокатом, - сказал мировой, - а совесть имел.
Предположенский и Козоедов переглянулись и ехидно улыбнулись.
- Я не про вас говорю, я вообще. Вообще все мошенники. И газетчики, и адвокаты, и все.
Я, вместо того чтобы молчать, продолжал заступаться за газетчиков. Мировой продолжал заступаться за адвокатов. В коляске поднялся спор.
- А медицина-то ваша? - ухватился я.
- Медицина? Что она стоит? Небось не врете? Только денежки берете! Что такое доктор? Доктор есть предисловие гробокопателя, вот что-с! Впрочем, я не знаю, для чего я с вами спорю? Разве у вас есть логика? Вы кончили университет, но рассуждаете, как банщик...
- Говорите хладнокровно! Можно, полагаю, и без оскорблений!
- Газетчиков и адвокатов ругаем, - забасил Предположенский, - а самой настоящей-то врали и не видим. Потолкуйте-ка с тестюшкой, он любого адвоката по брехательной части за пояс заткнет...
И так далее... Слово за слово, гримаса за гримасой, сплетня за сплетней, и дело зашло чёрт знает куда. Мы начали рассказывать всё, что за зиму накопилось в наших душах друг против друга. Мы перещеголяли старых девок. Между тем пока мы, не выспавшиеся, полупьяные, каверзили друг против друга, солнце поднималось всё выше и выше. Туман исчез окончательно, и начался летний день. Было кругом тихо, славно...Только мы одни нарушали тишину. Подъехав к первому попавшемуся болотцу, мы вылезли из коляски и, сердитые, надутые, побрели в разные стороны. Водворять среди нас согласие взялся Козоедов. Он подбросил высоко вверх трехкопеечную монету, выстрелил в нее и попал. Мы все вместе подняли монету, сосчитали на ней число следов от дроби и кое-как разговорились. Предположенский согнал коростеля и убил. Мы его поздравили и крикнули «ура». Согласие было бы окончательно водворено, если бы не доктор. Доктор, пока мы поздравляли Предположенского с первым успехом, подошел к коляске, развязал кулек и принялся ублажать себя водочкой и закуской.
- Доктор! Что это вы там делаете? - крикнул Отлетаев.
- Ем и пью.
- Какое же вы имеете право распоряжаться?
- А что?
- Это для вас положено? Не понимаю этого, извините, свинства! Не мог подождать! Что это вы раскупорили? Батюшки! Это моя настойка! Какое вы имеете право, милостивый государь?
- Не кричите, пожалуйста! Потише!
- Ведь эту настойку я для себя взял! Слаб здоровьем, взял настойки, и... на поди! Раскупорили! Просили его! Заверните балык!
- Не заверну! Вам, неприличный и неделикатный человек, должно быть известно, что на охоте всё общее. Какой вы, извините, невежа!
Доктор выпил рюмку настойки и назло Отлетаеву отрезал себе огромнейший кусок балыка. Предположенский подскочил к коляске и, чтобы насолить тестю, выпил из горлышка половину настойки. У Отлетаева навернулись слезы.
- Это вы назло? - зашептал он, - хорошо же! Хорошо! Вот вы как... Мерси боку...
Мировой, не знавший, в чем дело, подошел к коляске.
- А-а-а?.. Закусываете? - спросил он. - А не рано ли? Впрочем, одну пропустить не мешает... За ваше здоровье!
Мировой налил себе рюмку настойки и выпил.
- Очень хорошо-с! Прекрасно-с! - крикнул уже Отлетаев.
- Что прекрасно? - спросил мировой.
- Ничего..
.Отлетаев сел в коляску, бросил на траву кулек, иронически нам поклонился и ударил кучера Петра по спине.
- Поезжай! - крикнул он.
- Куда это вы? - удивились мы...
- Ежели я вам противен, необразован... Козоедов! Иди садись, голубчик! Где нам, мужикам, с господами учеными охотиться? Освободим их от своего присутствия! Иди, милый!
- Куда же вы? Что вы дурака корчите?
- Ежели я дурак, то зачем вам беспокоиться? Пущай! Я и есть дурак. Прощайте-с... я домой...
- А мы же на чем поедем?
- На чем знаете... Коляска моя.
- Да ты, тестюшка, белены, что ли, объелся? - крикнул Предположенский.
Козоедов сел рядом с Отлетаевым и смиренно снял шляпу.
- Ты с ума сошел? - продолжал Предположенский. - Вылезай из коляски!
- Не вылезу. Прощай, зять! Ты человек образованный, гуманный, цивилизованный, а я... Что я?
- А ты - дурак! Господа, что же это такое? Кто его раздразнил? Вы, доктор? Вы, чёрт вас возьми, вечно лезете со своим ученым носом не в свое дело!
- Я для вас не тесть. Прошу не орать, - обиделся доктор. - Коли будете орать, так и я уеду...
- И уезжайте! Велика потеря! Скажите пожалуйста!
Доктор пожал плечами, вздохнул и полез в коляску. Мировой махнул рукой и тоже полез в коляску.
- Мы вечно так, - вздохнул он. - Никогда у нас ничего не выходит...
- Погоняй! - крикнул Отлетаев.
Петр чмокнул губами, дернул вожжи, и коляска тронулась с места. Я и Предположенский переглянулись.
- Стой! - крикнул я и побежал за коляской.
- Стой! - заорал Предположенский. - Стой, скоты!
Коляска остановилась, и мы уселись.
- Я тебе всё это припомню! - сказал, сверкая глазами, Предположенский и погрозил тестю кулаком. - Всё! До смерти будешь помнить этот день!
До самого дома мы ехали молча. В душах наших радости высшего качества сменились самыми скверными чувствами. Мы готовы были слопать друг друга и не слопали только потому, что не знали, с какого конца начать лопать. Когда мы подъехали к отлетаевскому дому, на террасе сидела мадам Отлетаева и пила кофе...
- Вы приехали? - удивилась она. - Что так рано?
Мы вылезли из коляски и молча направились к воротам.
- Куда же вы, господа? - закричала мадам Отлетаева. - А кофе пить? А обедать? Куда вы?
Мы повернулись к крыльцу и молча, внушительно погрозили нашими огромными кулаками. Предположенский плюнул по направлению к крыльцу, выругался и отправился спать в конюшню.
Дня через два Отлетаев, Предположенский, Козоедов, мировой, земский врач и я сидели в доме Отлетаева и играли в стуколку. Мы играли в стуколку и по обыкновению грызли друг друга. Дня через три мы поругались насмерть, а через пять пускали вместе фейерверк.[ Мы ссоримся, сплетничаем, ненавидим, презираем друг друга, но разойтись мы не можем. Не удивляйтесь и не смейтесь, читатель! Поезжайте в Отлетаевку, поживите в ней зиму и лето, и вы узнаете, в чем дело. Глушь - не столица. В Отлетаевке рак - рыба, Фома - человек и ссора - живое слово...
http://chehov-lit.ru/chehov/text/dvadcat-devyatoe-iyunya.htm
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 19 Авг 2020, 22:59 | Сообщение # 38 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Анна Иванова
ЦВЕТЫ ДУШИ
Мне кажется, что чувства расцветают в душе словно розы, превращаясь медленно из бутонов в пышное цветение, медленно распускаясь, становясь день ото дня все ярче и красивее, что чувства живут в душе своей жизнью, возникая непостижимым уму образом, и так же живут, независимо от нашего желания или доводов разума или даже вопреки всем рассуждениям и логике, по своим законам. Раз возникнув, они расцветают как цветы, как живые существа со своими прихотями и странностями. В зависимости от человека, в зависимости от души, и чувства могут быть разными цветами - у одной души - это роскошные розы, у другой - изысканные гиацинты, у третьей - нежные незабудки, или артистичная сирень. А может и в одной и той же душе в зависимости от чувства, которые в ней рождаются, они могут принимать форму разных цветов - или строгих нарциссов, или нежных крокусов, или величественных гладиолусов, или хрупких тюльпанов.
Чувства - как цветы, мне видится, как эти цветы возникают, каждый раз они новые и прекраснее один другого. Мне видится, как они раскрывают лепестки доверия, как поворачиваются и улыбаются лучам из нежных слов, распускаются от теплоты внимания. Я знаю, что многие забыли об этом, и в их душах уже давно ничего не цветет, там пустыня безверия, и лишь ветер разносит песок сомнений. Души других окаменели, как скалы, и в них застыли холодные ледяные осколки. Я знаю также, как эти ледяные сокровища ждут и мечтают растаять от жаркого солнца весенних чувств. В редких душах все время живет весна и льется свет ожидания чуда. А в таинственном свете бледной луны вдруг могут загореться синие звезды, и засверкать хрустальным блеском необычного прекрасного и хрупкого чувства.
В моей душе хрупкие нежные розовые тюльпаны первого чувства были вытеснены желтыми ароматными розами на многие счастливые годы. А затем долго -долго в ней жила печальная сирень, удивляющая всех оригинальностью сочетания оттенков цвета. Ее сместили, совершенно неожиданно, изысканные южные олеандры, такие же прекрасные, как и недолговечные, оставив лишь брызги воспоминаний из пены морского прибоя. Потом цветы в душе моей стали лишь мечтой и ожиданием, или сиреневой надеждой в бледном тумане судьбы, в котором терялась из глаз и таяла дорога судьбы моей и нить, ведущая меня. Теперь в ней ожили звезды, падающие с небес, и луна освещает мне путь. Розы спят пока и ждут весеннего солнечного внимания, но уже нет места для печальной сирени, поселившейся в сердце на долгие годы. Долго-долго я бежала сквозь белый туман, а мечта уплывала в даль морской страны. Какими будут новые цветы души моей, останутся ли только мечтой? Как знать... Мне хотелось бы, чтобы дольше сияли эти звезды нежности и доверия, признательности и доброты, спасибо, что ты их зажег. Мне бы хотелось, чтобы они горели как можно дольше и не только освещали мой путь, но и сумели дарить тебе свет и тепло, мне бы хотелось, чтобы они превратились в цветы. Какими они будут, смогут ли расцвести, достанет ли солнечного света и тепла? Цветы души - я бы подарила их все любви моей...
21.03. 2004
http://world.lib.ru/i/iwanowa_a/fiori.shtml
РАЗДУМЬЯ О ЛЮБВИ И ТВОРЧЕСТВЕ
Я начала писать в Москве. Видимо, надо было вернуться на Родину, разыскать давно потерянные связи, почувствовать себя, наконец, своей, в любимом с детства городе. Я так рада этому новому периоду в моей жизни. Здесь изменения происходят стремительно, недели и месяцы пролетают мгновенно, и всегда, каждый день есть место для открытий. Это не только театры и концерты, музеи и выставки. Это открытие, узнавание самого города, где воспоминания и мечты переплетаются с реальностью, где жизнь летит в потоке информации, где, несмотря на скорость и ритм, всегда оказывается время для раздумий. Пожалуй, я поняла, что больше всего меня радует в Москве - благодаря этому стремительному течению жизни, здесь нет места для тоски и уныния, которые так часто сопровождают размеренную жизнь спокойных городов. Как у каждой положительной черты есть свои отрицательные стороны, то и в данном случае тишина и спокойствие, размеренность приятны для отдыха, но для работы и творчества нужен ритм, череда впечатлений, поток информации. И, конечно, любовь. Что еще правит жизнью, владеет нами? Чувства - что еще нужно для творчества.
Удивительно случается в жизни. Кто-то призывает любовь, ждет, надеется встретить, кто-то мечтает о ней, вздыхая, кто-то почти требует, настаивает - и в ответ в лучшем случае находит отражение своих ожиданий, такое же разочарование или такие же иллюзии. А можно просто жить полной жизнью, стараясь так наполнить каждый свой день, как будто он последний в твоей жизни. Тогда невольно тебе захочется дарить добро и наполнить каждый твой день значимостью, что-то новое узнать или кому-то подарить улыбку. И тогда, когда ты понимаешь или скорее ощущаешь, что твоя душа наполняется радостным восприятием себя в гармонии с миром, когда к тебе приходит осознание того, как он прекрасен, и сердце наполняется любовью ко всему миру, ты начинаешь излучать свет радости вокруг себя только потому, что счастлив жить. Тот, кто видел пропасть близко, заглянул в ее пустые глаза, сможет понять меня. И вот тогда, совершенно нежданно, судьба может подарить тебе удивительные встречи.
Как рождается чувство? Это загадка. К его приходу нельзя быть готовым, оно всегда застает врасплох. Ты говоришь с человеком и вдруг, кончиками пальцев начинаешь отчетливо ощущать, как что-то неведомое в воздухе незримо стоит между вами. Мне трудно описать словами, да и чувство это редкое, но когда оно есть, его незримое присутствие чувствуешь сразу, эту связь, которая мгновенно устанавливается между двумя. Любовь вне нас, она выходит за пределы души. Если вы чувствуете ее только в себе, значит это просто любовь к самому себе, желание, чтобы кто-то вас любил, оценил, заметил. Если же это, действительно, чувство, о котором мечтают, то оно гораздо больше нас. Это радуга, соединяющая двоих, поток света, сверкающий и одновременно теплый, в который ты внезапно попадаешь, и который окутывает тебя. Из него очень трудно выйти, слишком сильно очарование, притягательная сила доброты, нежности и трепетности. Раз испытав это чувство, его не забудешь никогда. И даже если судьба разводит вас идти каждого своим путем, это свет не гаснет, образ остается жить в душе. Его присутствие, желание воскресить изумительное чувство, оживить хоть на мгновение дорогой образ и рождают поэзию и музыку. А разлука не превращается в мучительное испытание и не опускается до приветливого безразличия. Когда есть эта радуга, она соединяет вас повсюду. Почувствовать все это однажды, прикоснуться к чувству, шепнуть о любви, услышать только вашу уникальную мелодию, на миг почувствовать, как душа взрывается фейерверком в ночном небе, ...и вдруг понять, что это чудо. И даже одно воспоминание о чуде устраняет тревогу о будущем. У чуда нет ни прошлого, ни будущего, оно вне времени, оно всеобъемлюще. Ты просто бесконечно благодарен судьбе за то, что тебе было подарено к нему прикоснуться. И вдруг осознать, что это и есть счастье.
09.04. 2004
http://world.lib.ru/i/iwanowa_a/pensieri.shtml
К ВОПРОСУ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Философы начала прошлого века Бердяев и некоторые другие говорили о том, чтов каждом родившемся человеке заложена своя ИДЕЯ, и каждый на своём жизненном пути развивает или воплощает её.
Мне, как думаю и многим, близка мысль о том, что в каждом из нас заложена Идея.Я бы пошла дальше, взявшись утверждать, что каждый - проводник этой Идеи, призванной воплощать ее в течении своей жизни. Подчеркну - всей своей жизнью. Если думать так, то все сходится, как в математической головоломке. Все становится на свои места и вопрос о смысле жизни решается изумительно просто и автоматически.
Человек призван воплотить эту идею, которая и я является его предназначением, развить ее, продолжить, приложив всю присущую ему творческую силу и - тем самым он решает вопрос о смысле своей жизни! У каждого своя идея или другими словами - свое предназначение. Насколько каждому удается ее осуществлять в своей жизни, насколько полно он осуществляет свое предназначение - настолько он и решает вопрос о смысле его жизни. Ларчик просто открывается!Отсюда сразу два вывода:
1) У каждого свой смысл жизни, поскольку у каждого своя ведущая идея,именно поэтому и решается вопрос о смысле жизни веками, бесконечно и каждый раз по-новому, поскольку каждый все равно решает его для себя самого. Даже начитавшись домыслов всех философов мира, все равно человек поставит вопрос для себя самого - а моя жизнь, в чем ее смысл и в чем ее идея?
2) Идея эта заложена изначально и каждому из нас.Это так изумительно ясно в детстве. А потом мы многие ее забываем, кажется - вот-вот схватим, поймем, но,увлекаясь красотами и интересами открывающегося мира, мы ее иногда теряем, и тогда мучительно пытаемся вспомнить, понять, решая все тот же вопрос о смысле жизни. А ведь в детстве у каждого, я уверена - у каждого, была своя мечта. Глубинная, потаенная, откуда-то уже пришедшая в душу, правда? Кем стать, что делать в жизни, к чему стремиться, какие идеи воплощать. Некоторые так богаты духовно - что у них несколько таких идей-предназначений. Им бы успеть воплотить все задуманное! А другие, увы, забывают, путаются, и из-за этого разочаровываются в своей жизни. Вроде все делают, как должно, и работа, и семья, а смысла не видят - они никак не найдут свою идею, и жизнь теряет для них смысл, и опускаются руки. Третьи - в постоянном поиске. Их никто не принуждает, но они не могут остановиться, потому что только выполнение своего предназначения дарит глубокое ощущение удовлетворенности жизнью. И даже только продвижение по своему,обретенному пути - уже счастье. Что бы ни случалось, какие бы препятствия на пути не стояли, человек, понявший свою мечту, и идущий вслед за ней - будет чувствовать уверенность, убежденность, силу, и как итог - счастье.
Знаете одну из истин, что правят миром? Она для каждого из нас: все наши потери только для обретения нового, все наши расставания служат для новых встреч. А все переживания душевные - для духовного роста. Воспринимай в целом то, что посылает жизнь, и думай только о радостях, которые она тоже дарит. Только так можно сохранить равновесие на этом натянутом канате жизни. А для обретения уверенности в своем жизненном пути и придания ему смысла, нужно-то только всего лишь три вещи.
Первое - всегда хранить Надежду найти свое предназначение.
Второе - иметь Веру в свои силы исполнить его,быть счастливым идти вперед по этому пути, даря от этого Любовь миру.
Третье - встречая трудности на пути - найти в себе Мудрость, чтобы понять что это только во благо, а именно для того, чтобы не сворачивать со своего Пути и исполнить свое предназначение. Иными словами, всегда хранить в душе, чтобы ни случилось, во все времена - Веру, Надежду, Любовь, и Мудрость. Тогда и мечта исполнится, и жизнь наполнится смыслом. Счастья всем.
30.09. 2005. Москва
http://world.lib.ru/i/iwanowa_a/senso.shtml
ПУТЬ В ДУШЕВНОМ ОКЕАНЕ
Говорят, что если событие произошло однажды, то оно может остаться просто случайным, но если что-то случилось дважды, непременно произойдет и в третий раз. А я говорю, что каждое событие повторяется. Но мы замечаем повторения только очень значительных или необычных явлений в нашей жизни. Мелкие повторения мы просто упускаем из виду, ведь кажется невозможным обращать внимание на все незначительные события, которыми наполнена и насыщена наша жизнь. Но если быть внимательным и чутким к событиям, к жизни, то можно увидеть этот закон круговых волн постоянных повторений.
Если бросить камень в воду, расходятся круги. Чем больше камень, тем больше волн мы увидим, от самых значительных, до средних, к малым и совсем затухающим. Так же и каждое событие - как волна от наших мыслей и поступков. Мы все взаимосвязаны и захлестываем собственные жизни и жизни других людей волнами мыслей и событий. Нельзя сделать ни единого шага, явно или лишь мысленно, чтобы не вызвать целый поток волн в этом душевном океане. Вот он корпускулярно-волновой дуализм! Мы - как частицы в мировом океане сияющей энергии. Каждый из нас складывает и излучает волны душевной энергии - любви или ненависти, милосердия или ярости, бури чувств или спокойной безмятежности. Мы в ответе за то, что излучаем в этом море, духовном океане, что незримо окружает нас, вернее мы все - его частицы. А еще точнее, мы сами привлекаем те события, что ожидаем, вольно или невольно, к которым стремимся, о чем мечтаем или даже думаем с опасением. И покаяние, и счастье - все в нас. И рай, и ад - все в нашей душе.
***
Мысль опережает действие. Всегда? Всегда. Принято думать, что мы совершаем поступки, затем исходя из них и из сложившейся в результате них ситуации, обстоятельств, прогнозируем свои дальнейшие действия, или предвидим грядущее. Логично? Отчего же так часто потом удивляемся неточности или несвоевременности событий, постоянному расхождению задуманного с действительностью? События упорно не поддается нашей логике, и происходят совершенно не так, как мы планируем или задумываем. Игра случая, - говорим. Можно подумать, что это что-то объясняет! А ведь все как раз наоборот. Вы замечали, что если кто-то очень сильно мечтает о самом заветном, мечта непременно осуществится, рано ли, поздно ли ? Главное, чтобы человек верил в свою мечту, и продолжал, не теряя мужества, идти вперед к ее достижению, не взирая ни на какие обстоятельства и не оглядываясь на случайные удары волн судьбы. Когда он идет, не сворачивая по своему пути, то за его мыслью, за его мечтой всегда последуют цепочки событий, которые и сложатся в изящно- причудливый узор причин - следствий, что составляют его судьбу, его путь. Мечта ведет за собой. Ведь это истинно - мысль наша ведет нас.
А как же удары судьбы? Если атом с разлету ударяется и проникает в кристаллическую решетку, он может пролететь мимо, может выбить другой атом, а может и удержаться, создавая при этом новую структуру, или новое состояние, т.е. новое качество всей структуры. Так же и люди, устремляясь вслед за своей мечтой, бросившись на ее осуществление в другие страны или города, или просто увлекаемыми новыми исследованиями к поискам новых людей или новой работы, лишь одним своим появлением нарушают сложившийся порядок, устойчивую структуру. Нарушают равновесие и, как следствие, получают ответные волны реакций. Требуется время, чтобы система после возмущения установленного в ней порядка пришла снова в равновесие. А человеку - требуется всего две вещи. Мужество, чтобы продолжать идти вперед, вслед за мечтой, проходя все испытания, и перенося удары судьбы, как неприятные, так и радостные. И мудрость, чтобы понять, что эти уроки следуют и приходят к нему как отклик на его же действия или даже мысли. Что же нужно, чтобы понять - где дар, а где урок? Не останавливаться и не изменять своему сердцу. Учиться слушать его и следовать ему. Тогда обязательно наступит равновесие, а с ними и новое качество, как жизни, так и души самого человека.
***
Я всегда думала, что каждый из нас видит свой мир вокруг. Спросите трех человек в поезде, что они увидели в промелькнувшем за окном пейзаже. И каждый расскажет свое. Кто-то обратит внимание на чистоту дорог, кто-то - на добротность домов в деревеньке, а кто-то - на розовые облака и летящих птиц. Нам только кажется, что мы здесь все вместе, в данной реальности. А на самом деле, душой мы живем каждый в своем мире. Прагматики назовут мечтателей чудаками, мечтатели удивятся слепоте прагматиков. А я же говорю о том, что мы сами изменяемся каждый раз, когда делаем выбор, чтобы идти по своему пути, следовать за своей мечтой. И, изменяясь сами, мы меняем и мир вокруг нас. Наши мысли опережают время реальности. Бегут впереди, вызывая волны поступков, получая ответные волны реакции обстоятельств. И, в конечном счете, можно сказать, что мы сами творим мир вокруг нас. Оттого-то и видим все каждый в своем свете. Только вдумайтесь в это, и к вам обязательно придет спокойствие и мир. Знаете отчего? Смешно обижаться или стремиться переделать других, ибо они видят все другими глазами. Это естественно, ведь каждый живет в своем мире. Параллельные миры - это мы с вами. Чудо, что мы вообще находим порой понимание и творим, именно творим гармонию. Хаос скорее был бы уместен в этих постоянных столкновениях частиц- людей и перекрывающихся волн душевной энергии - чувств и эмоций, мыслей, от нас исходящих. Гармония отношений и чувств - всегда сродни чуду. И иногда еще случается, видимо от того, что мы все душой друг на друга похожи более, чем принято думать. В каждом, в каждом живут все качества мира, только проявляются в разной степени и разных пропорциях. Смешно учить другого жить - ведь у каждого свой путь, своя мечта - свой мир, в котором живет его душа. Гораздо важнее пройти собственный путь, быть благодарным чуду понимания и учиться видеть уроки судьбы и быть благодарным им. Только принимая все в целом, можно творить гармонию, или иными словами равновесие душевного океана, в котором мы все живем.
***
Мы все - отражения Идеала, а значит, можем пробовать и творить. Творить чудеса друг для друга, для своих любимых - чудеса понимания и гармонии. Любовь - единственное, что поможет нам на этом пути. Это единственное, что удерживает частицы в равновесии, а души в радости. Это единственный мостик, что соединяет сверкающие параллельные миры наших душ. Вам не доводилось видеть радугу над головами влюбленных? А я говорю, что они светятся так, что остальные невольно оборачиваются, неосознанно желая приобщиться к этой радости и энергии счастья, которую они излучают. Не верите? Зато все видели, как встает дыбом шерсть у кошки, излучающей ярость. Уверяю вас, мы все - такие же светлячки наших мыслей и эмоций, то добрых, то злых. Может, осознав это, мы попробуем учиться излучать друг другу больше мира и добра?
***
Любовь способна творить чудеса. Изменяя нас, она меняет и мир вокруг нас. Как мало нужно, чтобы превратить нашу землю, уже прекрасную, в цветущий сад - ее надо просто любить! Как мало нужно и как трудно это - жить в мире, просто любить и позволить человеку жить в своем мире. Не вмешиваться, не пытаясь влиять, изменить, подчинить, использовать, а просто принимать и любить. И сохранив свою мечту, следовать рядом с ним, но за своей судьбой, по своему пути. Вслед за сердцем, которое единственное всегда знает истину. Лишь сердце твое, как маяк на пути вслед за мечтой в душевном океане мыслей, чувств и событий, никогда не обманет и не даст сбиться с пути.
Август 2005, Крым
http://world.lib.ru/i/iwanowa_a/strada.shtml
ПРИТЧА
Однажды жил один мальчик с плохим характером. Как-то раз его отец дал ему мешочек с гвоздями и сказал вбивать в изгородь сада гвоздь каждый раз, когда он теряет терпение или ссорится с кем-нибудь. В первый день мальчик забил 37 гвоздей в забор. В последующие недели он научился контролировать себя, и число забитых гвоздей в заборе уменьшалось день ото дня - он обнаружил, что легче контролировать себя, чем забивать гвозди! Наконец, настал день, в течение которого мальчик не забил ни одного гвоздя в забор. Радостный, он пошел к отцу и сказал ему, что в этот день не забил ни одного гвоздя! Тогда отец велел ему доставать гвоздь из забора всякий день, когда он не потерял терпения и не поссорился с кем-либо.
Проходили дни и, наконец, мальчик смог сказать отцу, что он достал все гвозди из забора. Тогда отец привел мальчика к забору и говорит ему: - Сын мой, ты вел себя хорошо, но смотри, сколько дырок теперь в заборе. Изгородь теперь уже не такая, как прежде. Когда ты ссоришься с кем- либо и говоришь что-нибудь плохое, ты оставляешь такую же рану, как эти. Ты можешь всадить нож в человека, и можешь достать его, но всегда остается рана. Не важно, сколько раз ты извиняешься, рана остается. Рана словесная причиняет такую же боль, как и физическая. Друзья - это редкие сокровища, они заставляют тебя улыбнуться и ободряют тебя. Они готовы выслушать тебя, когда тебе это нужно, они всегда поддержат тебя и откроют тебе свое сердце"
http://world.lib.ru/i/iwanowa_a/parable.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 04 Фев 2021, 11:58 | Сообщение # 39 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Аркадий Бухов
(1889 - 1944)

Его имя вошло в историю советской и российской литературы как имя автора талантливых юмористических рассказов, сатирических фельетонов, острых газетных статей. Вместе с Аверченко и Тэффи он сотрудничал с журналом «Новый Сатирикон». В начале 20-х годов он стал одним из активнейших сотрудников журналов «Чудак», «Бегемот», «Безбожник», печатал свои рассказы, фельетоны и в других советских сатирических журналах, публиковался в «Литературной газете», «Известиях» и др. С 1934 г. Бухов перешел на постоянную работу в журнал «Крокодил», где заведовал литотделом.
ЛЕНЬ
Из всех людских пороков один только, по-моему, характеризует его обладателей с хорошей стороны. Я говорю о лени. Совершенно напрасно говорят, что лень - мать всех пороков. От такой матери не могут родиться такие дети, как, например, воровство или жестокость. Для того чтобы воровать в буквальном смысле этого слова, то есть лазать через форточки в чужие квартиры, спрыгивать на ходу с трамвая с чужим кошельком в руках или ходить в течение часа по черным лестницам и всматриваться в замки и дверные пробоины, нужна исключительно повышенная трудоспособность. Для простой жестокости нужно проявлять немало энергии; желание напакостить кому-нибудь требует длительного хождения пешком для обдумывания плана пакости, бесконечных звонков по телефону, писания доносов на больших листах бумаги с подложенным под нее транспарантом и еще, в конце концов, личных визитов на 6-е и 7-е этажи без хорошо оборудованных лифтов. Все это скорее по плечу коммивояжеру спичечной фабрики, чем ленивому человеку. Лень я люблю другую, которая заметна в человеке, как музыкальность, как родинка на шее, и которой человек даже в глубине души гордится. Расцветет она с рождения нежным цветком и благоухает целую жизнь. Люблю смотреть на лентяев.

Сядет такой человек в кресло, и не только по каждому движению глаз, а даже складками пиджака, кажется, видно, что вся мысль у него работает в одном направлении:
- Ну, что вы все ко мне липните? Мешаю я кому? Оставьте меня, пожалуйста, в покое...
И кажется ему в это время, что, если бы у дверей его комнаты положили бы какой-то особенный, чудовищно большой клейкий лист для мух, в котором бы вязли все близкие и чужие люди со своими разговорами, суетой и привычкой залезать в душу - наступило бы полное блаженство.
Лентяи очень постоянны в любви. В конце концов, любовь самая кропотливая из всех видов человеческой работы. И как ни бегут века, никто еще не додумался в этой области до справедливого разделения труда, хотя бы как на какой-нибудь мелкой консервной фабрике. Один отрезает сардинке голову, другой кидает ее в масло, третий готовит жестянку, и так до какого-нибудь 530-го, который наклеивает этикетку, и коробка готова.
В работе любви все приходится выполнять одному. Если бы здесь провести специализацию труда, можно было бы видеть одних только нервно терзающих карманные часы на месте свидания, других пишущих оскорбительные письма, третьих методически и привычно становящихся на колени под родительское благославление и каких-нибудь 407-х ежедневно, по обязанности, рвущих на себе волосы по поводу ухода навовсе собственных подруг жизни... Единственное разнообразие во всей этой школе обязанностей вносит иногда последний человек, с которым убегает чужая жена на 4-й месяц после свадьбы.
Ленивый человек любит всего 3 раза в жизни, почему его и зовут однолюбом. 1-й раз - лет 12-ти, по неопытности, 2-й раз - лет 18-ти, из чувства неловкости перед товарищами, которые все влюблены, и 3-й раз - в 30 лет, иногда дотягивая до 40. На этот раз любовь кончается катастрофически, и он вводит в дом молодое существо, сам с кротким ужасом в глазах и с тихой покорностью всматриваясь в будущее. Больше он не любит. 1-й опыт учит его чувству неразделенной любви, сопровождаемой громким весельем и неослабеваемым интересом окружающих. 2-й раз он насыщается любовью, разделенной с ее мучительными придатками: уходом из дома, обязательством дежурить у театральных касс, выворачиванием души перед близкими любимой и защитой ее достоинств перед своими близкими. Все это очень хорошо для тучнеющих людей, желающих сбавить несколько фунтов собственного веса путем неожиданных волнений и пробега больших расстояний, для него - это лишнее. И, наконец, 3-й раз ему становится ясно, что всякая любовь похожа на те подписные бланки, где требуется проставить на пустом месте только имя, фамилию и несколько пустых формальностей - адрес и еще что-то... С таким сознанием ленивый человек изменять не может. В его представлении измена - это какой-то большой счет, который нужно оплачивать собственным организмом.
Предварительное знакомство... Две встречи у знакомых (трамвай, 7-й этаж, четыре часа разговоров), ложа в театре (заботы о ней).
Закрепление его... Ужин в ресторане и проводы домой (перегорелые рябчики, несвежая икра, возвращение в 4-е часа утра и долгое снимание ботинок у дверей).
Нежная близость... Подыскивание недорогих брошек, суетливое прекращение сплетен, домашний крик, беспокойство за странное поведение жены.
Холод перед разлукой... Встреча с Пичуевым и 7-дневное удивление по поводу его тона в квартире любимой женщины.
«Забудем друг друга». Радостное и быстрое выполнение мелких поручений жены (чистка перчаток, осмотр абажуров, поиски дешевой портнихи) для семейного мира.
Предъявите такой счет лентяю, перед тем как он захочет познакомиться ближе с интереснейшей женщиной, - он оттолкнет его с болезненным криком доброй души. Если же не оттолкнет - значит, он не лентяй, а портновский подмастерье, у которого от работы не только кривеют ноги, но еще остается на всю жизнь постоянный зуд в душе: принимать все новые и новые непосильные заказы...
Большинство лентяев умные люди, потому что у них есть много времени для обдумывания всего, что приходит в голову. Экспансивный человек обыкновенно обдумывает поступок значительно позже его совершения.
- Вы знаете, - обыкновенно говорит такой человек, - я напрасно Гнашина свиньей назвал. Особенно при других и в лицо... Оказывается, что он не писал этого письма...
Или просто бегает по комнате, хватается за посторонние предметы и, наконец, найдя прочное пристанище для рук - собственную голову, начинает тянуть.
- Вот идиот-то я... Вот тупица-то... Ну, что я сделал?.. Схватил деньги, проиграл, соврал, что был на службе, и, в результате, ночевал у швейцара...
Ленивый человек, наоборот, обдумывает все, даже то, что никогда не собирается делать. Не попав в театр, он, лежа на диване, представляет себе, сколько мелких неприятностей он получил бы от 4-часового обозрения чужой глупости в лицах, и встает с дивана с большим удовлетворением, чем то, с которым он приехал бы из театра. В результате - разумная экономия и возможность раньше улечься спать.
Лентяй приготовлен ко всем случайностям жизни, потому что в часы спокойного отдыха передумано все. И неожиданное получение трудно высчитываемого, даже лучшими бухгалтерами столицы, наследства, и внезапное превращение ленивого человека в испанского авиатора, и быстрый провал дома под землю - все, вплоть до необходимости отрастить себе большие зеленые крылья и перелетать с крыши на крышу. Лентяй всегда - прекрасный читатель. Схватив книгу, он вытянет от нее все, что хотели дать автор и издательство за полтора рубля, в то время как подвижный, работящий человек пользует даже трехрублевую книгу максимально на 15 копеек: узнает имя героя, знакомится с состоянием его папы и, узнав из последней страницы, где герой похоронен, бежит по личным делам на другой конец города. Зачем такие люди вообще читают беллетристику - я не понимаю. Для них должны писать не беллетристы, а участковые приставы: сначала метрики о рождении, потом свидетельства об окончании гимназии, оспопрививании и несудимости, а в конце подпись врача, удостоверившего нормальную смерть. Лентяй смакует книгу. Он знает, что, когда он кончит ее, ему придется заняться какой-нибудь работой, а так как это неприятно ему по существу, он перечитывает книгу до того момента, пока не убедится, что автору не удалось скрыть от него ни одной строчки.
Бывают, конечно, часы, или даже дни, когда лентяи становятся деятельными и подвижными. Это бывает при найме квартир, так как всякая комната и то, что ее составляет, - необходимый фундамент для лени. Живой, трудолюбивый человек ищет квартиру недолго и снимает ее с маху.
- Что? Диван не поместится? А мы его рядом в комнату. Дует? А когда дует? Всегда! Странно... Впрочем, я же всегда занят... Будто у меня есть время следить за тем, откуда дует... Окно мало? А мы его рядом в комна... Нельзя? Не надо. Кому здесь можно дать задаток?
Лентяй присматривается ко всему.
- Следовательно, если я хочу открыть окно, мне надо встать, обойти стол, отодвинуть кресло... Вы мне, кажется, каторгу с двухгодичным контрактом предлагаете, а не квартиру... 40 руб. с дровами за 6 комнат? Не в дровах счастье. А диван куда я поставлю? Сюда? Вы, очевидно, предполагаете, что у меня одна из рук измеряется саженями... А вставать из-за каждой папироски и подходить к столу... Извините за беспокойство.
Но, сняв квартиру, он требует, чтобы его перевезли туда сейчас же, раньше мебели. Сядет на подоконник и терпеливо дожидается того момента, пока квартира примет жилой вид, то есть кухарка опоздает на 2 часа с обедом, а к жене придут две говорливые родственницы...
Лентяи нежны. Огрубляют душу встречи, разговоры, мелкие хамства чужих людей. Созерцая жизнь, в тишине своего кабинета, лентяй обеспечен от этих факторов морального огрубления. Лентяй с удовольствием выслушает влюбленного, потому что последний ждет только словесного сочувствия, которое можно ему подарить не сходя со стула, в то время как другой человек, просто ударившийся ногой об извозчичью пролетку, требует, чтобы его собеседник опускался около него на колени и почтительно долго рассматривал голую ногу с большим расплывчатым синяком. Лентяй любит поговорить о цветах и весенних зорях, потому что по этому поводу никто не поднимет бешеного спора, во время которого необходимо вставать, рыться в энциклопедическом словаре сразу на несколько букв, унижая себя и энциклопедический словарь, который как будто только и составлен для того, чтобы поддерживать чужое невежество и глупость. Вообще спорить никогда не стоит. Особенно по сложным вопросам, о которых необходимо задумываться. Если собеседник умный и уважаемый человек, даже неудобно думать, что он переменит все свое миросозерцание после вашей 5-й фразы. Если же это юнец, который спорит просто потому, что этого требует его организм, - смешно, и унизительно изображать из себя колонию для малолетних преступников и заниматься исправлением юных характеров. Лентяи никогда не спорят.
Я люблю их. Не обрюзгших, с большими отвисшими животами и заплывшими глазами, способных волноваться только перед подачей из кухни еще неведомого, но уже предвкушаемого 3-го блюда... Тех, которые даже работают, несут все тяготы жизненной кропотливости, но у которых в душе всегда вибрирует одно и то же желание:
- Эх, кабы бросить все... И так - чтобы ничего не делать...
И когда я вижу людей с этой недосягаемой надеждой - мне становится жалко и грустно. Может быть, потому, что я сам с искренним удовольствием никогда и ничего бы не делал...
1916.
http://chapaevskiyrabochiy.ru/kultura....15.html
ГРИБНОЙ СПОРТ
Когда я в первый раз получил предложение пойти собирать грибы, меня поразил тот искус, который должен вынести каждый, принявший это скромное с виду предложение.
- Сегодня уж вы часов в 9 ложитесь...
Привыкший вообще скептически относиться ко всем проектам видоизменить мой довольно неприглядный для чужого глаза режим, я очень удивился такому совету.
- Почему в 9? Это примета такая, что ли, грибная?
- Нет, так... Чем раньше, тем лучше.
- Может, тогда мне уж и обеда дожидаться не стоит?.. Сейчас половина 3-го, до 4-х дотяну, а потом книжечку на сон грядущий...
- Вы не смейтесь... Часов в 6 вставать надо...
- Может, не есть перед этим днем?
- Если у вас все шутки, тогда как хотите...
Я постарался уверить моих собеседников, что, судя по этим требованиям, я придаю завтрашней прогулке не только шутливое, а наоборот, планомерно-трагическое значение, но необходимость ложиться спать в тот час, когда у меня только начинается вечер, и встать, когда я только что разосплюсь, вызывала во мне непоборимый протест.
- А почему в 6 именно?
- Лучше... Все с утра ходят...
- Я понимаю, - пытался я логически обосновать свои возражения, - если бы это была рыбная ловля... Утром хороший клев, но ведь это грибы... Может быть, есть такие сорта, которые нужно часа 2 прикармливать и только после этого с восходом солнца они показываются из земли...
- Таких нет, - сухо ответили мне.
- Может быть, у грибов есть дежурные часы, когда их можно собирать?
- Что вы глупости-то говорите...
- А если это глупости, то гриб, который торчал в 6 часов утра, будет на том же месте и в 12... Подрастет даже еще немного...
- Одним словом, вы не хотите идти?..
Это был слишком поспешный и недобросовестный вывод из моих слов; я опроверг его и предложил людям, надеющимся на свои силы, попытаться меня разбудить. К 9-ти велел приготовить постель. Не знаю, как это распоряжение подействовало на мою горничную, не привыкшую к таким выходкам с моей стороны, но, во всяком случае, когда я вернулся домой во 2-м часу ночи, постель была сделана.
Несмотря на всю кажущуюся безнадежность этого предприятия, утром меня стали будить. Сопротивлялся я недолго, тем более что приемы, пущенные в ход для этого, отличались убедительной примитивностью. Одеяло, стащенное на пол, конечно, не могло сразу прекратить удовольствие сна, но грузно севший на ноги самый тучный из грибников немедленно уничтожил все надежды на дальнейший уют теплой постели; вылитая сверху холодная вода на шею тоже сильно способствовала тому, что через 10 минут, хмурый и обиженный, я уже был одет и приготовлен ко всем ужасам грибного спорта.
Грибные места обычно находятся на расстоянии 2-х часов ходьбы от дачи. Если бы кто-нибудь вздумал выстроить ее около самого грибного места, его непременно уверили бы все знакомые, что грибы немедленно перекочевали куда-то в другой лес, к которому надо идти непременно 2 часа. Если грибы находятся рядом, то все же к ним идти надо с таким расчетом, чтобы заплутаться среди дач, попасть на железнодорожную станцию, 4 раза завязнуть в болоте и только после этого начать искать их. Почему это так - я не знаю, но существование такого обычая, я думаю, никто из потерпевших оспаривать не станет. Резкое отличие грибного спорта от собирания ягод сразу сказывается на месте, когда грязные и усталые собиральщики почему-то сразу останавливаются около какого-нибудь корявого дерева и с криком бешеной радости начинают ползать по земле. Ягоду можно просто сорвать и положить в рот. Сделав это достаточное количество раз, сметливый человек отстает от своей компании, находит дорогу к даче и спокойно идет пить кофе и читать утреннюю газету. Если собиратель ягод достаточно состоятельный человек и ему не нужно сейчас же с собранными ягодами бежать на железнодорожную станцию, чтобы продать их какому-нибудь рассеянному пассажиру, он может ограничиться полуфунтом хорошей спелой клубники.
Каждый грибник, наоборот, старается набрать такое количество грибов, чтобы вместе с тяжелой корзиной напоминать ту лошадь, которая в конце сезона повезет его дачную утварь в город. Ягоды просто едят; грибы едят немногие неосторожные люди, поэтому их нужно намариновать, нажарить, насушить, истолочь и еще что-то малодоступное некулинарному уму. Весьма возможно, что опытные хозяйки варят из них варенье или приготовляют сливочный крем. Поэтому каждый грибник старается нанести столько этой дряни, чтобы хозяйка, всплеснув руками, села на пол и заплакала от сознания, что у нее не хватит способов использовать все собранные грибы.
Совершенно неожиданно, когда я сорвал первый попавшийся мне под ноги гриб и с торжеством показал его своим спутникам, они единогласно и цинично засмеялись.
- Этот нельзя...
- Почему нельзя? Я же его первый нашел...
- Это вредный...
- Что значит вредный? Все грибы вредные.
Я не привык рассматривать их как целебное средство от ревматизма или подагры, а если я его все-таки нашел...
- Нашли, так и бросьте... Это поганый...
- В природе нет ничего поганого.
- Ну, а это поганый!..
- Конечно, в пристрастном освещении... Может, вы и меня через 10 минут назовете поганым... Впрочем, если я мешаю, я могу, конечно...
- Ну что вы обижаетесь... Вот видите, я сейчас нашел, это - белый гриб, дорогой и вкусный...
- Да, но он подозрительно похож на мой... Шляпка, ножка... Ага, я и другой нашел...
- Покажите-ка...
- Смотрите, пожалуйста... Красота какая - красный и белые точечки... Такие, наверное, маринуют.
- Мухомор.
- Что мухомор?
- Гриб ваш.
- Гриб? Это что - очень дорогой сорт?
- Их не едят.
- Что же, их в цемент заливают или ленточкой перевязывают, что ли?
- Выбрасывают просто...
- Знаете что, - сухо и уклончиво заметил я, - если каждый гриб, найденный мной, будет вызывать такие нелестные замечания, то...
- Да вы не каждый собирайте...
Этот выход мне окончательно понравился. Я с удовольствием стал ходить вместе со всеми и, встретив гриб, просто наступал на него ногой: правда, при таком обороте дела в мою корзину попали только какая-то оригинальная еловая шишка и сильно мешавший при ходьбе шнурок от ботинка, но я не рисковал вызвать порицание. Оказалось все-таки, что этот риск был, потому что через полчаса порицание окружающих вылилось в открытую и шумную форму.
- Это черт знает что такое!.. Вы сейчас два белых гриба раздавили...
- Разве эти жертвы так кричали, - хмуро полюбопытствовал я, - что привлекли ваше внимание?
- Да вы бросьте шутить... Мы ходим, ищем, ползаем, а вы их ногами давите...
- Если вам не нравится этот способ, - миролюбиво предложил я, - я могу просто садиться на них: результаты будут одинаковы...
- Мы вас больше не будем брать с собой...
- Если бы вы вынесли это решение еще вчера, я был бы значительно больше доволен...
- Тоже... Ходит и мешает...
Так как это было самое точное определение моей работы в то время, я спорить не стал.
В тот же день на кухне, куда грибники со вздохом облегчения сваливают все набранное в лесу, происходит обычно короткий, но характерный разговор.
- Нанесли, черти... С жиру бесятся...
- Жарить, что ли, надо...
- Жарить... Подашь им на стол, морду воротить будут: сметана гадкая да масло горькое...
- Барыня к ужину велела...
- К ужину и зажарим. В лавке была? Масло купила? А грибы-то купила? Ну и жарь.
- Их и жарить? А эти?
- Ты еще у меня поговоришь - эти... Что купила, те и жарь. Эти, эти... Разговорилась... А как господа дохнуть будут с поганок да с мухоморов, тоже разговаривать будешь?
За ужином счастливые и заспанные грибники с жутко скрываемым чувством отвращения набрасываются на купленные в соседней лавке грибы и с умилением произносят:
- Сами собирали... Четыре часа ходили...
- Ах, какая роскошь... Неужели сами? - стоически-холодно удивляется случайный гость.
- Скажите - такие грибы, и сами...
Добрых полчаса еще разговаривают о грибах и кончают только тогда, когда один из самых безнадежно засыпающих грибников тыкает с широкого размаха вилкой в подгорелые котлеты и двигает блюдо к гостю:
- Кушайте... Куште пжалста... Сами собирали...
В эти дни я совсем не выхожу к ужину.
1916.
http://poesias.ru/proza/bukhov-arkadij/bukhov1003.shtml
ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ДНЕВНИКА
Я никогда не вел дневника. Единственная попытка в этом направлении потерпела обидную неудачу. Собственно, это был даже не дневник, а просто список всего того, что я, гимназист 5-го класса, успел сделать в течение 2-х недель по отношению к тем добрым воспитателям, которые следили за моим успехом и поведением. Здесь было подробное описание удачной кражи тетрадей с письменными упражнениями у рассеянного математика, незаметно прошедшая пятерка, умело вставленная во время перемены в журнале отца законоучителя, и масса других удовольствий, более интересных для переживаемого тогда момента, чем для опубликования их теперь. Описание каждого случая было сопровождено краткими и искренними характеристиками потерпевших. Должно быть, юношеский порыв и искра литературного таланта помогли мне сделать это интересно и живо, потому что, когда дневник, случайно забытый в парте, попал в руки директора, он читался вслух целым педагогическим советом, собравшимся специально для этих, в сущности, незначительных проб пера. Дневник произвел, очевидно, сильное впечатление, потому что все единогласно решили сразу предоставить для развития начинающегося таланта более широкую плоскость, чем скромные стены провинциальной классической гимназии.
Добрые мои родители смотрели на это совершенно иначе.
- Вам придется взять вашего сына из гимназии, – вежливо, но определенно предложил директор, – он занимается нехорошими вещами.
- У этого мальчишки удивительно розный характер, – подтвердили этот факт родители, – дома он тоже занимается ими.
Найдя сочувствующие души, директор ознакомил их с моими заметками и наблюдениями. Положительно, несмотря на свое авторское чувство и явную молодость, я не придавал им столько значения, как эти зрелые и спокойные люди…
- Возьмите уж. Вместе с бумагами. Сынка-то вашего.
Родители посоветовались и решительно отказались от этого заманчивого предложения.
- Не надо нам этого сынка…
Не знаю, сколько времени продолжался бы этот некрасивый торг моей неопытной жизнью, но когда я увидел, что мне придется подыскивать себе не только новую гимназию, но и новый дом, что вызвало бы массу осложнений перед наступающим закатом, - я решил положить этому конец.
- Я больше не буду, - неискренне сказал я, выдвигаясь из-за естественного прикрытия, стеклянной двери директорского кабинета, - извиняюсь.
Мое появление не вызвало взрывов восторга, ни трогательного молчания. Отец почему-то сразу вспомнил недостатки моего воспитания и, внутренне терзаясь ими, сокрушенно сказал:
- Эх, ты… Драли тебя мало.
Мать, эта добрая женщина, опора своего мужа во всех затруднительных случаях, поддержала его туманной надеждой:
- Ничего еще. Время не ушло.
Директор, уловив мое обещание, придрался к случаю.
- Перед кем ты извиняешься, негодяй? Перед кем?
Обращение мне несколько не понравилось, но я решил не обращать на него внимания; раз я смогу остаться в гимназии - свои люди, сочтемся…
- Перед кем извиняешься?..
В душе я прекрасно понимал, что извиняться за мою наблюдательность и тяготение к литературному творчеству мне не перед кем, но так как мной было довольно умело затронуто много лиц, я решил перевести дело на подкладку широкой общественности.
- Перед всеми.
- А знаешь, за что извиняешься?
Спадать с тона было неудобно, и, не меняя позиции, я довольно непринужденно дал и этот ответ.
- За все.
- Больше не будешь? - с нескрываемым недоверием спросил директор, очевидно не желавший, вопреки моим намерениям, прекратить разговор.
- Не буду.
- А что ты не будешь?
Не в моих интересах, конечно, было рассказывать все то, что я мог бы сделать для специальных заседаний педагогического совета и чего впредь обещался не делать. Поэтому и этот ответ я постарался замаскировать в неопределенную форму.
- Все.
- Пакости не будешь писать?
Так как все написанное мною в дневнике я считал исключительной правдой, продуманной и прочувствованной, имеющей целью ознакомить с собой, кроме близких товарищей, еще и подрастающее поколение четвертого класса, – это обещание я дал радостно.
- Не буду.
- Честное слово?
- Честное слово.
Желая себя и гимназию обезопасить на будущее, директор решил в хронологическом порядке набрать с меня несколько десятков совершенно лишних честных слов.
- А тетрадки красть не будешь?
- Как, он и тетрадки крал? - без особенно радостного чувства осведомились родители.
- Крал, - безропотно подтвердил я.
- Не с тобой, мерзавец, разговаривают…
На этот раз я, действительно, поторопился с частичной откровенностью. Все равно этот прискорбный факт был бы и не мной доведен до сведения этих людей.
- Неужели у товарищей крал?..
- У учителя, - не оправдывающе пояснил директор и, не совсем, очевидно, доверяя взглядам моих родителей на этот счет, резюмирующе добавил:
- Это хуже.
- Крал…
Боже мой, неужели крал? Хотя в этом случае и не требовалось моего утверждения, но я решил и здесь поставить точку над и:
- Честное слово.
- Может, он еще что-нибудь делал?
Будь директор осведомлен и о тех событиях, которые произошли по моей вине, но, к счастью, еще не успели попасть в дневник, у него хватило бы еще на полчаса разговора… На этот раз он решил перенять мою систему и загадочно кинул:
- Много еще делал…
Пользуясь подходящим моментом, мать решила заплакать.
- Плачь, плачь, - подбодрил ее отец, - вырастили сынка…
- Да уж, сынок… - неопределенно вставил директор, - сыночек…
Настроение было явно не в мою пользу. Ни с какой выгодой для себя я его использовать бы не смог. Поэтому, только из деликатности, я решил поддержать свое предложение.
- Примите обратно уж этого щенка, - поддержал меня отец, конечно, не в той форме, в какой мне было приятно, - без обеда его оставляйте, в карцер сажайте, в угол, что ли, ставьте…
По-видимому, несмотря на нашу совместную жизнь, отец плохо понимал меня, если мог думать, что именно только ради предложенной им программы я хочу остаться в гимназии. Я решил молчать.
Слово, по характеру момента, принадлежало директору. Это было очень нехорошее слово:
- Возьмите его. Я ничего не могу сделать…
- Значит, совсем?
- Совет еще подумает, но пока держать такого человека в гимназии…
- Пойдем, Евгений, – коротко предложил отец, – поучился, будет…
- Можно книги взять?.. Из класса… В парте они…
Тон, каким была произнесена эта просьба, плохо напоминал последнее слово приговоренного, потому что директор со злобой, посмотрев на меня, кинул:
- Иди. Да только не торчи долго в классе… Знаю я тебя…
У нас было обоюдное знание друг друга. В классе, где сейчас была перемена, мой вкат по паркетному полу был встречен общим шумным сочувствием.
- Ну, как? Были? Где он сам? А что отец с матерью? Да ты говори…
Я выдержал достойную паузу и поделился сведениями о собственной судьбе.
- Вышибли, братцы…
- Это Тыква на совете тебе подпакостил… Ей-богу…
- Ну да, Тыква… Он добрый… Это Алешка нагнусил.
- А разбить ему в коридоре морду, будет тогда…
- Ты не куксись… Примут еще…
- Молодчага… Вышибли, а он ничего…
Положительно здесь я встречал несравненно больше сочувствия, чем там, где я был несколько минут тому назад. Учитывая это, я решил оставить о себе хорошую память.
- У меня, братцы, там мел натерт для немца, в кафедру насыпать… Вы уж как-нибудь сами…
- Ты уж не беспокойся. Даром не пропадет, насыплем… У тебя еще там два гвоздя…
- Это так, в пол вбить. На всякий случай. Может, кто зацепится…
Некоторые из приятелей и единомышленников по описанным в дневнике случаям решили предложить чисто коллективную помощь.
- А мы, брат, забастуем, когда уйдешь…
- А какие требования-то предъявите?
- Экономические. Чтобы тебя вернули.
- Спасибо, братцы… Ну, прощайте… Сенька, сегодня вечером приходи ко мне…
- А ты куда сейчас?..
- На реку… Сниму штаны и с сеткой пойду по малявкам…
- A y нас еще три урока… Вот черт… Дней 5 шляться будешь…
Кажется, что, уйдя из класса, я оставил там немало людей, искренне завидовавших моему неожиданному положению. Домой я возвращался с отцом и матерью. Это была очень невеселая группа. Я шел спереди, с ранцем за плечами, искренне довольный тем обстоятельством, что сейчас я смогу спокойно позавтракать дома хорошей яичницей, выпить кофе и, так как дома мое присутствие будет всем напоминать о семейном горе, уйти шляться по городу. На реку, конечно, я бы все равно не пошел - летом еще набегаюсь. Отец шел сзади и говорил много лишнего.
- Ух, как и драть я его буду, - делился он впечатлениями с матерью, - сниму что надо да ремнем…Мать, наверное, по своим чисто практическим соображениям находила, что эта мера может доставить только бесполезное удовольствие отцу и никакого педагогического значения не имеет:
- Проберешь этакого… Его оглоблей надо…
- И оглоблей буду, - не стеснялся в средствах отец, - всем буду…
Сказать, чтобы все эти обещания действовали на душу, как успокаивающая музыка, я не мог, но отвечать на улице было бесполезно. И, только придя домой, я решил, что пора заговорить и мне.
- Бить будете? - хмуро спросил я, твердо уверенный, что меня никто не тронет пальцем.
- Будем, - упрямо ответил отец, - непременно… Из гимназии вышвырнули…
- А я туда обратно вшвырнусь…
- Да кто тебя примет-то?..
- Кто вышиб, тот и примет…
Отцу, по-видимому, это показалось вполне возможным. Он искоса посмотрел на меня и стал снимать сюртук. Оставлять меня без приличного возмездия ему все-таки не хотелось, и тоном, уже менее суровым, он довел до моего сведения, что хочет отдать меня в мальчишки к портному. Так как это было придумано совсем неумно, я даже не стал спорить.
- Отдавай.
- Ты с кем разговариваешь, негодяй?
- С тобой.
- То-то, «с тобой»… Ты чего здесь торчишь?
- Есть хочется…
- Позовут, когда надо…
Мама уже накрывает…
- Иди, иди… Скажи, что сейчас приду тоже…
Через 2 недели меня снова приняли в гимназию.
- Ну, как, - с плохо заметной строгостью спросил меня отец, когда я в первый раз после перерыва пришел из гимназии, - жмут?
- Пустяки… Забыли все…
- А этот вот, которого ты кокосовым орехом назвал у себя там?
- Ничего… Позубрю завтра.
- Ну, зубри, зубри…
И, потеряв педагогическую нить, отец вдруг оторвался от газеты:
- Когда, брат, я в школе учился, был у нас чех один… Так мы ему перца толченого в журнал сыпали…
- Табаку нюхательного лучше…
- Чихает?
- Чихает… Я одному вчера так и сделал…
- А не попадешься?
- Чего там…
- Ну то-то… Ты только матери не говори, а то она, понимаешь… плакать начнет, – извиняющимся тоном добавил он, – женщина она, брат…
И снова прикрылся газетой. Когда я внезапно обернулся к нему, отец не смотрел на газету, а, полузакрыв глаза, чему-то улыбался.
- Ты чего, отец? - покровительственно спросил я.
- Эх, брат, было и в мое время… Прикрой-ка двери, чтобы мать не слышала… Я, брат, тебе порасскажу…
1915
http://rulibs.com/ru_zar/prose_su_classics/buhov/0/j52.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 20 Май 2021, 19:11 | Сообщение # 40 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
"ВЕСНОЙ"
I
Когда стемнело и в комнатах зажгли огонь, он достал из-под кровати толстые непромокаемые сапоги и стал надевать их. От воды кожа съежилась и затвердела, сапог с трудом входил на ногу, и с гримасой злости и отвращения Павел притопнул ногой. Потом, точно ослабев от сделанного усилия или вспомнив что-то важное, чего нельзя забывать ни на минуту, он бессильно бросил руки на постель, сгорбился, так что голова вошла в плечи, как у больного или старика, и задумался. В доме ходили, разговаривали, весело стучали чайной посудой, и маленькая Катя, оставленная, очевидно, нянькой и добравшаяся до рояля, выстукивала все одну и ту же звонкую и веселую нотку, – а он сидел неподвижно, с одной обутой ногой, смотрел в пол и думал о том важном и страшном, о чем нельзя забывать ни на минуту. И дышал он так тихо, что можно было стать рядом и не догадаться, что тут есть живой человек.
Мать увидела его, когда он проходил через столовую, и тревожно спросила:
- Ты куда, Павлик?
Павел, не оборачиваясь, ответил: – К товарищу.
Говорил он басом и был длинный, с узкими, покатыми плечами, не похожий ни на толстого, короткошеего отца, ни на малорослую мать. И когда он скрылся в кухне, через которую ходили обыкновенно домашние, мать подумала, что и на этот раз он не поцеловал ее, уходя, и что теперь он никого не целует: ни мать, ни отца, ни сестер. Два раза он возвращался домой пьяный, и в столе у него, под тетрадями, она подсмотрела большой страшный револьвер и предполагала, что у Павла роман с какой-нибудь дурной девушкой, из-за которой он может наделать беды. Отец его тоже хотел застрелиться, когда был женихом, и не застрелился только потому, что нигде не мог достать револьвера и она отговорила его. «Все они хотят стреляться», – подумала она с невольной улыбкой, но все-таки решила завтра же украсть опасное оружие и передать отцу. Пусть с ним и разговаривает.
Ночь была черна от низкого, покрытого тучами неба и от черной земли, которая вся за последние дни пропиталась дождевой водой, и когда свет из окна падал на протоптанную среди грязи тропинку, она лоснилась, как черный атлас. Фонарей на этой захолустной улице не было, и Павел шагал наудачу; раз он больно ударился коленкой о столбик и брезгливо сморщился: ненужная и вздорная боль мешала думать. Кругом находились сады, и пахло так хорошо, как пахнет во время дождя в лесу: сыростью, березовым листом и какими-то цветами, которые только и пахнут в сырую погоду. Низкие и плотные тучи пригнетали душистый воздух к земле, и он был густой и теплый, как липовый мед, и груди делалось от него широко и больно. И, ощущая эту странную, задумчивую и нежную боль, похожую на далекую песню без слов, Павел не мог понять ее, как не мог он понять ни весны, ни жизни, ни самого себя.
Казалось, что темнее не может быть, но, когда Павел вышел на берег реки и уже не видно было силуэтов домов и огоньков в окнах, тьма стала глубокой и тяжелой и так близко надвигалась сверху и с боков, точно хотела задушить. И грязь стала глубже и лужи чаще, и уже не пахло садами, а только широкой невидимой водой и тучами. Сапоги шлепали, и этот тупой, одинокий звук, раздававшийся за спиной и таинственно умолкавший, когда Павел останавливался, навел на него страх. Нащупав в кармане револьвер, Павел положил на него руку и так, оглядываясь и прислушиваясь, дошел до железнодорожной насыпи и по скользким ступенькам взобрался на нее. На мосту никого не было, и Павел тихо, стараясь не скрипеть ногами по песку, чтобы не услыхал сторож, прошел мимо освещенной будки и скрылся во тьме глубокой выемки, похожей на днище огромного длинного гроба. И тишина тут была такая, как в гробу, и воздух неподвижный, сдавленный, как будто им никогда не дышал. За поворотом были сложены негодные шпалы, на которых часто сидел Павел, и теперь он ощупью нашел сырые, исщепленные поленья и сел, спустив ноги. И опять спина его сгорбилась, и все тело охватило страшное бессилие и покой, которым нельзя было верить: где-то в глубине билось что-то тревожное, зловещее и требующее решительного, смелого и ужасного поступка.
Он уже целую неделю ходил сюда и присматривался, и тут нравилось ему, так как все – и воздух и могильная тишина говорили о смерти и приближали к ней. Когда он так сидел, тяжело, всем телом, и стены выемки охватывали его, ему казалось, что он уже наполовину умер и нужно сделать немного, чтобы умереть совсем. Каждую весну, вот уже три года, он думал о смерти, а в эту весну решил, что умереть пора. Он ни в кого не был влюблен, у него не было никакого горя, и ему очень хотелось жить, но все в мире казалось ему ненужным, бессмысленным и оттого противным до отвращения, до брезгливых судорог в лице. И бывало это весной. Зимой он не замечал жизни и жил просто, как и все, но, когда сходил снег и земля становилась прекрасной и обнажалось во всей загадочной красоте сияющее небо, он чувствовал себя, как птица, у которой обрубили крылья и которую сделали неуклюжим, медленно ползающим человеком. И крылатая душа трепетала и билась, как в клетке, и непонятна и враждебна была вся эта красота мира, которая зовет куда-то, но не говорит куда. Потерявшийся, он шел к людям с безмолвным вопросом – и все людские лица казались ему плоскими и тупыми, как у зверей, а речи их ненужными, вздорными и лишенными смысла, как бред или мычание животного. У них в доме была корова с большими глупыми глазами, и ему казалось, что мать его, которую он любил, похожа на эту корову, и от этих дурных мыслей он презирал себя.
Далеко за поворотом послышался гул, который он ощутил скорее вздрогнувшим телом, чем слухом. Послышался и угас, будто свинцовый воздух и тьма задушили его. Блеснули мокрые рельсы, и из-за черной стены медленно выплыл огненный глаз, одинокий и зловещий. Он стал прямо против Павла, и не видно было, подвигается он или нет, и хотелось, чтобы он закрылся или погас; но он смотрел, не мигая, зловещий и пристальный, и становился все больше, все ярче и злее. Сердце Павла поднялось высоко, к самому горлу, – и упало, разбившись на тысячу коротких, быстрых толчков, от которых пересохло во рту. Впившись пальцами в сырые бревна, он наполовину сдвинулся с них и вытянул ногу, касаясь носком земли. И поза его были такая, как у человека, который хочет сделать быстрый и решительный прыжок, и когда свет фонаря упал на его глаза, они были расширены и в них был ужас. Медленно, как больной или усталый, прошел мимо Павла слабо освещенный паровоз, а за ним, как тени, потянулись вагоны, грузно постукивая и колыхаясь. И чувствовалось, как тяжела их угрюмая масса и как беспощадно дробили бы они тело, попавшее под колеса.
Поезд прошел, а Павлу все еще чудилось, что смерть еще тут, еще не ушла, и со страхом, которому он не мог найти объяснения, он быстро соскользнул со шпал и пошел. На мосту он увидел сторожа и сказал ему:– Добрый вечер! Сторож осветил его фонарем, повернулся, ничего не сказал и ушел в будку. И опять Павлу стало тяжело и безнадежно спокойно. Он долго стоял, облокотившись на тонкие железные перила, всматриваясь в ровную тьму, такую же безнадежную и ровную, как его тоска. И, покачав головой, он громко сказал: – Завтра. Когда Павел подходил к дому, короткая майская ночь уже подходила к концу, а у парадного стояли два экипажа, и окна были освещены. От крыльца двинулась к нему темная фигура, и встревоженный Павел узнал дворника Василия.
– Что случилось? – спросил Павел, зная наверное, что что-то случилось и что случившееся ужасно. – Что с мамой?
– Сергей Васильевич были в клубе… Маменька велели подождать вас тут
.– Что с отцом?
Но он уж знал, что.
Везде, в кухне, столовой и спальне, был яркий свет, режущий глаза, и ходили люди. У няньки седые волосы выбились из-под платка, и она походила на ведьму, но глаза краснели от слез и голос был жалостливый и добрый. Павел оттолкнул ее, потом еще кого-то, кто цеплялся за него и мешал пройти, и сразу оказался в кабинете. Все стояло там, как всегда, и голая женщина улыбалась со стены, а на полу посредине комнаты лежал отец в белой ночной сорочке, разорванной у ворота. Весь свет от лампы и свечей падал, казалось, только на него, и оттого он был большой и страшный, и лица его не мог узнать Павел. Оно желтело прозрачной и страшной желтизной, и глаза закатились, белки стали огромные и необыкновенные, как у слепого. Из-под простыни высунулась рука, и один толстый палец на ней, с большим золотым перстнем, слабо шевелился, сгибаясь и разгибаясь и точно пытаясь что-то сказать. Павел стал на колени, дрожащими губами поцеловал еще живой, шевелившийся палец и, всхлипнув, сказал:
– Зачем на полу? Зачем на полу?
Кто-то из темноты ответил:
– Вы не плачьте. Он еще останется жив. Он был в клубе, и с ним сделался удар, но он еще останется жив.
Из соседней комнаты послышался вопль, хриплый, клокочущий и неудержимый, как хлынувшая через плотину вода. Пронзительным звуком он пронесся по комнатам, наполнил их и перешел в жалобные слова: – Го-лубчик мой… Сере-женька!..
Умирающий тихо шевелил пальцем, и хотя лицо было все-таки желто и неподвижно, казалось, что он слышит зовущий его голос, но не хочет почему-то отвечать. И Павел дико закричал: – Папа! Да папа же!
II
Теперь Павел был старшим в доме, и ему пришлось заказывать гроб, ездить в церковь за покровом и нанимать певчих. Днем он немного заснул на детской постели, и ему приснилось, что он целует голую женщину, ту самую, что висит в кабинете. Сон был противный, но он скоро забыл о нем и все ходил, и все распоряжался, и так наступила ночь. Все в доме успокоилось. Мать, с которой на панихидах три раза делалось дурно, уснула с маленькой Катей; Андрей и Шура тоже спали, наплакавшись за день, и только возилась в кухне прислуга, да в дальней комнате собравшиеся родственники пили чай. Когда вошел Павел, дядя Егор доказывал, что в такие ночи нужно пить чай с ромом или с коньяком:
– В доме всегда нужно иметь коньяк, – говорил он, – потому что коньяк очень хорошо действует на организм. Простудишься ли, ноги ли промочишь, или какая неприятность, сейчас выпил коньяку, и испариной все выйдет. Павлик, ты не хочешь стаканчик с коньячком? Выпей.
Лицо у дяди Егора было плоское и красное, и Павел подумал, что лучше было бы, если бы умер дядя Егор, а не отец. И он сурово ответил:– Не хочу. Если посмотреть со двора на дом, то сразу можно было подумать, что в доме большой и веселый праздник: все окна были освещены, и целые снопы света падали от них на землю. Но было что-то жуткое и необыкновенное в этом доме, горевшем всеми своими окнами среди темной ночи, и чувствовалось, что там, в одной из комнат его, лежит немой и холодный мертвец. Он лежит, немой, неподвижный, и господствует над всем домом, и все, что вокруг, принадлежит ему и служит для него. Павел ходил по двору взад и вперед и повторял все одни и те же слова, которые остались у него в памяти от панихиды:– Со святыми упокой, господи, душу усопшего раба твоего.
Он повторял их десятки и сотни раз, то нежно, то с безнадежным отчаянием, и каждое слово выговаривал ясно и глубоко, но вкладывал в него совсем особенный смысл. И все эти слова значили одно: смерть. И все мысли, какие были у Павла, значили одно: смерть. Из сада шел густой и сильный запах травы, деревьев и распустившегося жасмина, и запах этот значил все то же: смерть. И непонятно было, зачем этот сладкий и веселый запах, когда умер человек, обонявший его; зачем эти звезды и мягкая теплая тьма; зачем этот свет в окнах, когда человек умер и лежит немой и холодный, как глыба бездушного льда.
В темном сарае Павел нашел прислоненную к стене крышку широкого гроба. Под ней будет лежать отец, и Павел забрался под нее и встал, стараясь быть неподвижным и не дышать, как мертвец. Он думал, что так он скорее поймет, что такое смерть. Но от крышки шел приятный запах свежего теса, и было в нем, как в запахе листвы, что-то противоречащее смерти, еще более загадочное, чем она, и настойчиво зовущее. Павел закрывал глаза и думал, что и он будет так же лежать и будет мертв, но сердце его громко стучало, и ему было жаль отца, а приятный запах дерева обвевал его тонкой, живой и неразрывной паутинкой. И он не мог представить, что будет когда-нибудь мертв. Когда он вышел из сарая, еще сильнее пахнуло ароматом цветущего сада, и откуда-то издалека пронеслась тихая, но торжествующая, опьяненная жизнью и любовью песнь соловья. И со всей острой жалостью измученного сердца, со всей неразгаданной страстной тоской, со всей прелестью майской ночи – жизнь была так прекрасна, что хотелось умереть – чтобы жить вечно. Шатаясь, Павел дошел до забора, припал к нему головой и долго плакал, повторяя запавшие в память слова:– Со святыми… упокой… Но теперь они уже не значили: смерть.
Наутро опять начались хлопоты. Пришел фотограф, чтобы снять портрет с мертвого Сергея Васильевича, и было уже пора, так как покойник начал портиться. Гроб вынесли на террасу, где было светлее, и фотограф, остробородый и быстрый человек в пиджачке, долго приспособлял аппарат. Голова мертвеца лежала неудобно, и фотографу, видимо, хотелось сказать: потрудитесь немного повернуть ее и улыбнитесь, – и с снисходительной почтительностью, стараясь выказать свое понимание, что он имеет дело с мертвецом, он осторожно двумя пальцами повернул ее. Голова покачнулась и опять стала на свое место, но фотограф сделал вид, что доволен.
– Так будет хорошо, – сказал он.
Дядя Егор посмотрел сбоку и подтвердил: – Да, хорошо.
Но тут вошла мать Павла. Никого не видя, сразу ставшая седой и старой, она медленно, со старческой дрожью в ногах поднялась по ступенькам, тихо подошла к гробу и руками вперед упала на него.
– Мама! Мама! – просил Павел, стараясь отвести ее. Но она отпихивалась локтями, цеплялась, тащила за собой тяжелый покров и говорила: – Пусти… Пусти!.. Это я ему.
И в руке у нее Павел увидел скомканные, жалкие цветы: голубенький колокольчик и одуванчики. Они были, как она их сорвала, с листьями и травой, и держала она их так крепко, что из одуванчика выступил белый, как молоко, сок.
– Сестра! – сказал дядя Егор, – успокойся.
Павел оттолкнул его плечом и кротко сказал:– Положи, мама.
И живые цветы легли на грудь мертвеца. Когда мать и Павел ушли, фотограф придал цветам живописное положение, и дядя Егор похвалил его.
– Трудное ваше дело – фотография. Требует большого искусства.
– Да-с. С живыми-то ничего, но мертвые… – и щелкнул аппаратом. Потом опять начались панихиды и «со святыми упокой». Приезжали знакомые Сергея Васильевича и сослуживцы, которых Павел водил курить в сад, и все они предлагали ему папиросу, как равному. И все в доме пропиталось запахом ладана и еще каким-то другим, тяжким и зловещим запахом. Под столом, на котором лежал покойник, уже стояла кадка со льдом, а к вечеру пришлось заложить у покойника нос и уши ватой и положить вату на рот. И видны были только лоб, гладкий, как из кости, и страшно крепко закрытые глаза, как будто человек этот закрыл их и решил никогда уже не открывать. И хотя покойник стал страшнее, чем был, и дьячок жаловался, что в комнате с ним трудно быть, в эту ночь все спали спокойнее и крепче, так как привыкли к его присутствию.
На третье утро Сергея Васильевича похоронили. Опять Павел распоряжался, отгонял любопытных, мешавших пронести в двери гроб, помогал выводить из церкви мать, с которой часто делалась дурнота, и вместе с дядей Егором приглашал всех после погребения к закуске. Он кланялся, слабо улыбался, считал на руке мелочь, которую принесла ему какая-то старушка, и время бежало так быстро, и события шли так скоро одно за другим, вне его воли, что он не успевал ни думать, ни вспоминать. Потом он шел за высоким катафалком и глядел, не отрываясь, на стриженый затылок отца. От неровностей дороги и толчков голова слегка покачивалась, а сверху и с боков все горело от яркого майского солнца, и пыль под ногами светилась и жгла обувь. Сзади стучали колеса, и слышались частые возгласы дяди Егора: – Сестра, успокойся. Павел слышал их и понимал, что мать его опять плачет, но, охваченный странным, тупым равнодушием, не оборачивался. И от всех похорон у него остались в памяти только стриженый, покачивающийся затылок отца да белые от пыли сапоги. С кладбища его вместе с каким-то господином повез быстрый и веселый извозчик, подымавший целые тучи пыли. Пролетка прыгала и плавно покачивалась, по сторонам за низенькими заборами подымались густые и свежие сады, и все это было так красиво и приятно после медленного и однообразного движения за катафалком, что Павел глубоко вздохнул и попросил у спутника папиросу. В комнатах все окна были раскрыты настежь, всюду стояли цветы, и нельзя было подумать, что совсем недавно здесь стоял покойник. И обедали долго и шумно. Дядя Егор всех угощал, ловко наливал рюмки и не принимал никаких отговорок.
– Надо помянуть покойника, – убедительно говорил он. – Батюшка, пожалуйте! Отец дьякон, а что же ваша рюмка-то?
Когда все посторонние разъехались, Павел пошел в сад и долго ходил по его тенистым дорожкам и с изумлением глядел по сторонам. Ему казалось, что долго, очень долго он лежал в тесном и узком гробу, не дышал, не видел солнца и не знал всей этой пышной, расточительной красоты. Земля творила. Так густо, что не проникал взгляд, зеленели пушистые, гладкие, широкие и острые листья. Все были молодые, радостные, полные могучей силой и жизнью. Казалось, можно было уловить глазом, как они растут и дышат, как из влажной и теплой земли тянется к солнцу трава. И все в саду было полно густым гудением, полным заботы и страстной радости жизни. Оно было вверху и внизу, не видно было, кто гудит и поет, но чудилось, что это поет трава, цветы и высокое синее небо. Казалось, что можно было слышать траву и обонять душистое знойное жужжанье, так все, запах, звук и краска, неразрывно сливались в одну дивную гармонию творчества и жизни. В углу, под солнцем, Павел увидел березку, на его глазах посаженную отцом. Он помнил, как тогда чернела разрытая земля и там была березка, а теперь она стояла стройная, высокая, и легко, без усилия, простирались в воздухе ее сердцевидные листья, окрашенные нежной молодой зеленью. И Павлу стало жаль отца, и стройная березка сделалась ему родной и милой, как будто в ней еще не умер и никогда не умрет дух того, кто дал ей эту зеленую, веселую жизнь.
– Павлик, где ты? – звали его. От дома разбитой походкой шла мать, и за ней, держась за подол, переваливался Шурка.
– Как я устала, – сказала она, садясь на скамейку, – побудь со мной, Павлик
.– Хорошо, мамочка.
Внезапно мать встала и упала на колени перед Павлом, потащив за собой и крепко державшегося Шурку. И, плача тихими слезами горя, прижимаясь лицом к руке сына, проговорила:
– Павля! милый… Ты один теперь у нас… Ты один наша защита.
И Шурка серьезно проговорил: – Павля! А Павля?
Павел гладил рукой седую, вздрагивающую голову, и далеким черным сном пробежала перед ним мрачная железнодорожная ветка и одинокий зловещий глаз. Он гладил вздрагивающую голову, смотрел на сморщившегося Шурку и видел, какие все они маленькие, и жалкие, и одинокие, и как они нуждаются в защите и любви. И он почувствовал себя сильным и крепким, и голос его был полный и громкий, когда он сказал :– Да, мама. Я буду жить.
1902.
http://az.lib.ru/a/andreew_l_n/text_0244.shtml

После полудня стало так жарко, что пассажиры I-го и II-го классов один за другим перебрались на верхнюю палубу. Несмотря на безветрие, вся поверхность реки кипела мелкой дрожащей зыбью, в которой нестерпимо ярко дробились солнечные лучи, производя впечатление бесчисленного множества серебряных шариков, невысоко подпрыгивающих на воде. Только на отмелях, там, где берег длинным мысом врезался в реку, вода огибала его неподвижной лентой, спокойно синевшей среди этой блестящей ряби. На небе, побледневшем от солнечного жара и света, не было ни одной тучки, но на пыльном горизонте, как раз над сизой и зубчатой полосой дальнего леса, кое-где протянулись тонкие белые облачка, отливавшие по краям, как мазки расплавленного металла. Черный дым, не подымаясь над низкой закоптелой трубой, стлался за пароходом длинным грязным хвостом.
Покромцевы, муж и жена, тоже вышли на палубу. Их вовсе не стесняло окружавшее многолюдное и совершенно незнакомое общество; наоборот, они в нем чувствовали себя еще ближе, еще теснее друг к другу. Они были женаты уже три месяца - именно такой срок, после которого молодые супруги особенно охотно посещают театры, гулянья и балы, где, затерявшись в толпе чужих людей, они глубже и острее чувствуют взаимную близость, обратившуюся в привычку за время медового месяца. Лишь изредка они обменивались незначительным односложным замечанием, улыбкой или долгим взглядом. И он и она испытывали то полное, ленивое и сладкое счастье, которое дает только путешествие, сопровождаемое молодостью и беззаботной удовлетворенной любовью. Снизу, из машинного отделения, вместе с теплым запахом нефти, доносилось непрерывное шипение, мягкие удары работающих поршней и какие-то глубокие, правильные вздохи, в такт которым так же размеренно вздрагивала деревянная палуба «Ястреба». Под колесами парохода клокотала вода, выбрасывая сердитые бугры белой пены. За кормой, торопливо догоняя ее, бежали ряды длинных, широких волн; белые курчавые гребни неожиданно вскипали на их мутно-зеленой вершине и, плавно опустившись вниз, вдруг таяли, точно прятались под воду. Расходясь по реке все шире, все дальше, волны набегали на берег, колебали и пригибали к земле жидкие кусты ивняка и, разбившись с шумным плеском и пеною об откос, бежали назад, обнажая мокрую песчаную отмель, всю изъеденную прибоем. Кое-где на кустах висели длинные рыбачьи сети. Чайки с пронзительным криком летели навстречу пароходу, сверкая на солнце при каждом взмахе своих широких, изогнутых крыльев. Изредка на болотистом берегу виднелась серая цапля, стоявшая в важной и задумчивой позе на своих длинных красноватых ногах.
Но это однообразие не прискучивало Вере Львовне и не утомляло ее, потому что на весь божий мир она глядела сквозь радужную пелену тихого очарованья, переполнявшего ее душу. Ей все казалось милым и дорогим: и «наш» пароход - необыкновенно чистенький и быстрый пароход! - и «наш» капитан - здоровенный толстяк в парусиновой паре и клеенчатом картузе, с багровым лицом, сизым носом и звериным голосом, давно охрипшим от непогод, оранья и пьянства, - «наш» лоцман - красивый, чернобородый мужик в красной рубахе, который вертел в своей стеклянной будочке колесо штурвала, в то время как его острые, прищуренные глаза твердо и неподвижно смотрели вдаль. Слегка облокотившись на проволочную сетку, Вера Львовна с наслаждением глядела, как играли в волнах белые барашки, а в голове ее под размеренные вздохи машины звучал мотив какой-то самодельной польки, и с этим мотивом в странную гармонию сливались и шум воды под колесами и дребезжание чашек в буфете. Иногда навстречу «Ястребу» попадался буксирный пароход, тащивший за собою на толстом канате длинную вереницу низких, неуклюжих барок. Тогда оба парохода начинали угрожающе реветь, что заставляло Веру Львовну с испуганным видом зажмуривать глаза и затыкать уши...
Вдали показывалась пристань - маленький красный домик, выстроенный на барке. Капитан, приложивши рот к медному рупору, проведенному в машинное отделение, кричал командные слова, и его голос казался выходящим из глубокой бочки. «Самый малый! Ступ! Задний ход! Сту-уп!..» С нижней палубы выбрасывали канат, и он, развиваясь в воздухе, с грохотом падал на крышу пристани. Матросы по дрожащим сходням выносили на берег громадные кули и мешки, сгибаясь под их тяжестью и придерживая их железными крюками. Около станции толпились бабы и девчонки в красных сарафанах; они навязчиво предлагали пассажирам вялую малину, бутылки с кипяченым молоком, соленую рыбу и баранину. Ямские лошади, над которыми вились тучи слепней, нетерпеливо позвякивали бубенчиками и колокольцами... Жара понемногу спадала. От воды поднялся легкий ветерок. Солнце садилось в пожаре пурпурного пламени и растопленного золота; когда же яркие краски зари потухли, то весь горизонт осветился ровным пыльно-розовым сиянием. Наконец и это сияние померкло, и только невысоко над землей, в том месте, где закатилось солнце, осталась неясная длинная розовая полоска, незаметно переходившая наверху в нежный голубоватый оттенок вечернего неба, а внизу в тяжелую сизоватую мглу, подымавшуюся от земли. Воздух сгустился, похолодел. Откуда-то донесся и скользнул по палубе слабый запах меда и сырой травы. На востоке, за волнистой линией холмов, разрастался темно-золотой свет луны, готовой взойти. Она показалась сначала только одним краешком и потом выплыла - большая, огненно-красная и как будто бы приплюснутая сверху.
На пароходе зажгли электричество и засветили на бортах сигнальные фонари. Из трубы валили длинным снопом и стлались за пароходом, тая в воздухе, красные искры. Вода казалась светлее неба и уже не кипела больше. Она успокоилась, затихла, и волны от парохода расходились по ней такие чистые и гладкие, как будто бы они рождались и застывали в жидком стекле. Луна поднялась еще выше и побледнела; диск ее сделался правильным и блестящим, как отполированный серебряный щит. По воде протянулся от берега к пароходу и заиграл золотыми блестками и струйками длинный дрожащий столб.Становилось свежо. Покромцев заметил, что жена его два раза содрогнулась плечами и спиной под своим шерстяным платком, и, нагнувшись к ней, спросил: - Птичка моя, тебе не холодно? Может быть, пойдем в каюту?
Вера Львовна подняла голову и посмотрела на мужа. Его лицо при лунном свете стало бледнее обыкновенного, пушистые усы и остроконечная бородка вырисовывались резче, а глаза удлинились и приняли странное, нежное выражение.
- Нет, нет... не беспокойся, милый... Мне очень хорошо, - ответила она.
Она не чувствовала холода, но ее охватила та щемящая томная жуть, которая овладевает нервными людьми в яркие лунные ночи, когда небо кажется холодной и огромной пустыней. Низкие берега, бежавшие мимо парохода, были молчаливы и печальны, прибрежные леса, окутанные влажным мраком, казались страшными... У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой. Он, точно угадывая ее мимолетное желание, тихо обвил ее половиной своего широкого пальто, и они оба затихли, прижавшись друг к другу, и, касаясь друг друга головами, слились в один грациозный темный силуэт, между тем как луна бросала яркие серебряные пятна на их плечи и на очертание их фигур.
Пароход стал двигаться осторожнее, из боязни наткнуться на мель. Матросы на носу измеряли глубину реки, и в ночном воздухе отчетливо звучали их протяжные восклицания: «Ше-есть!.. Шесть с половинной! Во-осемь!.. По-од таба-ак!.. Се-мь!» В этих высоких стонущих звуках слышалось то же уныние, каким были полны темные, печальные берега и холодное небо. Но под плащом было очень тепло, и, крепко прижимаясь к любимому человеку, Вера Львовна еще глубже ощущала свое счастье. На правом берегу показались смутные очертания высокой горы с легкой, резной, деревянной беседкой на самой вершине. Беседка была ярко освещена, и внутри ее двигались люди. Видно было, как, услышав шум приближающегося парохода, они подходили к перилам и, облокотившись на них, глядели вниз.
- Ах, Володя, посмотри, какая прелесть! - воскликнула Вера Львовна. - Совсем кружевная беседка... Вот бы нам с тобой здесь пожить...
- Я здесь провел целое лето, - сказал Покромцев.
- Да? Неужели? Это, наверно, чье-нибудь имение?
- Князей Ширковых. Очень богатые люди...
Она не видела его лица, но чувствовала, что, произнося эти слова, он слегка разглаживает концами пальцев свои усы и что в его голосе звучит улыбка воспоминания.
- Когда же ты был там? Ты мне ничего о них не рассказывал... Что они за люди?
- Люди?.. Как тебе сказать?.. Ни дурные, ни хорошие... Веселые люди...
Он замолчал, продолжая улыбаться своим воспоминаниям. Тогда Вера Львовна сказала:
- Ты смеешься... Ты, верно, вспомнил что-нибудь интересное?
- О нет... Ничего... Ровно ничего интересного, - возразил Покромцев и крепче обнял талию жены. - Так... маленькие глупости... не стоит и вспоминать.
Вера Львовна не хотела больше расспрашивать, но Покромцев начал говорить сам. Ему приятно было, что его жена узна̀ет, в какой широкой барской обстановке ему приходилось жить. Это щекотало мелочным, но приятным образом его самолюбие. Ширковы жили летом в своем имении, точь-в-точь как английские лорды. Правда, сам Покромцев был там только репетитором, но он сумел себя поставить так, что с ним обращались как со своим, даже больше того, - как с близким человеком. Ведь настоящих светских людей всего скорее и узнаешь именно по их очаровательной простоте. Лето промелькнуло удивительно быстро и весело: лаун-теннис, пикники, шарады, спектакли, прогулки верхом... К обеду все собирались по звуку гонга, непременно во фраках и белых галстуках, - одним словом, самое утонченное соединение строгого этикета с простотой и прекрасных манер с непринужденным весельем. Конечно, в такой жизни есть и свои недостатки, но пожить ею хоть одно лето - и то чрезвычайно приятно.
Вера Львовна слушала его, не прерывая ни одним словом и в то же время испытывая нехорошее, похожее на ревность чувство. Ей было больно думать, что у него в памяти остался хоть один счастливый момент из его прежней жизни, не уничтоженный, не сглаженный их теперешним общим счастьем. Беседка вдруг точно спряталась за поворотом. Вера Львовна молчала, а Покромцев, увлеченный своими воспоминаниями, продолжал:
- Ну, конечно, играли в любовь, без этого на даче нельзя. Все играли, начиная со старого князя и кончая безусыми лицеистами, моими учениками. И все друг другу покровительствовали, смотрели сквозь пальцы.
- А ты? Ты тоже... ухаживал за кем-нибудь? - спросила Вера Львовна неестественно спокойным тоном.
Он провел рукой по усам. Этот самодовольный, так хорошо знакомый Вере Львовне жест вдруг показался ей пошлым.
- Н-да... и я тоже. У меня вышел маленький роман с княжной Кэт. Очень смешной роман и, пожалуй, если хочешь, даже немного безнравственный. Понимаешь: девице еще и шестнадцати лет не исполнилось, но развязность, самоуверенность и прочее - просто удивительные. Она мне прямо изложила свой взгляд. «Мне, говорит, здесь скучно, потому что я ни одного дня не могу прожить без сознания, что в меня все кругом влюблены. Вы один здесь только мне и нравитесь. Вы недурны собой, с вами можно разговаривать, ну и так далее. Вы, конечно, понимаете, что женой вашей я быть не могу, но почему же нам не провести это лето весело и приятно?»
- Ну и что же? Было весело? - спросила Вера Львовна, стараясь говорить небрежно, и сама испугалась своего внезапно охрипшего голоса.
Этот голос заставил Покромцева насторожиться. Как бы извиняясь за то, что причинил ей боль, он притянул к себе голову жены и прикоснулся губами к ее виску. Но какое-то подлое, неудержимое влечение, копошившееся в его душе, какое-то смутное и гадкое чувство, похожее на хвастливое молодечество, тянуло его рассказывать дальше.
- Вот мы и играли в любовь с этим подлетком и в конце лета расстались. Она совсем равнодушно благодарила меня за то, что я помог ей не скучать, и жалела, что не встретилась со мною, уже выйдя замуж. Впрочем, она, по ее словам, не теряла надежды встретиться со мною впоследствии.
И он прибавил с деланным смехом: - Вообще, эта история составляет для меня одно из самых неприятных воспоминаний. Ведь правда, Верочка, гадко все это?
Вера Львовна не ответила ему. Покромцев почувствовал к ней жалость и стал раскаиваться в своей откровенности. Желая загладить неприятное впечатление, он еще раз поцеловал жену в щеку. Вера Львовна не сопротивлялась, но и не ответила на поцелуй... Странное, мучительное и самой ей неясное чувство овладело ее душой. Тут была отчасти и ревность к прошедшему, - самый ужасный вид ревности, - но была только отчасти.
Вера Львовна давно слышала и знала, что у каждого мужчины бывают до женитьбы интрижки и связи, что то, что для женщины составляет огромное событие, для мужчины является простым случаем, и что с этим ужасным порядком вещей надо поневоле мириться. Было тут и негодование на ту унизительную и развратную роль, которая выпала в этом романе на долю ее мужа, но Вера Львовна вспомнила, что и ее поцелуи с ним, когда они еще были женихом и невестой, не всегда носили невинный и чистый характер. Страшнее всего в этом новом чувстве было сознание того, что Владимир Иванович вдруг сделался для своей жены чужим, далеким человеком и что их прежняя близость никогда уже не может возвратиться.
«Зачем он мне рассказывал всю эту гадость? - мучительно думала она, стискивая и терзая свои похолодевшие руки. - Он перевернул всю мою душу и наполнил ее грязью, но что же я могу ему сказать на это? Как я узнаю, что он испытывал во время своего рассказа? Сожаление о прошлом? Нехорошее волнение? Гадливость? (Нет, уж во всяком случае не гадливость: тон у него был самодовольный, хотя он и старался это скрыть)... Надежду опять встретиться когда-нибудь с этой Кэт? А почему же и не так? Если я спрошу его об этом, он, конечно, поспешит меня успокоить, но как проникнуть в самую глубь его души, в самые отдаленные изгибы его сознания? По чему я могу узнать, что, говоря со мной искренно и правдиво, он в то же время не обманывает - и, может быть, совершенно невольно - своей совести? О! Чего бы я ни дала за возможность хоть один только миг пожить его внутренней, чужой для меня жизнью, подслушать все оттенки его мысли, подсмотреть, что делается в этом сердце...»
И это страстное влечение слиться мыслью, отожествиться с другим человеком, приняло такие огромные размеры, что Вера Львовна, нечаянно для самой себя, крепко прижалась головой к голове мужа, точно желая проникнуть, войти в его существо. Но он не понял этого невольного движения и подумал, что жена просто хочет к нему приласкаться, как озябшая кошечка. Он пощекотал ее усами по щеке и сказал тоном, каким говорят с балованными детьми:
- Веруся бай-бай хочет? Верусенька озябла? Пойдем в каютку, Верусенька?
Она молча поднялась, кутаясь в свой платок.
- Верусенька на нас ни за что не сердится? - спросил Покромцев тем же сладким голосом.
Вера Львовна отрицательно покачала головой. Но перед трапом, ведущим в каюты, она остановилась и сказала:
- Послушай, Володя, тебе ни разу не приходило в голову, что никогда, понимаешь, никогда двое людей не поймут вполне друг друга?.. Какими бы тесными узами они ни были связаны?..
Он чувствовал себя немного виноватым и потому пробормотал со смехом:
- Ну вот, Верунчик, какую философию развела... Разве мы с тобой не понимаем друг друга?\
В каюте он скоро заснул тихим сном здорового сытого человека. Его дыхания не было слышно, и лицо приняло детское выражение.
Но Вера Львовна не могла спать. Ей стало душно в тесной каюте, и прикосновение бархатной обивки дивана раздражало кожу ее рук и шеи. Она встала, чтобы опять выйти на палубу.
- Ты куда, мамуся? - спросил Покромцев, разбуженный шелестом ее юбок.
- Лежи, лежи, я сейчас приду. Я еще минутку посижу на палубе, - ответила она, делая ему рукою знак, чтобы он не вставал.
Ей хотелось остаться одной и думать. Присутствие мужа, даже спящего, стесняло ее. Выйдя на палубу, она невольно села на то же самое место, где сидела раньше. Небо стало еще холоднее, а вода потемнела и потеряла свою прозрачность. То и дело легкие тучки, похожие на пушистые комки ваты, набегали на светлый круг луны и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием. Печальные, низкие и темные берега так же молчаливо бежали мимо парохода. Вере Львовне было жутко и тоскливо.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 20 Май 2021, 19:30 | Сообщение # 41 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Она впервые в своей жизни натолкнулась сегодня на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека, - на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми.
- «Что же я о нем знаю? - шепотом спрашивала себя Вера Львовна, сжимая руками горячий лоб.
- Что я знаю о моем муже, об этом человеке, с которым я вместе и ем, и пью, и сплю и с которым всю жизнь должна пройти вместе? Положим, я знаю, что он красив, что он любит свою физическую силу и холит свои мускулы, что он музыкален, что он читает стихи нараспев, знаю даже больше, - знаю его ласковые слова, знаю, как он целуется, знаю пять или шесть его привычек... Ну, а больше? Что же я больше-то знаю о нем? Известно ли мне, какой след оставили в его сердце и уме его прежние увлечения? Могу ли я отгадать у него те моменты, когда человек во время смеха внутренно страдает или когда наружной, лицемерной печалью прикрывает злорадство? Как разобраться во всех этих тонких изворотах чужой мысли, в этом чудовищном вихре чувств и желаний, который постоянно, быстро и неуловимо несется в душе постороннего человека?»
Внезапно она почувствовала такую глубокую внутреннюю тоску, такое щемящее сознание своего вечного одиночества, что ей захотелось плакать. Она вспомнила свою мать, братьев, меньшую сестру. Разве и они не так же чужды ей, как чужд этот красивый брюнет с нежной улыбкой и ласковыми глазами, который называется ее мужем? Разве сможет она когда-нибудь так взглянуть на мир, как они глядят, увидеть то, что они видят, почувствовать, что они чувствуют?.Около четырех часов утра Покромцев проснулся и был очень удивлен, не видя на противоположном диване своей жены. Он быстро оделся и, позевывая и вздрагивая от утреннего холодка, вышел на палубу. Солнце еще не всходило, но половина неба уже была залита бледным розовым светом. Прозрачная и спокойная река лежала, точно громадное зеркало в зеленой влажной раме оживших, орошенных лугов. Легкие розовые морщины слегка бороздили ее гладкую поверхность, а пена под пароходными колесами казалась молочно-розовой. На правом берегу молодой березовый лес с его частым строем тонких, прямых, белых стволов был окутан, точно тонкой кисеей, легким покровом тумана. Сизая, тяжелая туча, низко повисшая на востоке, одна только боролась с сияющим торжеством нарядного летнего утра. Но и на ней уже брызнули, точно кровавые потоки, темно-красные штрихи.
Вера Львовна сидела на том же месте, облокотясь руками на решетку и положив на них отяжелевшую голову. Покромцев подошел к ней и, обняв ее, напыщенно продекламировал голосом, разбухшим от здорового сна:
- «Вышла из мрака младая, сперстами пурпурными Эос...»
Но когда он увидел ее серьезное, заплаканное лицо,он точно поперхнулся последним словом.
- Верусенька, что с тобой? Что такое, моя дорогая?
Но она уже приготовилась к этому вопросу. Она так много передумала за эту ночь, что пришла к единственному разумному и холодному решению: надо жить, как все, надо подчиняться обстоятельствам, надо даже лгать, если нельзя говорить правду. И она ответила, виновато и растерянно улыбаясь:
- Ничего, мой милый. Просто - у меня бессонница...
1898
https://ilibrary.ru/text/4265/p.1/index.html
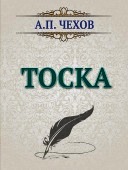
Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать... Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина всё нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.
- Извозчик, на Выборгскую! - слышит Иона. - Извозчик!
Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.
- На Выборгскую! - повторяет военный. - Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!
В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега. Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...
- Куда прешь, леший! - на первых же порах слышит Иона возгласы из темной,движущейся взад и вперед массы.
- Куда черти несут? Пррава держи! Ты ездить не умеешь! Права держи! - сердится военный.
Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.
- Какие все подлецы! - острит военный. - Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.
Иона оглядывается на седока и шевелит губами.Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.
- Что? - спрашивает военный.
Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:
- А у меня, барин, тово... сын на этой неделе помер.
- Гм!.. Отчего же он умер?
Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:
- А кто ж его знает! Должно, от горячки. Три дня полежал в больнице и помер. Божья воля.
- Сворачивай, дьявол! - раздается в потемках. - Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!
- Поезжай, поезжай... - говорит седок. - Этак мы и до завтра не доедем.Подгони-ка!
Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется. Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой... По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.
- Извозчик, к Полицейскому мосту! - кричит дребезжащим голосом горбач. - Троих... двугривенный!
Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены. Что рубль, что пятак - для него теперь всё равно, были бы только седоки. Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничапья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.
- Ну, погоняй! - дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. - Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...
- Гы-ы... гы-ы... - хохочет Иона. - Какая есть...
- Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по
шее?..
- Голова трещит... - говорит один из длинных. - Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.
- Не понимаю, зачем врать! - сердится другой длинный. - Врет, как скотина.
- Накажи меня бог, правда...
- Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.
- Гы-ы! - ухмыляется Иона. - Ве-еселые господа!
-Тьфу, чтоб тебя черти!.. - возмущается горбач. - Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, чёрт! Но! Хорошенько ее!
Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:
- А у меня на этой неделе... тово... сын помер!
- Все помрем... - вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. - Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?
- А ты его легонечко подбодри... в шею!
- Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?
И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.
- Гы-ы... - смеется он. - Веселые господа... дай бог здоровья!
- Извозчик, ты женат? - спрашивает длинный.
- Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена - сырая земля... Хи-хо-хо... Могила, то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась. Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...
И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем. Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.
- Милый, который теперь час будет? - спрашивает он.
- Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!
Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи. Ему невмоготу.
"Ко двору, - думает он. - Ко двору!"
И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора, Иона сидит уже около большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе "спираль" и духота. Иона глядит на спящих,почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...
"И на овес не выездил, - думает он. - Оттого-то вот и тоска.Человек, который знающий свое дело, который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен..."
В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.
- Пить захотел? - спрашивает Иона.
- Стало быть, пить!
- Так... На здоровье. А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице. История!
Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, ноне видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется. Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем. Нужно поговорить с толком, с расстановкой. Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер. Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья. И про нее нужно поговорить. Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать. А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.
"Пойти лошадь поглядеть, - думает Иона. - Спать всегда успеешь...Небось, выспишься..."
Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде. Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...
- Жуешь? - спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. - Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем. Да. Стар уж стал я ездить. Сыну бы ездить, а не мне. То настоящий извозчик был. Жить бы только...
Иона молчит некоторое время и продолжает:
- Так-то, брат кобылочка. Нету Кузьмы Ионыча. Приказал долго жить...Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать. И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить. Ведь жалко?
Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. Иона увлекается и рассказывает ей всё...
1886.
http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_1886_toska.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 02 Июл 2021, 00:41 | Сообщение # 42 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
"БОГОМОЛЬЕ"
Петька, мальчонка дотошный, шаландать куда гораздый, увязался за бабушкой на богомолье .То-то дорога была. Для Петьки вольготно: где скоком, где взапуски, а бабушка старая, ноги больные, едва дух переводит. И страху же натерпелась бабушка с Петькой и опаски, – пострел, того и гляди, шею свернет либо куда в нехорошее место ткнется, мало ли! Ну, и смеху было: в жизнь не смеялась так старая, тряхонула на старости лет старыми костями. Умора давай разные разности выкидывать: то медведя, то козла начнет представлять, то кукует по-кукушечьи, то лягушкой заквакает. И озорничал немало: напугал бабушку до смерти.
– Нет, – говорит, – сухарей больше, я все съел, а червяков, хочешь, я тебе собрал, вот!
- Вот тебе и богомолье, – полпути еще не пройдено, Господи!
А Петька поморочил, поморочил бабушку да вдруг и подносит ей полную горсть не червяков, а земляники, да такой земляники, все пальчики оближешь. И сухари все целы-целехоньки.
Скоро песня другая пошла. Уморились странники. Бабушка все молитву творила, а Петька «Господи помилуй» пел. Так и добрались шажком да тишком до самого монастыря. И прямо к заутрене попали. Выстояли они заутреню, выстояли обедню, пошли к мощам да к иконам прикладываться. Петьке все хотелось мощи посмотреть, что там внутри находится, приставал к бабушке, а бабушка говорит:
– Нельзя, грех!
Закапризничал Петька. Бабушка уж и так и сяк, крестик ему на красненькой ленточке купила, ну помаленьку и успокоился. А как успокоился, опять за свое принялся. Потащил бабушку на колокольню колокол посмотреть. Уж лезли-лезли, и конца не видно, ноги подкашиваются. Насилу вскарабкались. Петька, как колокольчик, заливается, гудит, – колокол представляет. Да что – ухватился за веревку, чтобы позвонить. Еще, слава Богу, монах оттащил, а то долго ли до греха. Кое-как спустились с колокольни, уселись в холодке закусить. Тут старичок один, странник, житие пустился рассказывать. Петька ни одного слова мимо ушей не проронил, век бы ему слушать .А как свалила жара, снова в путь тронулись. Всю дорогу помалкивал Петька, крепкую думу думал: поступить бы ему в разбойники, как тот святой, о котором странник-старичок рассказывал, грех принять на душу, а потом к Богу обратиться – в монастырь уйти. «В монастыре хорошо, – мечтал Петька, – ризы-то какие золотые, и всякий Божий день лазай на колокольню, никто тебе уши не надерет, и мощи смотрел бы. Монаху все можно, монах долгогривый».
Бабушка охала, творила молитву.
1905
https://www.miloliza.com/skazki-....ogomole

I
В этот вечер мы встретились на станции. Она кого-то ждала и была рассеянна. Поезд пришел и затопил платформу народом. Пахло лесом после дождя, каменным углем. Знакомых было так много, что мы едва успевали раскланиваться. Но того, кого она тревожно искала глазами, не было. Поезд тронулся, и она остановилась, глядя широко раскрытыми синими глазами на мелькающие вдоль платформы вагоны. В окнах, на площадках – всюду были лица, лица. Но того лица, что было нужно, не было. Наконец стена вагонов оборвалась, мелькнул задний буфер, поезд стал уменьшаться, сокращаться в пролете между зелеными лесами. На опустевшей платформе тонко блестели длинные полоски дождевой воды, голубой от неба. Платформа была в тени, – солнце скрылось за ее навесом, сзади нас, но дачи в лесу, напротив, были еще озарены и весело горели стеклами. Где-то страстно и отчаянно, в нос, заливался граммофон; где-то щелкали шары крокета и раздавались мальчишеские крики. Даже не взглянув на меня, она коротко сказала: «Пройдемтесь немного», – и я пошел.
За станцией в глаза ударило яркое вечернее солнце, но дальше стоял тенистый лес. И мы долго шли его прохладной просекой, по корням и утоптанным, упругим тропинкам, возле грязной дороги, среди зеленых лимов, осин и густого орешника, задевавшего нас бархатистой листвой. Она шла впереди, и я глядел на ее юбку, подолом которой она обвила себе ноги, на клетчатую кофточку, на тяжелый узел ее кос. Она ловко выбирала места посуше, наклоняясь от веток.
- О чем вы думаете? – спросила она раз, не оборачиваясь.
- О ваших ботинках, – сказал я. – О том, что они не на французских каблуках. Не верю женщинам на французских каблуках.
– А мне верите?
– Верю…
Но вот просека кончилась, мы очутились на солнце, на открытом зеленом бугре, и она остановилась и обернулась.
– Какой вы милый! – сказала она. – Идет себе и молчит… У меня неожиданный прилив нежности к вам.
Я ответил сдержанно:– Спасибо. Это в горе бывает.
Она широко раскрыла глаза.– В горе? В каком горе?
– Но ведь я знаю, что вы кого-то напрасно ждали. Знаю и то, что сейчас вы предложите мне догонять вас
.– Угадали. Хотите?
Я подошел к ней и, взяв за руки, слегка притянул к себе. Она отклонилась.
– Нет, – пробормотала она. – Нет… Ради бога…
И, помолчав, ловким движением выдернула руки, подхватила юбки и побежала с бугра в разлужье.
Направо и налево были овраги, заросшие лесом, впереди – широкая лощина, покрытая рядами скошенного сена, почти вся в тени. Сбежав в разлужье, она остановилась на границе этой тени, в блеске низкого солнца. Но, подпустив меня на шаг, прыгнула через канаву и пустилась по лощине. Я прыгнул за нею – и вдруг с неба посыпался легкий, быстрый, сухой шорох, а на взгорье налево пала легкая, чуть дымящаяся радуга.
– Дождь! – звонко крикнула она и еще быстрее побежала по сверкавшему под ливнем лугу. Половина его, еще озаренная солнцем, дрожала и сияла в стеклянной, переливающейся золотом сети, – редкий крупный дождь сыпался торопливо и шумно. Видно было, как длинными иглами неслись с веселого голубого неба, из высокой дымчатой тучки, капли. Потом они замелькали реже, радуга на взгорье стала меркнуть – и шорох сразу замер. Добежав до стога, она упала в него и засмеялась. Грудь ее дышала порывисто, в волосах мерцали капельки.
– Попробуйте, как бьется сердце, – сказала она, взяв мою руку. Я обнял ее, наклонился к ее полуоткрытым губам. Она не сопротивлялась. Потом тихо отстранила меня и отвернула от меня зардевшееся лицо. Она перекусывала сухой стебелек и блестящими глазами рассеянно смотрела вдаль.
– Это первый и последний раз, – сказала она. – Хорошо?
– Хорошо, – ответил я.
Она пристально посмотрела на меня.
– А вы хоть немножко любите меня? Мне так хорошо с вами, я так счастлива! И не ревнуете меня ни к кому. То, что я ждала кого-то, право, не имеет ни малейшего отношения к нам. Ну да, он уже и официально мой жених, и скоро я стану графиней Эль-Маммуна. Почему? Не знаю. Просто потому, что я его боюсь…
Она протянула мне руки с намерением подняться. Я поцеловал сперва одну, потом другую.
– А теперь пойдем, – сказала она.
– Куда?
– Еще немного по лугу…
Я поднял ее – и она мельком, застенчиво улыбнулась. Потом милыми женскими движениями поправила волосы, глубоко вздохнула свежестью луга. В лесу, то там, то здесь, глухо куковала кукушка, оттеняя глубину и звучность его после дождя, высоко в небе плыли и таяли теплые дымчатые облака с золотисто-алыми краями… А на обратном пути мы заблудились. Однако она быстро сообразила, что где. И уверенно повела меня. Тут, уступая моей просьбе, кратко, намеками, волнуясь, она рассказала мне свою историю. Кончив, она долго шла молча. В лесу стояли северные сумерки. А лес, молчаливый, темный, тянулся на много верст вокруг. И весь этот лесной край был погружен теперь в грустное и спокойное ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял, задремывал. Мелкое болотистое озеро, по берегу которого мы пробирались, еще белело меж деревьев. Но и оно было тускло и печально, как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с темнотою леса. И все цепенел теплый сонный воздух, напоенный пряным ароматом болотных трав и хвои. Светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, задремывающими под таинственный шепот кузнечиков…
Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен. И, уже с трудом различая дорогу, пошли по глубокому песку к поляне, как вдруг что-то зашуршало в сухой перепутанной хвое и оттуда колом вынырнула большая головастая сова. Она метнулась на нас – я даже успел разглядеть ее серые штаники – и взвилась на своих широких круглых крыльях. Она отшатнулась и стала. А сова, беззвучно описав дугу, снова пала вниз и плавно потонула в чаще ветвей, во мраке.
– Не к добру, – сказала она, покачав головой.
Я улыбнулся.
– Уверяю вас, не к добру, – повторила она просто и настойчиво.
– Что же будет?
– Ах, я не знаю! Впрочем, мне все равно. Эти дни с вами и особенно этот вечер я никогда не забуду. Дайте я на прощанье…
Не договорив, она обняла меня, грустно и нежно посмотрела в лицо, подумала и поцеловала один глаз, другой… И мы пошли через поляну на зеленый огонек семафора, мерцавший за деревьями. Совсем стемнело; тихо зашептался с лесом дождь. А когда мы вбежали на балкон дачи, под парусиновый навес, к чайному столу, освещенному свечами в колпачках, дождь уже лил как из ведра. Мы отряхивались и притворно рассказывали, как мы заблудились, как искали дорогу. И вдруг смолкли: из темного угла балкона, с качалки, поднялся непомерно высокий, худой и широкоплечий человек лет тридцати, с голым черепом, чудесной черной бородой и блестящими глазами. Старики смутились, она побледнела. Я пожал его большую руку и шутливо сказал:
– Боже, какой вы высокий! Из вас вышел бы отличный средневековый латник.
– Да? – живо спросил он. – Что ж, могло быть. Меня зовут граф Маммуна…Мне отыскали старый огромный зонт, надавали советов, где лучше пройти, и я спустился с мокрых ступеней балкона в непроглядную тьму
.Она стояла на пороге, в светлом треугольнике парусинового шатра. Когда я добрался до калитки, она, не повышая голоса, сказала:
– Прощайте.
И это было последнее слово, слышанное мною от нее.
II
«Дорогой мой, – писала она мне через четыре месяца после этого, – не вините меня, что я исчезла, даже не предупредив вас. Он был в тысячу раз сильнее меня. Я потеряла волю, упустила страшный момент, когда еще можно было все порвать. Теперь у меня нет уже почти никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы мы встретились? Мне кажется, я нисколько, нисколько не обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был неожиданный и маленький роман, только и всего. Но все равно: клянусь вам, – если я кого-нибудь любила за всю свою жизнь, то это вас…Что такое эта мириады раз воспетая людьми любовь? Может быть, дело-то и не в самой любви. В письмах одного умершего писателя я недавно прочла: «Любовь – это когда хочется того, чего нет и не бывает». Да, да, никогда не бывает. Но все равно. Я вас любила и люблю…Вспоминаю вас чаще всего в сумерки. В сумерки мы простились, в сумерки и пишу я вам это первое и, верно, последнее письмо. А пишу бог знает откуда: из Альп, из ледяного, пустого отеля за облаками, в октябрьский вечер. У него начинается чахотка, и я бессовестно издеваюсь над его жизнью. Я не только держу его в Альпах в самую нелепую пору – я еще таскаю его в самые скверные туманные дни по озерам, в горы. Теперь он покорен мне.Он молчит по целым дням, блестит глазами, но покорен. Молча шел и нынче. Когда мы вошли сюда, прислуга отеля, доживающая здесь последние дни простой крестьянской жизнью в кухне, ахнула от изумления: вот так гости! Но, может быть, и потому, что он был бледен и огромен, как смерть.А пошла я сюда ради вас. Чтобы думать, вспоминать в тишине, в безнадежности…Так хорошо, так задумчиво синеют поздней осенью эти долины, уходя друг за другом в горы. Небо равнодушно и низко висит над озерами, и неподвижно лежат темно-свинцовые озера, налитые между туманно-сизыми кряжами. Когда я гляжу в это облачное небо, меня всегда тянет уйти в его туманы, провести ночь в каком-нибудь пустом горном отеле… Я бы полжизни отдала, чтобы вы были здесь со мной…Мы уехали из города на пароходе утром, а после полудня уже шли в гору. Как печальна была эта дорога! Низкорослый лес на обрывах и скатах был редок, дремал и скупо ронял мелкие желтые листья. Иногда из-за деревьев глядели тупые, изумленные морды больших красных коров. Иногда слышался птичий свист мальчишек-пастухов, собиравших по кустарникам хворост. В глубочайшей тишине мы шагали все выше и выше, а с гор, с круч, сумрачно синевших сосновыми лесами, серым дымом спускалась зима. Останавливаясь, чтобы передохнуть, я подолгу смотрела в долины, слабо лиловевшие в деревьях далеко внизу. Тогда слышно было падение каждого листика. Мокрые кустарники плакали – тихо, тихо…Близ какого-то туннеля, черневшего своим жерлом в тумане, встретили какой-то поселок, пять-шесть сонных хижин на скате. Только не спеша можно было одолевать трудный подъем по грязным, скользким шпалам. Но очень скоро от поселка осталось одно пятно внизу, а с гор уже повеяло сыростью осеннего снега.Тут он остановился и предложил вернуться.Я, назло ему, отказалась.
– Не остроумно, – сказал он и, подумав, опять пошел. Туман все густел и темнел, а мы шли ему навстречу, миновали черную, закопченную и гулкую дыру туннеля, прошли почти отвесный мост над дымным бездонным ущельем… Если мой невольный спутник отставал, он мгновенно расплывался в тумане. И когда мы перекликались, голоса наши были глухи и странны.Раз он окликнул меня, – он все сзади шел, – и, когда я остановилась, подошел и протянул мне руку.
– Будь ласкова, – несмело сказал он, – заберись мне в рукав и вытяни фуфайку.
И мне стало жаль его. Он понял это, опустил глаза и прибавил:
– И потом, поедем куда-нибудь, где тепло, и займемся оба каким-нибудь делом. А так очень тяжело. Это ад, а не свадебное путешествие.
– Разойтись нам надо, – ответила я.
Он помолчал. И пробормотал, сдвигая брови: – Трудно это…
– Тогда я возьму на себя этот труд, – сказала я.
– Ты не смеешь делать меня жертвой своей нелепой любви.
– Я все смею, – сказал он, в упор глядя на меня. – Мне терять нечего.
Я отвернулась и пошла. Мокрые рельсы, покрытые тающим снегом, сбегали сверху, сосны и ели шли оттуда по обрывам. В сумерках, в тумане можно было скорее чувствовать, чем различать, их лиловые пятна. И надо всеми этими хмурыми горами стояла такая тяжкая тишина заоблачного царства, которая исключала малейший признак жизни. И вдруг в старой ели, стоявшей возле дороги, послышался шорох. Помните сову? Я именно здесь вспомнила ее и после этого решила непременно написать вам. Это была, конечно, не сова, это был королек, – кажется, самая маленькая из всех существующих птиц. Серенький, вспорхнул он с мокрого, дымящегося рукава ели, сел было на дорогу – и тихо перелетел к обрывам налево, в туман…
Представляете себе этот вечер? Мглистые стены бора, мокрый, бледный снег вдоль дороги, дымные пропасти, где висит густая аспидная мгла… А королек спокоен. Его не пугает зимняя горная ночь. Он проведет ее где придется – предоставив себя чьей-то высшей защите. А вот у меня нет веры в эту защиту. Сейчас лягу спать в этом пустом ледяном номере, пахнущем сосною, и, когда потушу огонь, буду думать о том, что я за облаками, в настоящем царстве смерти. Он лежит в соседнем номере и глухо кашляет. Это не человек, а какие-то погребальные дроги. Я ненавижу его всей душой! Если встретимся и я буду свободна, поцелую ваши руки от радости – делайте тогда со мной, что хотите. Нет – так тому и быть…»
III
Но и это письмо дошло до меня бог знает когда. Из Москвы переслали его в деревню. Там оно провалялось чуть не три месяца, потом колесило по югу. И получил я его уже в начале марта, перед отъездом из Крыма.Тронуло оно меня, взволновало – ужасно. Но что написать в ответ, что сделать? Я долго думал над этим и придумал только одно, прости меня, Боже: «Поеду-ка и я через горы на лошадях». На крымских горах тоже висел туман. Но была весна, мне было 28 лет…На Ляй-лю, в грязной корчме на перевале, я пил кислое красное вино, пока перепрягали тройку. Все тонуло во мгле, проносившейся по ветру мимо окошечка корчмы… Я вынул письмо, перечитал его – и у меня забилось сердце. «Ах, милая, чудесная! Но что сделать? Что сделать?» В корчме не сиделось. Я вышел на воздух…Туман розовел, таял. В мглистой вышине светлело, теплело. В небесах, в дыму облаков обозначалось что-то радостное, нежно. Оно росло, ширилось – и внезапно засияло лазурью. Надо написать, – непременно! Но что? Куда? Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. Но еще долго курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло наконец солнце. И тогда от тумана не осталось и следа. Небо раскрылось над горами во всей своей необъятности, далеко зазеленело в чистом воздухе волнистое плоскогорье. Ветер тянул с севера, но он был ласков, мягок. И, опьяненный этим ветром, я пошел к обрывам, чтобы еще раз взглянуть на море.
Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в густой зыбкий пар под обрывом. Бесконечная, изрытая равнина сгустившихся облаков – целая страна белых рыхлых холмов – развернулась перед моими глазами. Вместо бездонных стремнин и скал, вместо прибрежий и заливов, до самого горизонта простиралась подо мною эта равнина, необозримым слоем повисшая над морем. И вся сила моей души, вся печаль и радость – печаль о той, другой, которую я любил тогда, и безотчетная радость весны, молодости – все ушло туда, где, на самом горизонте, за южным краем облачного слоя, длинной яркой лентой синело море. Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути, о том, что прошлое отжито, что впереди – новая жизнь. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, ушастый ямщик-татарин на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт, под несмолкающий плач колокольчиков, бесконечная лента шоссе… Долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, вырезывающихся на сини пустого неба. А тройка, под заливающийся звон и топот, катилась и катилась все ниже и ниже, все глубже и глубже, в лесистые живописные пропасти, все дальше и дальше от перевала, вырастающего и уплывающего в небо. Здесь, в этих молчаливых горных долинах, стояла прозрачная тишина первых весенних дней, красота бледно-ясной лазури, черных голых деревьев, прошлогодних коричневых листьев, слежавшихся в кустах, первых фиалок, диких тюльпанов. Здесь еще только начинали зеленеть горные скаты, отдыхая от стужи и снега. Здесь хрустально чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весной…И казалось мне тогда, что ничего не нужно в жизни, кроме этой весны и дум о счастье.А в конце марта, будучи уже в деревне, на севере, я неожиданно получил – почтой, через Москву – телеграмму из Женевы: «Исполняя волю покойной, сообщаю вам, что она скончалась 17 сего марта. Эль-Маммуна».
https://librebook.me/malenkii_roman/vol1/1

Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса, и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост – грачевник – собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не управились, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разгадать все заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:
– Синий лапоть весь лежит под кучами грачевника.
Родионыч – в отличие от всех охотников – зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает. Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионычем стали стекаться ко мне.
Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родионыч был такой искусник, что лучше всякой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.
– Давай, – сказали мы Родионычу.
– Вылезай, синий лапоть! – крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.
Заяц не выскочил. Родионыч оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу, и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.
– Тут он, – сказал Родионыч уверенно. – Становитесь на места, ребятушки, он тут. Готовы?
– Давай! – крикнули мы.
– Вылезай, синий лапоть! – крикнул Родионыч и трижды пырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника. И вот – нет, заяц не выскочил.
Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще в жизни никогда не бывало; он даже в лице как будто немного опал. У нас же суета пошла, каждый стал по-своему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить, по снегу и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца. И вот, вижу, Родионыч вдруг просиял, сел, довольный, на пень поодаль от охотников, свертывает себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе. Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родионычу, а он мне показывает наверх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.
– Гляди, – шепчет он, – синий-то лапоть какую с нами штуку играет.
Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки – глаза беляка – и еще две маленькие точки – черные кончики длинных белых ушей. Это голова торчала из-под грачевника и повертывалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова. Стоило мне поднять ружье – и кончилась бы в одно мгновение жизнь умного зайца. Но мне стало жалко: мало ли их, глупых, лежит под кучами!..
Родионыч без слов понял меня. Он смял себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгрудились на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца. Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два, да объявится на фоне неба, – что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!
А что стало с охотниками! Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновение все схватились за ружья – убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватил, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.
– Вот синий лапоть! – восхищенно сказал ему вслед Родионыч.
Охотники еще раз успели хватить по кустам.
– Убит! – закричал один, молодой, горячий.
Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних кустах мелькнул хвостик: этот хвостик охотники почему-то всегда называют «цветком». Синий лапоть охотникам из далеких кустов только своим «цветком» помахал.
http://roslit.com/book/Siniy_lapot_Prishvin

"УЗЕЛ"
Воровство, милые мои, - это цельная и огромная наука. В наше время, сами понимаете, ничего не сопрёшь так вот, здорово живёшь. В наше время громадная фантазия требуется. Главная причина - публика очень осторожная стала. Публика такая, что завсегда стоит на страже своих интересов. Одним словом, вот как бережёт своё имущество! Пуще глаза! - Глаз, говорят, завсегда по страхкарточке восстановить можно. Имущество же никоим образом при нашей бедности не вернёшь. И это действительно верно. По этой причине вор нынче пошёл очень башковитый, с особенным умозрением и с выдающейся фантазией. Иначе ему с таким народом не прокормиться. Да вот, для примеру, нынче осенью опутали одну знакомую мою - бабку Анисью Петрову. И ведь какую бабку опутали! Эта бабка сама очень просто может любого опутать. И вот подите же -упёрли у ней узел, можно сказать, прямо из-под сижу. А уперли, конечно, с фантазией и замыслом. А сидит бабка на вокзале. Во Пскове. На собственном узле. Ожидает поезда. А поезд в 12 часов ночи ходит. Вот бабка с утра пораньше и припёрлась на вокзал. Села на собственный узел. И сидит. И нипочём не сходит. Потому пугается сходить. «Не замели бы, полагает, узел». Сидит и сидит бабка. Тут же на узле и шамает и водицу пьёт - подают ей Христа ради прохожие. А по остальным мелким делишкам - ну, мало ли - помыться или побриться - не идёт бабка, терпит. Потому узел у ней очень огромный, ни в какую дверь вместе с ней не влазит по причине размеров. А оставить, я говорю, боязно.
Так вот сидит бабка и дремлет. «Со мной, думает, вместях узел не сопрут. Не таковская я старуха. Сплю я довольно чутко - проснусь». Начала дремать наша божья старушка. Только слышит сквозь дремоту, будто кто-то её коленом пихает в морду. Раз, потом другой раз, потом третий раз. «Ишь ты, как задевают! - думает старуха.- Неаккуратно как народ ходит». Протёрла бабка свои очи, хрюкнула и вдруг видит, будто какой-то посторонний мужчина проходит мимо неё и вынимает из кармана платок. Вынимает он платок и с платком вместе нечаянно вываливает на пол зелёную трёшку. То есть ужас как обрадовалась бабка. Плюхнулась, конечное дело, вслед за трёшкой, придавила её ногой, после наклонилась незаметно, будто Господу Богу молится и просит его подать поскорей поезд. А сама, конечное дело, трёшку в лапу и обратно к своему добру. Тут, конечно, грустновато рассказывать, но когда обернулась бабка, то узла своего не нашла. А трёшка, между прочим, оказалась грубо фальшивая. И была она кинута на предмет того, чтобы бабка сошла бы со своего узла. Эту трёшку с трудом бабка продала за полтора целковых.
https://skazki.rustih.ru/mixail-zoshhenko-uzel/
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 25 Авг 2021, 22:47 | Сообщение # 43 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Константин Паустовский
«ПАМЯТЬ О ПРОБЛЕСКЕ СЧАСТЬЯ…»

Ноевский сад с давних времен славился цветоводством. Постепенно оно беднело, глохло, и к началу революции в саду осталась одна небольшая оранжерея. Но в ней все же работали какие-то пожилые женщины и старый садовник. Они скоро привыкли ко мне и даже начали разговаривать со мной о своих делах. Садовник жаловался, что сейчас цветы нужны только для похорон и торжественных заседаний. Каждый раз, когда он заговаривал об этом, одна из женщин - худая, с бледными светлыми глазами - как бы смущалась за него и говорила мне, что очень скоро они наверняка будут выращивать цветы для городских скверов и для продажи всем гражданам.
- Что бы вы ни говорили, - убеждала меня женщина, хотя я и не возражал ей, - а без цветов человеку обойтись невозможно. Вот, скажем, были, есть и будут влюбленные. А как лучше выразить свою любовь, как не цветами? Наша профессия никогда не умрет.
Иногда садовник срезал мне несколько левкоев или махровых гвоздик. Я стеснялся везти их через голодную и озабоченную Москву и потому всегда заворачивал в бумагу очень тщательно и так хитро, чтобы нельзя было догадаться, что в пакете у меня цветы. Однажды в трамвае пакет надорвался. Я не заметил этого, пока пожилая женщина в белой косынке не спросила меня:
- И где это вы сейчас достали такую прелесть?
- Осторожнее их держите, - предупредила кондукторша, - а то затолкают вас и все цветы помнут. Знаете, какой у нас народ.
- Кто это затолкает? - вызывающе спросил матрос с патронташем на поясе и тотчас же ощетинился на точильщика, пробиравшегося сквозь толпу пассажиров со своим точильным станком.
- Куда лезешь! Видишь - цветы. Растяпа!
- Гляди, какой чувствительный! - огрызнулся точильщик, но, видимо, только для того, чтобы соблюсти достоинство. — А еще флотский!
- Ты на флотских не бросайся! А то недолго и глаза тебе протереть!
- Господи, из-за цветов и то лаются! - вздохнула молодая женщина с грудным ребенком. - Мой муж, уж на что - серьезный, солидный, а принес мне в родильный дом черемуху, когда я родила вот этого, первенького.
Кто-то судорожно дышал у меня за спиной, и я услышал шепот, такой тихий, что не сразу сообразил, откуда он идет. Я оглянулся. Позади меня стояла бледная девочка лет десяти в выцветшем розовом платье и умоляюще смотрела на меня круглыми серыми, как оловянные плошки, глазами.
- Дяденька, - сказала она сипло и таинственно, - дайте цветочек! Ну, пожалуйста, дайте
.Я дал ей махровую гвоздику. Под завистливый и возмущенный говор пассажиров девочка начала отчаянно продираться к задней площадке, выскочила на ходу из вагона и исчезла.
- Совсем ошалела! - сказала кондукторша. - Дура ненормальная! Так каждый бы попросил цветок, если бы совесть ему позволяла.
Я вынул из букета и подал кондукторше вторую гвоздику. Пожилая кондукторша покраснела до слез и опустила на цветок сияющие глаза. Тотчас несколько рук молча потянулись ко мне. Я роздал весь букет и вдруг увидел в обшарпанном вагоне трамвая столько блеска в глазах, приветливых улыбок, столько восхищения, сколько не встречал, кажется, никогда ни до этого случая, ни после. Как будто в грязный этот вагон ворвалось ослепительное солнце и принесло молодость всем этим утомленным и озабоченным людям. Мне желали счастья, здоровья, самой красивой невесты и еще невесть чего. Пожилой костлявый человек в поношенной черной куртке низко наклонил стриженую голову, открыл парусиновый портфель, бережно спрятал в него цветок, и мне показалось, что на засаленный портфель упала слеза.
Я не мог этого выдержать и выскочил на ходу из трамвая. Я шел и все думал - какие, должно быть, горькие или счастливые воспоминания вызвал этот цветок у костлявого человека и как долго он скрывал в душе боль своей старости и своего молодого сердца, если не мог сдержаться и заплакал при всех. У каждого хранится на душе, как тонкий запах лип из Ноевского сада, память о проблеске счастья, заваленном потом житейским мусором..
Из книги «Повесть о жизни». Отрывок из рассказа "Зона тишины"
https://litrus.net/book/read/32260?p=14

В первый и, вероятно, последний раз за всю мою жизнь я пошел к человеку с единственной целью - поглядеть на него: до этого я всегда в интересных знакомствах и встречах полагался на милость случая. Дело, которое у меня было к самодержцу всероссийскому, не стоило ломаного гроша. Я тогда затеивал народную газету - не только беспартийную, но даже такую, в которой не было бы и намека на политику, внутреннюю и внешнюю. Горький в Петербурге сочувственно отнесся к моей мысли, но заранее предсказал неудачу. Каменев в Москве убеждал меня, для успеха дела, непременно ввести в газету полемику. «Вы можете хоть ругать нас», - сказал он весело. Но я подумал про себя: «Спасибо! Мы знаем, что в один прекрасный день эта непринужденная полемика может окончиться дискуссией на Лубянке, в здании ЧК», - и отказался от любезного совета. Я и сам переставал верить в успех моего дикого предприятия, но воспользовался им как предлогом.
Свидание состоялось необыкновенно легко. Я позвонил по телефону секретарю Ленина, г-же Фотиевой, прося узнать, когда Владимир Ильич может принять меня. Она справилась и ответила: «Завтра товарищ Ленин будет ждать вас у себя в Кремле к 9 часам утра». Надо было заручиться удостоверением личности от какой-нибудь организации. Мне его охотно дали в Комиссии по ликвидации армии Южного фронта. (Все это происходило в начале 1919 г.) С ним я и отправился утром в Кремль. За мной, как за лоцманским судном, увязался один молодой московский поэт. Он составил какой-то календарь для красноармейского солдата и в этом изданьице, между прочим, высказал замечательную сентенцию: «Красный воин не должен быть бабой». Жена Ленина, г-жа Крупская, обиделась за женский коллектив и в «Московской правде» отчитала поэта: «У автора старорежимные представления о женщинах. Те женщины, которых выдвинула в первые красные ряды великая русская революция, ничем не уступают ее самым смелым и пламенным борцам-мужчинам». Поэт испугался и шел оправдываться. Для этого он держал под мышкой целую стопку каких-то прежних брошюрок.
В проходе башни Кутафьи мы предъявили наши бумаги солдатскому караулу. Здесь нам сказали, что тов. Ленин живет в комендантском крыле, и указали вход в канцелярию. Оттуда по каменной, грязной, пахнувшей кошками лестнице мы поднялись на 3-й этаж в приемную - жалкую, пустую, полутемную, с непромытыми окнами, с деревянными скамейками по стенам, с единственным хромым столом в углу. Из большой двери, обитой черной рваной клеенкой, показалась барышня - бледнолицая, с блекло-голубыми глазами, спросила фамилию и скрылась. Надо сказать, нигде нас не обыскивали. Ждали мы недолго, минуты три. Та же клеенчатая дверь слегка приоткрылась, и из нее наполовину высунулся рослый серьезный человек в поношенном пиджаке поверх черной косоворотки. Лицо у него было какого-то жесткого, желтого, дубового вида, черные, круглые, упорные глаза без ресниц, маленькие черные усы, холодное, враждебное и лениво-уверенное спокойствие в фигуре и движениях. Подобного вида внушительных мужчин можно было видеть в качестве ночных швейцаров в самых подозрительных гостиницах на окраинах Киева, Одессы или Варшавы.
Идите, - сказал он и пропустил нас по очереди, оставляя между собой и дверью такую узкую щель, что я поневоле прикоснулся к нему. Мне кажется, будь у меня в эту минуту с собой револьвер, он сам собою, повинуясь магнитной силе этих черных глаз, выскочил бы из кармана. В эту дверь, налево. Просторный и такой же мрачный и пустой, как передняя, в темных обоях кабинет. Три черных кожаных кресла и огромный письменный стол, на котором соблюден чрезвычайный порядок. Из-за стола подымается Ленин и делает навстречу несколько шагов. У него странная походка: он так переваливается с боку на бок, как будто хромает на обе ноги; так ходят кривоногие, прирожденные всадники. В то же время во всех его движениях есть что-то «облическое», что-то крабье. Но эта наружная неуклюжесть не неприятна: такая же согласованная, ловкая неуклюжесть чувствуется в движениях некоторых зверей, например медведей и слонов.
Он маленького роста, широкоплеч и сухощав. На нем скромный темно-синий костюм, очень опрятный, но не щегольской; белый отложной мягкий воротничок, темный, узкий, длинный галстук. И весь он сразу производит впечатление телесной чистоты, свежести и, по-видимому, замечательного равновесия в сне и аппетите. Он указывает на кресло, просит садиться, спрашивает, в чем дело. Разговор наш очень краток. Я говорю, что мне известно, как ему дорого время, и поэтому не буду утруждать его чтением проспекта будущей газеты; он сам пробежит его на досуге и скажет свое мнение. Но он все-таки наскоро перебрасывает листки рукописи, низко склоняясь к ним головой. Спрашивает - какой я фракции. Никакой, начинаю дело по личному почину.
- Так! — говорит он и отодвигает листки. - Я увижусь с Каменевым и переговорю с ним.
Все это занимает минуты три-четыре. Но тут вступает поэт, который давно уже нетерпеливо двигал ногами под креслом. Я очень доволен тем, что остался в роли наблюдателя, и приглядываюсь, не давая этого чувствовать. Ни отталкивающего, ни величественного, ни глубокомысленного нет в наружности Ленина. Есть скуластость и разрез глаз вверх, но эти черточки не слишком монгольские; таких лиц очень много среди «русских американцев», расторопных выходцев из Любимовского уезда Ярославской губернии. Купол
черепа обширен и высок, но далеко не так преувеличенно, как это выходит в фотографических ракурсах. Впрочем, на фотографиях удаются правдоподобно только английские министры, опереточные дивы и лошади.
Ленин совсем лыс. Но остатки волос на висках, а также борода и усы до сих пор свидетельствуют, что в молодости он был отчаянно, огненно, красно-рыж. Об этом же говорят пурпурные родинки на его щеках, твердых, совсем молодых и таких румяных, как будто бы они только что вымыты холодной водой и крепко-накрепко вытерты. Какое великолепное здоровье! Разговаривая, он делает близко к лицу короткие, тыкающие жесты. Руки у него большие и очень неприятные: духовного выражения их мне так и не удалось поймать. Но на глаза его я засмотрелся. Другие такие глаза я увидел лишь один раз, гораздо позднее. От природы они узки; кроме того, у Ленина есть привычка щуриться, должно быть, вследствие скрываемой близорукости, и это, вместе с быстрыми взглядами исподлобья, придает им выражение минутной раскосости и, пожалуй, хитрости. Но не эта особенность меня поразила в них, а цвет их райков. Подыскивая сравнение к этому густо и ярко-оранжевому цвету, я раньше останавливался на зрелой ягоде шиповника. Но это сравнение не удовлетворяет меня. Лишь прошлым летом в парижском Зоологическом саду, увидев золото-красные глаза обезьяны-лемура, я сказал себе Удовлетворенно: «Вот, наконец-то я нашел цвет ленинских глаз!» Разница оказывалась только в том, что у лемура зрачки большие, беспокойные, а у Ленина они - точно проколы, сделанные тоненькой иголкой, и из них точно выскакивают синие искры. Голос у него приятный, слишком мужественный для маленького роста и с тем сдержанным запасом силы, который неоценим для трибуны. Реплики в разговоре всегда носят иронический, снисходительный, пренебрежительный оттенок - давняя привычка, приобретенная в бесчисленных словесных битвах. «Все, что ты скажешь, я заранее знаю и легко опровергну, как здание, возведенное из песка ребенком». Но это только манера, за нею полнейшее спокойствие, равнодушие ко всякой личности. Вот, кажется, и все.
Самого главного, конечно, не скажешь; это всегда так же трудно, как описывать словами пейзаж, мелодию, запах. Я боялся, что мой поэт никогда не кончит говорить, и поэтому встал и откланялся. Поэту пришлось последовать моему примеру. Мрачный детина опять выпустил нас в щелочку. Тут я заметил, что у него через весь лоб, вплоть до конца правой скулы, идет косой багровый рубец, отчего нижнее веко правого глаза кажется вывороченным. Я подумал: «Этот по одному знаку может, как волкодав, кинуться человеку на грудь и зубами перегрызть горло». Ночью, уже в постели, без огня, я опять обратился памятью к Ленину, с необычайной ясностью вызвал его образ и... испугался. Мне показалось, что на мгновение я как будто бы вошел в него, почувствовал себя им.
«В сущности, - подумал я, - этот человек, такой простой, вежливый и здоровый, гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Иоанна Грозного. Те, при всем своем душевном уродстве, были все-таки людьми, доступными капризам дня и колебаниям характера. Этот же - нечто вроде камня, вроде утеса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая все на своем пути. И при том - подумайте! - камень, в силу какого-то волшебства - мыслящий!. Нет у него ни чувства, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая, непобедимая мысль: падая - уничтожаю».
1921
https://www.litmir.me/br/?b=48550&p=1
Анатолий Приставкин
«ФОТОГРАФИИ»

Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было 6 лет. Чтобы она не забывала родных,раз в месяц я приводил сестренку в нашу холодную спальню, сажал на кровать и доставал конвертик с фотографиями.
- Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома. Она сильно болеет.
- Болеет...- повторяла девочка.
- А это папа наш. Он на фронте, фашистов бьет.
- Бьет...
- Вот это тетя. У нас неплохая тетя!
- А здесь?
- Здесь мы с тобой. Вот это Людочка, а это я.
И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла: "Людочка и я, Людочка и я..."
Из дому пришло письмо. Чужой рукой написано было о нашей маме. И мне захотелось бежать из детского дома куда-нибудь. Но рядом была моя сестренка. И следующий вечер мы сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели фотографии.
- Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая Людочка...
- А мама?
- Мама? Где же мама? Наверное, затерялась...Но я потом найду. Зато смотри, какая у нас тетя. У нас очень хорошая тетя.
Шли дни, месяцы.В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, покрывались пышным инеем,почтальонша принесла маленький листок. Я держал его в руках и у меня мерзли кончики пальцев. И что-то коченело в животе. Два дня я не приходил к сестренке. А потом мы сидели рядом, смотрели фотографии.
- Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас удивительная тетя! Просто замечательная тетя.. А здесь Людочка и я...
- А где же папа?
- Папа? Сейчас посмотрим.
- Затерялся, да?
- Ага. Затерялся.
И сестренка переспросила, подымая чистые испуганные глаза: - Насовсем затерялся?
Шли месяцы, годы.И вдруг нам сказали,что детей возвращают в Москву, к родителям. Нас обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать,кто у нас есть из родственников. А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги:
- Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. Мы оставляем и тебя с сестренкой.Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас принять. Она, к сожалению...
Мне зачитали ответ.
В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны,скручивались матрацы. Ребята готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались. Мы разглядывали фотографии.
- Вот Людочка. А вот и я.
- А еще?
- Еще? Смотри, и здесь Людочка. И здесь...И меня много.
Ведь нас очень много, правда?
https://rustutors.ru/argumen....zy.html

Поезд в пути уже вторую неделю, бежит через всю зимнюю снежную Россию, от океана к Уралу и дальше на Запад. В вагоне уже давно все отоспались, перезнакомились, давно перечитаны все книги, обсуждены все злобы дня, сыграны все партии в шахматы, надоел до омерзения «козел», даже чай не пьется, даже пиво почему-то кажется кислым и стоит недопитое в темных бутылках под светлыми бумажными стаканчиками. И вот как-то под вечер в одном из купе собирается мужская компания, и кто-то предлагает, чтобы каждый по очереди рассказал «самый страшный случай из своей жизни». Чего-чего, а страшного за спиной у каждого немало. Один горел в самолете, другой - в танке, третий чуть не погиб на торпедированной подводной лодке. Еще одного расстреливали, и он, с пробитым насквозь легким, трое суток пролежал под горой мертвецов.
В дверях купе стоит, слушает немолодой, маленький и худенький, как подросток, человек в форме гражданского летчика. Засунув руки в боковые карманы своей кожаной коричневой курточки, он курит толстую дорогую папиросу, перекидывает ее то и дело из одного угла рта в другой и, прижимаясь затылком к косяку двери, резко и нервно выбрасывает в потолок густую струю синею дыма. Слушает он, почти не глядя на рассказчика, но, чем дольше слушает, тем сильнее волнуется, тем чаще и глубже затягивается. Внезапно лицо его наливается кровью, он делает несколько быстрых, лихорадочных затяжек, торопливо и даже судорожно запихивает папиросу в набитый окурками металлический ящичек на стене и, повернувшись к рассказчику, перебивает его:
- Ст-той! П-погоди! Д-дай мне!.
Губы его прыгают. Лицо дергается. Он - заика, каждое слово выталкивается из него, как пробка из бутылки.
- С-самое ст-трашное? - говорит он и кривит губы, делает попытку изобразить ироническую усмешку. - Самое страшное, да? Т-тонули, говоришь? Г-горели? С м-мертвецами лежали? Я т-тоже т-тонул. Я тоже г-горел. И с покойниками в об-б-бнимочку лежал. А в-вот с-самое ст-трашное - это когда я в 42 году письмо получил из Ленинграда - от сынишки… д-д-десятилетнего: «П-п-папочка, - пишет, - ты нас п-прости с Анюткой… м-мы в-вчера т-т-в-вои к-кожаные п-перчатки св-варили и с-с-съели»…
https://nukadeti.ru/rasskazy/kozhanye-perchatki
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 20 Дек 2021, 18:42 | Сообщение # 44 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
Несмотря на ясный июльский день и сенной запах со скошенного луга, я, принимая хинин, боялся обедать в цветнике под елками, - и накрыли в столовой. Кроме 3-х человек небольшой семьи за столом сидел молодой мой приятель Иванов, страстный любитель цветов и растений, да очень молодая гостья. Еще утром, проходя чрез биллиардную, я заметил, что единственный бутон белого кактуса (cactus grandiflora), цветущего раз в год, готовится к расцвету.
- Сегодня в 6 часов вечера, - сказал я домашним, - наш кактус начнет распускаться. Если мы хотим наблюдать за его расцветом, кончающимся увяданием пополуночи, то надо его снести в столовую.
При конце обеда часы стали звонко выбивать 6, и, словно вторя дрожанию колокольчика, золотистые концы наружных лепестков бутона начали тоже вздрагивать, привлекая наше внимание.
- Как вы хорошо сделали, - умеряя свой голос, словно боясь запугать распускающийся цветок, сказал Иванов, - что послушались меня и убрали бедного индийца подальше от рук садовника. Он бы и его залил, как залил его старого отца. Он не может помириться с мыслию, чтобы растение могло жить без усердной поливки.
Пока пили кофе, золотистые лепестки настолько раздвинулись, что позволяли видеть посреди своего венца нижние края белоснежной туники, словно сотканной руками фей для своей царицы.
- Верно, он вполне распустится еще не скоро? - спросила молодая девушка, не обращаясь ни к кому особенно с вопросом.
- Да, пожалуй, не раньше как к 7 часам, - ответил я.
- Значит, я успею еще побренчать на фортепьяно, - прибавила девушка и ушла в гостиную к роялю.
- Хотя и близкое к закату, солнце все-таки мешает цветку, - заметил Иванов. - Позвольте я ему помогу, - прибавил он, задвигая белую занавеску окна, у которого стоял цветок.
Скоро раздались цыганские мелодии, которых власть надо мною всесильна. Внимание всех было обращено на кактус. Его золотистые лепестки, вздрагивая то там, то сям, начинали принимать вид лучей, в центре которых белая туника все шире раздвигала свои складки. В комнате послышался запах ванили. Кактус завладевал нашим вниманием, словно вынуждая нас участвовать в своем безмолвном торжестве; а цыганские песни капризными вздохами врывались в нашу тишину.
Боже! Думалось мне, какая томительная жажда беззаветной преданности, беспредельной ласки слышится в этих тоскующих напевах. Тоска вообще чувство мучительное: почему же именно эта тоска дышит таким счастьем? Эти звуки не приносят ни представлений, ни понятий; на их трепетных крыльях несутся живые идеи. И что, по правде, дают нам наши представления и понятия? Одну враждебную погоню за неуловимою истиной. Разве самое твердое астрономическое понятие о неизменности лунного диаметра может заставить меня не видать, что луна разрослась на востоке? Разве философия, убеждая меня, что мир только зло, или только добро, или ни то ни другое, властна заставить меня не содрогаться от прикосновения безвредного, но гадкого насекомого или пресмыкающегося или не слыхать этих зовущих звуков и этого нежного аромата? Кто жаждет истины, ищи ее у художников. Поэт говорит:
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.
Другой высказывает то же словами:
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Этому по крайней мере верили в 40-х годах. Эти верования были общим достоянием. Поэт тогда не мог говорить другого, и цыгане не могли идти тем путем, на который сошли теперь. И они верили в красоту и потому ее и знали. Но ведь красота-то вечна. Чувство ее - наше прирожденное качество. Цыганские напевы смолкли, и крышка рояля тихонько стукнула.
- Софья Петровна, - позвал Иванов молодую девушку, - вы кончили как раз вовремя. Кактус в своем апофеозе. Идите, это вы нескоро увидите.
Девушка подошла и стала рядом с Ивановым, присевшим против кактуса на стул, чтобы лучше разглядеть красоту цветка.
- Посмотрите, какая роскошь тканей! Какая девственная чистота и свежесть! А эти тычинки? Это папское кропило, концы которого напоены золотым раствором. Теперь загляните туда, в глубину таинственного фиала. Глаз не различает конца этого не то светло-голубого, не то светло-зеленого грота. Ведь это волшебный водяной грот острова Капри. Поневоле веришь средневековым феям. Эта волшебная пещера создана для них!
- Очень похоже на подсолнух, - сказала девушка и отошла к нашему столу.
- Что вы говорите, Софья Петровна! - с ужасом воскликнул Иванов; - в чем же вы находите сходство? Разве в том только, что и то и другое - растение, да что и то и другое окаймлено желтыми лепестками. Но и между последними кричащее несходство. У подсолнуха они короткие, эллиптические и мягкие, а здесь, видите ли, какая лучистая звезда, словно кованная из золота. Да сам-то цветок? Ведь это храм любви!
- А что такое, по-вашему, любовь? - спросила девушка.
- Понимаю, - ответил Иванов. - Я видел на вашем столике философские книжки или по крайней мере желающие быть такими. И вот вы меня экзаменуете. Не стесняясь никакими в мире книжками, скажу вам: любовь - это самый непроизвольный, а потому самый искренний и обширный диапазон жизненных сил индивидуума, начиная от вас и до этого прелестного кактуса, который теперь в этом диапазоне.
- Говорите определеннее, я вас не понимаю.
- Не капризничайте. Что сказал бы ваш учитель музыки, услыхав эти слова? Вы, может быть, хотите сказать, что мое определение говорит о качествах вещи, а не об ее существе. Но я не мастер на определения и знаю, что они бывают двух родов: отрицательные, которые, собственно, ничего не говорят, и положительные, но до того общие, что если и говорят что-либо, так совершенно неинтересное. Позвольте же мне на этот раз остаться при своем, хотя и одностороннем, зато высказывающем мое мнение…
- Ведь вы хотите, - прервала девушка, - объяснить мне, что такое любовь, и приводите музыкальный термин, не имеющий, по-моему, ничего общего с объясняемым предметом.
Я не выдержал.
- Позвольте мне вступиться за своего приятеля. Напрасно вы проводите такую резкую черту между чувством любви и чувством эстетическим, хоть бы музыкальным. Если искусство вообще недалеко от любви (эроса), то музыка, как самое между искусствами непосредственное, к ней всех ближе. Я бы мог привести собственный пример. Сейчас, когда вы наигрывали мои любимые цыганские напевы, я под двойным влиянием музыки и цветка, взалкавшего любви, унесся в свою юность, во дни поэзии и любви. Но чтоб еще нагляднее оправдать слова моего приятеля, я готов рассказать небольшой эпизод, если у вас хватит терпения меня выслушать.
- Хватит, хватит. Сделайте милость расскажите, - торопливо проговорила девушка, присаживаясь к столу со своим вязанием.
- Ровно 25 лет тому назад я служил в гвардии и проживал в отпуску в Москве, на Басманной. В Москве встретился я со старым товарищем и однокашником Аполлоном Григорьевым. Никто не мог знать Григорьева ближе, чем я, знавший его чуть не с отрочества. Это была природа в высшей степени талантливая, искренно преданная тому, что в данную минуту он считал истиной, и художественно-чуткая. Но, к сожалению, он не был, по выражению Дюма-сына, из числа людей знающих (des hommes qui savent) в нравственном смысле. Вечно в поисках нового во всем, он постоянно менял убеждения. Это они называют развитием, забывая слово Соломона, что это уже было прежде нас. По крайней мере он был настолько умен, что не сетовал на то, что ни на каком поприще не мог пустить корней, и говаривал, что ему не суждено просперировать. В означенный период он был славянофилом и носил не существующий в народе кучерской костюм. Несмотря на палящий зной, он чуть не ежедневно являлся ко мне на Басманную из своего отцовского дома на Полянке. Это огромное расстояние он неизменно проходил пешком и вдобавок с гитарой в руках. Смолоду он учился музыке у Фильда и хорошо играл на фортепьяно, но, став страстным цыганистом, променял рояль на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни. К вечернему чаю ко мне нередко собирались 2-3 приятеля-энтузиаста, и у нас завязывалась оживленная беседа. Входил Аполлон с гитарой и садился за нескончаемый самовар. Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностию и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пиесы.
- Спойте, Аполлон Александрович, что-нибудь!
- Спой в самом деле! - И он не заставлял себя упрашивать. Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару. Репертуар его был разнообразен, но любимою его песней была венгерка, перемежавшаяся припевом:
Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!
Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви, красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет:
Под горой-то ольха,
На горе-то вишня;
Любил барин цыганочку, -
Она замуж вышла.
Однажды вечером, сидя у меня один за чайным столом, он пустился в эстетические тонкости вообще и в похвалы цыган в особенности.
- Да, - сказал я, - цыганской песни никто не споет, как они.
- А почему? - подхватил Григорьев, - они прирожденные, кровные, а не вымуштрованные музыканты. Да и положение их примадонн часто споспешествует делу. Любовь для певца та же музыка.
Эх, брат! - вскрикнул он вдруг, вытирая лоб пестрым платком, - надо показать тебе чудо. Ты знаешь, я часто таскаюсь в Грузины в хор Ивана Васильева. Он мой приятель и отличный человек. Там у них есть цыганочка Стеша. Ты ее не знаешь? Не заметил?
- Где же мне ее было заметить? Я почти нигде не бываю.
- Ну, так надо тебе ее увидать. Во-первых, она - прелесть. Какие глаза и ресницы и, я знаю твою страсть к волосам, какие волосы? Но этого мало. Надо, чтобы ты ее услыхал с глазу на глаз. Бедняжка влюблена в одного гусара. Я его видел. Действительно красавец, каналья. А ты знаешь, как хор ревниво бережет своих примадонн. Тут брат, идиллиями не возьмешь. Выкупи! - а на это мало охотников. Уж не знаю, как они там путаются. Но, видно, дело не выгорает, а девочка-то врезалась. После обеда хор-то разойдется отдыхать, а она возьмет гитару да сядет под окошечко, словно кого поджидает. Запоет, и слезы градом. Тут нередко Иван Васильев подойдет и вполголоса ей вторит. Жалко, что ли, ему ее станет, или уж очень забористо она поет, только, поглядишь, он тут как тут. Вот как бы тебя подвести под эту штуку, ты бы узнал, как поют. Поэзия — да и только! Да вот, чем: откладывать, я завтра к тебе приду в двенадцать часов, а в час мы поедем. Ведь ваша братия, кавалеристы, плохие ходоки.
- Да как же, любезный друг, я-то вотрусь? Ведь она при мне ж петь не станет.
- Ну, это я как-нибудь оборудую. Едем, что ль?
- Хорошо, приходи.
На другой день хотел было я велеть запрячь свою скромную пролетку, но подумал: Григорьев без гитары не придет. Убеждать его - дело напрасное. А куда я в мундире поеду через всю Москву с каким-то не то кучером, не то торбанистом, что подумает плац-адъютант? Я велел нанять извозчичью карету. В 12 часов вошел Григорьев с гитарой, в поддевке, в плисовых шароварах в сапоги, словом, по всей форме.
- Что ж это мы в карете? - спросил он.
Я сослался на зубную боль, которою, в добрый час молвить, во всю жизнь не страдал. Однако он догадался, и начались препирания.Тем не менее мы доехали до Грузин и бросили карету невдалеке от цыган. Григорьев быстро зашагал звонить, а я подоспел вовремя, когда дверь отворили. В передней уже слышалось бряцание гитары и два голоса.
- Это она, - шепнул Григорьев, и вошел в залу. Я за ним.
- Здравствуйте, Стеша! - сказал он, протягивая руку сидящей у окна девушке с гитарой.
- Здравствуй, Иван Васильевич! Продолжайте, я вам не помеха.
Но девушка, ответив на его рукожатие, бросила недоверчивый взгляд в мою сторону и, положа гитару на стол, быстро пошла к двери, ведущей во внутренние покои. Григорьев так же быстро заступил ей дорогу и схватил ее за рукав.
- Куда вы? Что за вздор? Ну, не хотите петь, не пойте. Что ж из себя дикую птицу корчить? Для кого? Иван Васильевич, да уговори ее посидеть с нами! Я пришел ее, дорогую, проведать, а она вон. Ну, садитесь, садитесь, моя хорошая, - говорил он, подводя ее на прежнее место.
Начался разговор про разные семейные отношения членов хора, в продолжение которого Григорьев, между речами, под сурдинкой наигрывал разные мотивы. В течение всей этой сцены я, чтобы скрыть свое неловкое положение, пристально рассматривал в окно упряжку стоявшего по другую сторону улицы извозчика, словно собирался ее купить.
- Присядьте, - сказал мне подошедший Иван Васильев. Я сел.
- Ты об нем не беспокойся,- сказал Григорьев, - он; братец, не по нашей музыкальной части. Его дело- лошади. Он, пока мы поболтаем, пусть себе посидит да покурит.
Я махнул отчаянно рукой снова обернул голову к окну изучать извозчика. Между тем Григорьев, наигрывая все громче и громче, стал подпевать. Мало-помалу сам он входил в пассию, а как дошел до своей любимой:
Под горой-то ольха,
На горе-то вишня;
Любил барин цыганочку -
Она замуж вышла -
очевидно, забыл и цель нашего посещения и до того загорелся пением, что невольно увлекал и других. Когда он хлестко запел:
В село красно стеганула.
Эх - стеганула,
Моя дорогая -
ему уже вторил бархатный баритон Ивана Васильева.
Вскоре, сперва слабо, а затем все смелее, стад проникать в пение серебряный сопрано Стеши.
- Эх, господи! Да что же я тут вам мешаю,- воскликнул Григорьев. - Мне так не сыграть, а не то чтобы спеть. Голубушка Стеша, спойте что-нибудь, - прибавил он, подавая ей ее гитару.
Она уже без возражений запела, поддерживаемая по временам Иваном Васильевым. Слегка откинув свою оригинальную, детски задумчивую головку на действительно тяжеловесную с отливом воронова крыла косу, она вся унеслась в свои песни. Уверенный, что теперь она не обратит на меня ни малейшего внимания, я придвинул свой стул настолько, что мог видеть ее почти в профиль, тогда как до сих пор мог любоваться только ее затылком. Когда она запела:
Вспомни, вспомни, мой любезный,
Нашу прежнюю любовь -
чуть заметная слезинка сверкнула на ее темной реснице. Сколько неги, сколько грусти и красоты было в ее пении! Но вот она взяла несколько аккордов и запела песню, которую я только в первой молодости слыхивал у московских цыган, так как современные петь ее не решались. Песня эта, не выносящая посредственной певицы, известная: «Слышишь ли, разумеешь ли». Стеша не только запела ее мастерски, но и расположила куплеты так, что только с тех пор самая песня стала для меня понятна, как высокий образчик народной поэзии. Она спела так:
Ах ты злодей, ты злодей,
Добрый молодец.
Во моем ли саду
Соловей поет,
Громко свищет.
Слышишь ли,
Мой сердечный друг?
Разумеешь ли,
Жизнь, душа моя?
Песня исполнена всевозможных переливов, управляемых минутным вдохновением. Я жадно смотрел на ее лицо, отражавшее всю охватившую ее страсть. При последних стихах слезы градом побежали по ее щеке. Я не выдержал, вскочил со стула, закричал: браво! браво! и в ту же минуту опомнился. Но уже было поздно. Стеша, как испуганная птичка, упорхнула.
- Что же вы на это скажете, скептическая девица? Разве эта Стеша не любила? Разве она могла бы так петь, не любя? Стало быть, любовь и музыка не так далеки друг от друга, как вам угодно было утверждать?
- Да, конечно, в известных случаях.
- О скептический дух противоречия! Да ведь все на свете, даже химические явления, происходят только в известных случаях. Однако вы льете воды и вам надо рано вставать. Не пора ли нам на покой?
Когда стали расходиться, кактус и при лампе все еще сиял во всей красе, распространяя сладостный запах ванили. Иванов еще раз подсел к нему полюбоваться, надышаться, и вдруг, обращаясь ко мне, сказал:
- Знаете, не срезать ли его теперь в этом виде и не поставить ли в воду? Может быть, тогда он проживет до утра?
- Не поможет, - сказал я. - Ведь все равно ему умирать. Так ли, сяк ли.
- Действительно.
Цветок был срезан и поставлен в стакан с водой. Мы распрощались. Когда утром мы собрались к кофею, на краю стакана лежал бездушный труп вчерашнего красавца кактуса...
https://skazki.rustih.ru/afanasij-fet-kaktus/

(Рассказ, посвященный сестре Катюше)
Жил на краю деревни старый Бобыль. Была у Бобыля своя хата и собака. Ходил он по миру, сбирал куски хлеба, так и кормился. Никогда Бобыль не расставался с своей собакой, и была у нее ласковая кличка Дружок. Пойдет Бобыль по деревне, стучит под окнами, а Дружок стоит рядом, хвостом виляет. Словно ждет свою подачку. Скажут Бобылю люди: "Ты бы бросил, Бобыль, свою собаку, самому ведь кормиться нечем..." Взглянет Бобыль своими грустными глазами, взглянет - ничего не скажет. Кликнет своего Дружка, отойдет от окна и не возьмет краюшку хлеба. Угрюмый был Бобыль, редко с кем разговаривал.
Настанет зима, подует сердитая вьюга, заметет поземка, надует большие сугробы. Ходит Бобыль по сугробам, упирается палкой, пробирается от двора ко двору, и Дружок тут бежит рядом. Прижимается он к Бобылю, заглядывает ласково ему в лицо и словно хочет вымолвить: "Никому мы с тобою не нужны, никто нас не пригреет, одни мы с тобою". Взглянет Бобыль на собаку, взглянет, и словно разгадает ее думы; и тихо-тихо скажет:- Уж ты-то, Дружок, меня, старика, не покинь.
Шагает Бобыль с собакой, доплетется до своей хаты, хата старая, нетоплена. Посмотрит он по запечке, посмотрит, по углам пошарит, а дров - ни полена. Глянет Бобыль на Дружка, а тот стоит, дожидается, что скажет хозяин. Скажет Бобыль с нежной лаской:- Запрягу я, Дружок, тебя в салазки, поедем мы с тобой к лесу, наберем там мы сучьев и палок, привезем, хату затопим, будем греться с тобой у лежанки.
Запряжет Бобыль Дружка в салазки, привезет сучьев и палок, затопит лежанку, обнимет Дружка, приголубит. Задумается Бобыль у лежанки, начнет вспоминать прожитое. Расскажет старик Дружку о своей жизни, расскажет о ней грустную сказку, доскажет и с болью молвит:- Ничего ты, Дружок, не ответишь, не вымолвишь слова, но глаза твои серые, умные... знаю, знаю... ты все понимаешь...
Устала плакать вьюга. Реже стали метели, зазвенела капель с крыши. Тают снега, убывают. Видит Бобыль - зима сходит, видит - и с Дружком беседует:- Заживем мы, Дружок, с весною.
Заиграло красное солнышко, побежали ручьи-колокольчики. Смотрит Бобыль из окошка, под окном уж земля зачернела. Набухли на деревьях почки, так и пахнут весною. Только годы Бобыля обманули, только слякоть весенняя старика подловила. Стали ноги его подкашиваться, кашель грудь задавил, поясница болит-ломит, и глаза уж совсем помутнели. Стаял снег. Обсушилась земля. Под окошком ветла распустилася. Только реже старик выходил из хаты. Лежит он на полатях, слезть не может. Слезет Бобыль через силу, - слезет, закашляется, загрустит, Дружку скажет:- Рано, Дружок, мы с тобою тогда загадали. Скоро уж, видно, смерть моя, только помирать - оставлять тебя неохота.
Заболел Бобыль, не встает, не слезает, а Дружок от полатей не отходит, чует старик - смерть подходит, - чует, Дружка обнимает, - обнимает, сам горько плачет:- На кого я, Дружок, тебя покину. Люди нам все чужие. Жили мы с тобой... всю жизнь прожили, а смерть нас разлучает. Прощай, Дружок, мой милый, чую, что смерть моя близко, дыханье в груди остывает. Прощай... да ходи на могилу, поминай своего старого друга!..
Обнял Бобыль Дружка за шею, крепко прижал его к сердцу, вздрогнул - и душа отлетела. Мертвый Бобыль лежит на полатях. Понял Дружок, что хозяин его умер. Ходит Дружок из угла в угол, - ходит, тоскует. Подойдет Дружок, мертвеца обнюхает, - обнюхает, жалобно завоет. Стали люди промеж себя разговаривать: почему это Бобыль не выходит. Сговорились, пришли - увидали, увидали - назад отшатнулись. Мертвый Бобыль лежит на полатях, в хате запах могильный - смрадный. На полатях сидит собака, сидит - пригорюнилась. Взяли люди мертвеца, убрали, обмыли, - в гроб положили, а собака от мертвого не отходит. Понесли мертвого в церковь, Дружок идет рядом. Гонят собаку от церкви, гонят - в храм не пускают. Рвется Дружок, мечется на церковной паперти, завывает, от горя и голода на ногах шатается
Принесли мертвого на кладбище, принесли - в землю зарыли. Умер Бобыль никому не нужный, и никто по нем не заплакал. Воет Дружок над могилой, воет, - лапами землю копает. Хочет Дружок отрыть своего старого друга, отрыть - и с ним лечь рядом. Не сходит собака с могилы, не ест, тоскует. Силы Дружка ослабели, не встает он и встать не может. Смотрит Дружок на могилу, смотрит, жалобно стонет. Хочет Дружок копать землю, только лапы свои не поднимает. Сердце у Дружка сжалось... дрожь по спине пробежала, опустил Дружок голову, опустил, тихо вздрогнул... и умер Дружок на могиле...
Зашептались на могиле цветочки, нашептали они чудную сказку о дружбе птичкам. Прилетала к могиле кукушка, садилась она на плакучую березу. Сидела кукушка, грустила, жалобно над могилой куковала.
1917
http://poesias.ru/proza/esenin-sergej/esenin1000.shtml

Рождество, много снегу, ясные морозные дни, извозчики ездят резво, вызывающе, с двух часов на катке в городском саду играет военная музыка. Верстах в трех от города старая сосновая роща. Смеясь, переговариваясь, идут к ней по снежному полю, суют ногами в длинных шведских лыжах, держа в правой руке длинные тонкие палки с колесиками на конце, лицеист, гимназистка, высокий и полный богатый молодой человек, кадет и курсистка в пенсне, очень близорукая, неловкая и очень обидчивая. Она одна молчит, идет старательнее и хуже всех. Все одеты так, как ходят на каток. Одна она в настоящем лыжном костюме, в белой шерстяной вязанке и такой же шапочке. Роща близится, становится живописнее, величественнее, чернее и зеленее. Над нею уже стоит прозрачно-бледная круглая луна, Справа чистое солнце почти касается вдали золотисто-блестящей снежной равнины с чуть заметным зеленоватым тоном. Курсистка впереди всех, - порой спотыкаясь и роняя пенсне, она первая входит в рощу, в длинную снежную просеку среди мачтовых сосен. Живой, смуглый, широконосый кадет, не отставая от нее ни на шаг, все подсмеивается над ней, все острит. Она каждый раз зло и находчиво отвечает ему, старательно делая свое дело. Однако между ними что-то есть.
В роще вечереет, морозит, высокое небо над просекой холодеет и синеет; далеко впереди, за поляной, верхушки нескольких сосен, особенно высоких, краснеют. В роще еще слаще чувствовать себя молодым, праздничным, все время близким к какому-то счастью дышать этим зимним эфирным воздухом. Лицеист ждет счастья напряженнее всех, двигаясь все время рядом с гимназисткой. Спокойнее прочих богатый молодой человек с его необыкновенно нежным цветом лица и пятнистым румянцем. На поляне останавливаются, отдыхая и говоря все разом, мужчины курят, испытывая от табаку особенное наслаждение. У всех блестящие глаза, легкий иней на ресницах.
- Теперь куда?
- Конечно, вниз, на реку!
- А вон, господа, еще лыжники!
- Кто это? Неужели Ильины? Вот приятная встреча!
Пролеты высоких аллей расходятся от поляны во все стороны. В той, что ведет прямо к реке, приближаются мужчина и женщина. Слышен звонкий женский смех, кажущийся притворным.
- Кто это? - спрашивает гимназистка лицеиста.
- Вы лучше меня видите.
- Ваши партнеры по любительскому спектаклю. Залесская с Потемкиным.
- Ах, я не хочу встречаться с ними. Я ее терпеть не могу. Уйдем куда-нибудь. Встретимся с нашими на лугу.
- Слушаю-с, Господа, мы вам пока откланиваемся. До скорого свидания на реке.
- Это почему? - спрашивает кадет, нелепо выкатывая глаза. - Что сей внезапный сон значит?
- Нам пора отношения выяснить, - отвечает гимназистка, смеясь. - Au revoir*, господа. Можете нам завидовать.
И, взявшись за руки, лицеист и гимназистка едут в просеку направо. Их провожают напутственными криками, шутками. У лицеиста крепко бьется сердце. Он чувствует, что она под видом шутки, с той спокойной и удивительной смелостью, на которую способны только женщины, сказала правду. Он знает, что за эти праздничные дни все сказано без слов между ним и ею, что они ждут только момента и решительности осуществить это сказанное без слов. И вот этот момент внезапно настал. Однако она идет и молчит, и его волнение увеличивается сомнением, не ошибается ли он. Она молчит, она спокойно и как ни в чем не бывало двигает лыжами. От волнения молчит и он или же говорит что-нибудь явно ненужное.
- Хотите идти слева? Тут глубже снег...
- Нет, спасибо, мне очень хорошо...
И они опять молча суют лыжи, слегка наклоняясь вперед. Снег вокруг, среди сосновых розоватых стволов, становится все глубже, белее, сосны все оснеженнее. Вечер мягко меняет краски, все больше сливаясь с воцаряющейся лунной ночью.
- Ох, я, кажется, устала! - говорит она наконец, поворачивая к нему раскрасневшееся лицо и слегка улыбаясь. - Куда мы идем? Мы заблудимся...
У него еще больше замирает сердце, но он отвечает, стараясь говорить как можно обыденнее:
- Еще немного. Скоро опять поляна и скамейка, - разве вы не помните? Вы потише, поровнее. Вот так: раз, раз... раз, раз...
На поляне, возле скамейки, утонувшей в снегу, он отпускает ее руку и, только отпустив, чувствует, какое это было наслаждение держать ее, как будто сосредоточившую в себе всю прелесть всего ее женского существа. Он утаптывает снег возле скамейки, срезает лыжей снежную подушку с нее, смахивает платком сухие остатки снега. Она садится и на минуту блаженно закрывает глаза.
- Как хорошо. Какая тишина. Какие это птицы?
По кустам можжевельника перелетают толстые, зобастые, с красными грудками снегири.
- Это снегири.
- Как они красивы!
- Хотите, убью одного?
И он вынимает из кармана маленький револьвер.
- Нет, не надо, - говорит она с нерешительной улыбкой.
Толстый снегирь перелетает ближе.
- Видите, он сам идет навстречу смерти. Так я стреляю.
- Нет, нет, не надо.
- Вы боитесь?
- Нет, но не хочу...
Она слабо махает рукой на снегиря, но снегирь перелетает еще ближе. И тотчас же, как хлопнувший кнут, раздается выстрел, от которого она быстро закрывает глаза и затыкает уши. Снегиря на кусте уже нет. Промах, конечно? Подняв глаза кверху, они видят, что луна среди верхушек сосен уже в сиянии и возле нее вьется серебристый ястребок, которого откуда-то спугнул выстрел. Потом смотрят в кусты. Снегирь взъерошенным комочком лежит на снегу.
- Это совершенно неправдоподобно! - восклицает лицеист, кидаясь к нему. - Из револьвера и вдруг попасть!
И еще напряженнее чувствует, что время идет, а они оба говорят и делают совсем не то, что надо.
- И вам не жаль? - спрашивает она, разглядывая еще теплого снегиря.
- Увы, ничуть! - шутливо выговаривает он с трудом, стукнув от внутренней дрожи зубами при взгляде на ее губы, мех вокруг шеи, маленькие ботинки в снегу.
- Вы запачкали кровью руку...
Она кладет снегиря на скамейку и поднимает на него глаза, которые кажутся вопросительными и ждущими.
- Дайте вытру снегом...
Она протягивает руку. Он вытирает, замирая от нестерпимого желания целовать, кусать ее.
Вечера уже почти нет. Луна между соснами уже зеркальная. В легкой тени от верхушек сосен снег принял цвет золы, а на местах освещенных искрится.
- Однако что же это мы? - говорит она, вдруг поднимаясь. - Мы рискуем не найти их. Идемте скорее!
И опять они берутся за руки и поспешно двигают лыжами. Проходит пять, десять минут...
- Постойте! Мы, кажется, совсем не туда идем! Где мы? Опять какая-то поляна...
- Нет, верно, - говорит лицеист. - Видите - поляна покатая, это уже спуск к реке. Мы незаметно все время забирали влево.
Но она стоит, растерянно оглядываясь. Поляна глухая, в глубоком снегу. Над головою уже совсем по-ночному блещет луна, тени меж сосен черны, четки, на краю поляны тонет в сугробах черная изба без окон, снежная, пухлая крыша ее вся играет белыми и синими бриллиантами. Тишина мертвая.
- Вы куда-то завели меня, - говорит она негромко, уже с неподдельным страхом. - Идем назад.
Но он странно смотрит на нее и тянет ее за руку вперед.
- Давайте только заглянем в эту избу. На одну минуту...
Она делает несколько шагов, но возле избы решительно противится, останавливается и отнимает у него руку. Он, бросив лыжи, идет по твердому сугробу к раскрытой двери и, наклоняясь, скрывается в ее темноте. Через минуту раздается из избы его голос:
- Как здесь хорошо! Загляните хоть в окно! Неужели вы боитесь?
- Нет, но не хочу. Где вы? Пойдемте, поздно.
- Как красив здесь лунный свет! Это что-то сказочное!
- Если вы не выйдете, я уйду одна...
И, скрипя по морозному снегу, она подходит к окну, заглядывает в него:
- Где вы там?
И вдруг ее ослепляет таким дивным, таким страшным и райски прекрасным зеленым светом от прорезавшего все небо и разорвавшегося метеора, что она вскрикивает и в ужасе бросается в дверь избы. Через полчаса они снова выходят на залитую луною поляну и уже до самой реки не могут произнести ни слова.
Париж. 27 декабря. 1920
http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1950.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 16 Июн 2022, 23:10 | Сообщение # 45 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лахматов, сидел у себя за столом и, выпивая 16-ю рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него чёрт. Но не пугайтесь, читательница. Вы знаете, что такое чёрт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, рожки. Прическа à la Капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой. Вместо пальцев - когти, вместо ног - лошадиные копыта. Лахматов, увидев чёрта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, скоро успокоился.
- С кем я имею честь говорить? - обратился он к непрошенному гостю.
Чёрт сконфузился и потупил глазки.
- Вы не стесняйтесь, - продолжал Лахматов. - Подойдите ближе... Я человек без предрассудков, и вы можете говорить со мной искренно, по душе... Кто вы?
Чёрт нерешительно подошел к Лахматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился.
- Я чёрт, или дьявол - отрекомендовался он. - Состою чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии г. Сатаны!
- Слышал, слышал. Очень приятно. Садитесь! Не хотите ли водки? Очень рад... А чем вы занимаетесь?
Чёрт еще больше сконфузился...
- Собственно говоря, занятий у меня определенных нет... - ответил он, в смущении кашляя и сморкаясь в «Ребус». - Прежде, действительно, у нас было занятие. Мы людей искушали, совращали их с пути добра на стезю зла. Теперь же это занятие, антр-ну-суади (между нами будь сказано (франц.), и плевка не стоит. Пути добра нет уже, не с чего совращать. И к тому же люди стали хитрее нас. Извольте-ка вы искусить человека, когда он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел! Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уже без моей помощи тысячи цапнули?
- Это так. Но, однако, ведь вы занимаетесь же чем-нибудь?
- Да. Прежняя должность наша теперь может быть только поминальной, но мы все-таки имеем работу. Искушаем классных дам, подталкиваем юнцов стихи писать, заставляем пьяных купцов бить зеркала. В политику же, в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. Ни рожна мы в этом не смыслим. Многие из нас сотрудничают в «Ребусе», есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди. Эти отставные черти, поступившие в люди, женились на богатых купчихах и отлично теперь живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты, вообще очень дельные и уважаемые люди!
- Извините за нескромный вопрос: какое содержание вы получаете?
- Положение у нас прежнее-с... - ответил чёрт. - Штат нисколько не изменился. По-прежнему квартира, освещение и отопление казенные. Жалованья же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными и потому что чёрт - должность почетная. Вообще, откровенно говоря, плохо живется, хоть по миру иди. Спасибо людям, научили нас взятки брать, а то бы давно уже мы переколели. Только и живем доходами. Поставляешь грешникам провизию, ну и хапнешь. Сатана постарел, ездит всё на Цукки смотреть, не до отчетности ему теперь.
Лахматов налил чёрту рюмку водки. Тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал и так понравился Лахматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Чёрт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез.
https://ilibrary.ru/text/1138/p.1/index.html
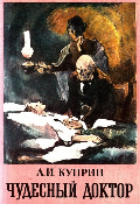
Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около 30 тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я с своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.
- Гриш, а Гриш! Гляди-ка поросенок-то... Смеется... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!
И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более 5 мин. торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала. Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, - поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.
Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:
- Ну, Володя, идем, идем. Нечего тут...
Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только 10 лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки. Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу. По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам - все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры...
Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его - собственно подвал - был каменный, а верх - деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили ее. Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс - настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет 7; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, - женщина обернула назад свое встревоженное лицо.
- Ну? Что же? - спросила она отрывисто и нетерпеливо.
Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.
- Отнесли вы письмо? Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?
- Отдал, - сиплым от мороза голосом ответил Гриша.
- Ну, и что же? Что ты ему сказал?
- Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»
- Да кто же это? Кто же с вами разговаривал? Говори толком, Гриша!
- Швейцар разговаривал. Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман. Есть тоже у барина время ваши письма читать...»
- Ну, а ты?
- Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего. Матушка больна, помирает...» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.
- А меня он по затылку, - сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.
Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив, наконец, оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:
- Вот оно, письмо-то...
Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовой крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:
- Там борщ есть, от обеда остался. Может, поели бы? Только холодный, - разогреть-то нечем...
В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика - все трое даже побледнев от напряженного ожидания - обернулись в эту сторону. Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.
В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на 25 руб. в месяц, занято уже другим. Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.
Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов. Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег. Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца. Минут 10 никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.
- Куда ты? - тревожно спросила Елизавета Ивановна. Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.
- Все равно, сидением ничего не поможешь, - хрипло ответил он. - Пойду еще. Хоть милостыню попробую просить. Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня 2 раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй- его обещали отправить в полицию. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость.
Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, спустился на низкую садовую скамейку. Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины. «Вот лечь бы и заснуть, - думал он, - и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного. «Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухавшей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:
- Вы позволите здесь присесть?
Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут 5 прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.
- Ночка-то какая славная, - заговорил вдруг незнакомец. - Морозно... тихо. Что за прелесть - русская зима!
Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.
- А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, - продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). - Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.
Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:
- Подарочки! Подарочки!. Знакомым ребятишкам подарочки!. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают. Подарочки!. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел. Подарочки!
Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:
- Подождите, не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.
В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.
- Едемте! - сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. - Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедемте!
Минут через 10 Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.
- Ну, полно, полно, голубушка, - заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. - Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.
И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через 2 минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом. Немного погодя явился и Мерцалов. На 3 руб., полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:
- Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку. Давайте через 2 часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание. Продолжайте согревающий компресс. Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное - не падайте никогда духом.
Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним. Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:
- Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!
И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:
- Э! Вот еще пустяки выдумали! Возвращайтесь-ка домой скорей!
Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».
Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Г.Е. Мерцалова - того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:
- С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, матушка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор - это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо.
https://ilibrary.ru/text/1759/p.1/index.html

В Лондоне в 1920 г., зимой, на углу Пикадилли и одного переулка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрюриленского театра.Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо одетым человеком лет 25, около которого начала собираться толпа.
- Стильтон! - брезгливо сказал толстый джентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. - Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер.
- Я голоден… и я жив, - пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался. - Это был обморок.
- Реймер! - сказал Стильтон. - Вот случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки.
Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал. Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился со Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в кэб. Экипаж направился к одному из трактиров Гайстрита. Беднягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дети лесничего уехали - кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу, и Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а 22 лет он заболел воспалением легких и, выйдя из больницы, решил попытать счастья в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити.Стильтон в 40 лет изведал все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 млн. фунтов. То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой, но Стильтон очень гордился своей выдумкой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии.
Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил:
- Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте: я выдаю вам 10 фунтов с условием, что вы завтра же наймете комнату на одной из центральных улиц, во 2-м этаже, с окном на улицу. Каждый вечер, точно от 5 до 12-ти ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажженная лампа, прикрытая зеленым абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от 5 до 12-ти не будете выходить из дому, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы согласны так поступить, - я буду ежемесячно присылать вам 10 фунтов. Моего имени я вам не скажу.
- Если вы не шутите, - отвечал Ив, страшно изумленный предложением, - то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, как долго будет длиться такое мое благоденствие?
- Это неизвестно. Может быть, год, может быть,- всю жизнь.
- Еще лучше. Но - смею спросить - для чего понадобилась вам эта зеленая иллюминация?
- Тайна! - ответил Стильтон. - Великая тайна! Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего.
- Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо; гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой!
Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались, вполне довольные друг другом. Прощаясь, Стильтон сказал:
- Напишите до востребования так: «3-33-6». Еще имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, - через год, - словом, совершенно неожиданно, внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как - я объяснить не имею права. Но это случится…
- Черт возьми! - пробормотал Ив, глядя вслед кэбу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовым билет. - Или этот человек сошел с ума, или я счастливчик особенный. Наобещать такую кучу благодати, только за то, что я сожгу в день пол-литра керосина.
Вечером следующего дня одно окно 2-го этажа мрачного дома № 52 по Ривер-стрит сияло мягким зеленым светом. Лампа была придвинута к самой раме. Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал:
- Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дешево, в рассрочку, надолго. Он сопьетс- от скуки или сойдет с ума. Но будет ждать, сам не зная чего. Да вот и он!
Действительно, темная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая: «Кто там? Чего мне ждать? Кто придет?»
- Однако вы тоже дурак, милейший, - сказал Реймер, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю. - Что веселого в этой шутке?
- Игрушка… игрушка из живого человека, - сказал Стильтон, - самое сладкое кушанье!II
В 1928 г. больница для бедных,, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только что привезенный старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице темного притона. Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьезный, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов. По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги.
- Так вот как пришлось нам встретиться! - сказал доктор, серьезный, высокий человек с грустным взглядом. - Узнаете ли вы меня, мистер Стильтон? - Я - Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зеленой лампы. Я узнал вас с первого взгляда.
- Тысяча чертей! - пробормотал, вглядываясь, Стильтон. - Что произошло? Возможно ли это?
- Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?
- Я разорился… несколько крупных проигрышей… паника на бирже… Вот уже 3 года, как я стал нищим. А вы? Вы?
- Я несколько лет зажигал лампу, - улыбнулся Ив,- и вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражен. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный, я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться доктором?» Ответ был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т. д.» Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память.К тому времени я уже 2 года жег зеленую лампу, а однажды, возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зеленое окно не то с досадой, не то с презрением.
«Ив - классический дурак! - пробормотал тот человек, не замечая меня. - Он ждет обещанных чудесных вещей… да, он хоть имеет надежду, а я… я почти разорен!» Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. Не стоило бросать денег». У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком…
- дальше? - тихо спросил Стильтон.
- Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в мед. колледж. Как видите, я оказался способным человеком…
Наступило молчание.
- Я давно не подходил к вашему окну, - произнес потрясенный рассказом Ива Стильтон, - давно… очень давно. Но мне теперь кажется, что там все еще горит зеленая лампа… лампа, озаряющая темноту ночи. Простите меня.
Ив вынул часы.
- Десять часов. Вам пора спать, - сказал он. - Вероятно, через 3 недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне, - быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих больных. А спускаясь по темной лестнице,зажигайте… хотя бы спичку.
https://skazki.rustih.ru/aleksandr-grin-zelenaya-lampa/
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 15 Авг 2022, 22:22 | Сообщение # 46 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 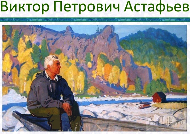
ХЛЕБОЗАРЫ
Неторопливые сумерки опускаются на землю, крадутся по лесам и ложбинам, вытесняя оттуда устоявшееся тепло, парное, с горьковатой прелью. Из ложков густо и ощутимо тянет этим тихим теплом, морит им скот на яру, окошенные кусты с вялым листом, межи у хлебных полей, полого спускающихся к самому Камскому морю, и сами хлеба, двинувшиеся в колос. За хлебами широкая стояла вода в заплатах проблесков. Над водою густо толкутся и осыпаются в воду поденки и туда-сюда снуют стрижи, деловито-молчаливые в этот кормный вечер. Оводы и комары нудью своей гуще делают вечер и тишину его. Над хлебами пылит. Пшеница на полях еще и чуть не тронутая желтизной, рожь с уже седоватым налетом и огрузневшим колосом и по-вешнему зеленые овсы, как бы застывшие на всплеске, дружно повернулись к замутневшим от угара ложкам, из которых все плыло и плыло тепло к колосьям, где жидкими еще каплями жило, набиралось силы и зрелости зерно.
Тихо стало. Даже и самые веселые птицы смолкли, а коровы легли поближе к берегу, к прохладе, где меньше донимали их оводы. Лишь одиноко стучала моторка за остроуглым мысом, впахавшимся в черную воду, как в землю; с короткими всплесками опадал подмытый берег, и стрижи, вихляясь, взмывали из рыжих яров, но тут же ровняли полет и мчались над водой, сталистую поверхность которой тревожила рыба. Пена была только у берегов, но и она погасала на песчаных обмысках, и лента ее порвалась уже во многих местах. Все шло в природе к ведру, и оттого нигде и никто не торопился, вялая размеренность была кругом и добрая трудовая усталость. Деревня с темными домами остановилась на склоне горы с редкими лесинами, отчужденно и строго мигающим сигнальным щитом и двумя скворечнями, четко пропечатавшимися в заре, тоже разомлелой от спелости и полнокровия. Ничто не сулило тревоги, сон надвигался на землю, короткий и глубокий. Но вдруг та сторона неба, что была зa дальними перевалами и лесами, как-то разом потемнела, опустилась на только что видневшийся окоем и потекла чернотою во все стороны. Только-только еще были видны облачка, чуть завитые по краям, неживая ветла, залитая морем, ястреб, летавший над этой ветлой и недовольно кричавший, должно быть, на птенцов своих, заробевших от тишины.
И вот ничего не стало. Все затянулось тьмою. Еще чуть просвечивало небо в том месте, где была заря, но и там щелка делалась все уже и уже. Однако темень была хотя и густа, но не клубилась она, не метала молний куда попало, не била ими по деревьям, в столбы, в избы, куда от мала до велика прячутся люди в грозу и закрывают вьюшки. Эта темень настоявшаяся, бархатисто-мягкая, и от нее тоже вроде бы наносило живородным духом и чуть-чуть тревогой, всегда таящейся в темноте. В мир пришло ожидание. Ничто не спало, а только притаилось, даже и небо зажмурилось. Ожидание разрешилось внезапно, как это всегда бывает, когда долго и напряженно ждешь. Ящеркой пробежало легкое пламя и юркнуло за горы. По хлебам, на мгновение освещенным, прокатилась легкая дрожь, и они сделались совсем недвижны, склонились покорно, будто ждали, что их погладят, как гладят ершистых детей, ввечеру усталых и ласковых. Сверкнуло еще и еще, теперь ярче и длиннее. Желтыми соломинками сламывались молнии над окоемом и озаряли разом весь этот окоем и все, что было там: зубья елей, пестрый щит, упорно мигающий красным оком, и две скворечни, почему-то сдвинувшиеся с подворий.
Зарницы тревожились в небе, зарницы играли на хлеба. В русских селах так и зовут их - хлебозары. Казалось мне, поле, по которому я шел, было так далеко от зарниц, что свет их не доходил сюда. Но это только казалось. Отчего же тогда еще в сумерках повернулись колосья в ту сторону, откуда вслед за теплом пришли зарницы? И отчего разом так мудро поседели хлебные поля, а кустарники будто отдвинулись, давая простор им, не мешая совершаться какому-то, хлебам лишь ведомому, обряду? Отчего же и море, сделанное человеком, совсем ушло в темноту, несмело напоминая о себе тусклым блеском, а деревня вовсе унялась и будто ужалась в склон горы, стесняясь своих непорядков и обыденности сломанной березы у причала, пустоглазой, навсегда смолкшей церквушки и подмытых огородов с упавшими в воду пряслами, подслеповатых черных бань, рассыпанных на задах, и хриплого голоса, вдруг резанувшего по трепетной тишине, - всей этой будничной заботы на завтрашний день, всей этой суеты и нервности, которой так богат сегодняшний век? Зарницы. Зарницы. Зарницы.
Земля слушает их. Хлеба слушают их. И то, что нам кажется немотою, для них, может быть, самая сладкая музыка, великий гимн о немыслимо огромном походе хлебов к человеку - от единого колоска, воспрянувшего на груди еще молодой матери-земли, зажавшей внутри огонь - к этому возделанному человеческими руками полю. Музыка есть в каждой минуте жизни, и у всего живого есть свои сокровенные тайны, и они принадлежат только той жизни, которой определены природой. И потому, может быть, в те часы, когда по небу ходят сполохи, перестают охотиться звери друг за другом, лосиха и лосенок замирают с недожеванным листом на губах, замолкают птицы, а человек крещеный осеняет себя, землю, небо трепетным троеперстьем, и некрещеный тоже благоговейно, как я сейчас, останавливается середь поля, охваченный тревожным томлением. Сколько же стою я среди хлебов? Час, два, вечность? Недвижно все и смиренно вокруг меня. Ночь без конца и края, такая же ночь, какая властвовала в ту пору, когда ни меня, ни этих колосьев, никого еще не было на Земле, да и сама Земля клокотала в огне, содрогалась от громов, усмиряя себя во имя будущей жизни.
И быть может, не зарницы эти, а неостывшие голоса тех времен, пластая в клочья темноту, рвутся к нам? Может быть, пробиваются они сквозь толщу веков с молчаливым уже, но все еще ярким приветом, только с виду грозным, а на самом деле животворным, потому что из когда-то дикого пламени в муках и корчах родилось все: пылинка малая и дерево, звери и птицы, цветы и люди, рыбы и мошки. И не оттого ли в летние ночи, когда издалека сигналят о чем-то зарницы, утерявшие громы в миллионолетной дороге, а хлеба наполняются твердостью и могуществом и свято притихшая земля лежит в ярком осиянии, в сердце нашем пробуждается тоска о еще неведомом? Какие-то смутные воспоминания тревожат тогда человека. И небо в эти минуты словно бы становится вестником нашего перворождения, доносит отголоски тех бурь, из которых возникли мы. Я склоняюсь к древнему полю, вдыхающему пламя безмолвных зарниц. Мне чудится, что я слышу, как шепчутся с землею колосья. И, кажется, я даже слышу, как зреют они. А небо, тревожась и мучаясь, бредит миром и хлебом. Зарницы. Зарницы. Зарницы.
РОДНЫЕ БЕРЕЗЫ
Заболел я однажды, и мне дали путевку в южный санаторий, где я никогда еще не бывал. Меня уверили, что там, на юге, у моря, все недуги излечиваются быстро и бесповоротно. Но плохо больному человеку, везде ему плохо, даже у моря под южным солнцем. В этом я убедился очень скоро. Какое-то время я с радостью первооткрывателя бродил по набережной, по приморскому парку, среди праздной толпы, подчеркнуто веселой, бесцельно плывущей куда-то, и не раздражали меня пока ни это массовое безделье, ни монотонный шум моря, ни умильные, ухоженные клумбочки с цветами, ни оболваненные ножницами пучки роз, возле которых так любят фотографироваться провинциальные дамочки и широкоштанные кавалеры, залетевшие сюда с дальних морских промыслов бурно проводить отпуск, прогуливать большие деньги. Но уже через неделю мне стало здесь чего-то недоставать, сделалось одиноко, и я начал искать чего-то, рыская по городу и парку. Чего искал - сам не ведал. Часами смотрел я на море, пытаясь обрести успокоение, наполненность душевную и тот смысл и красоту, которые всегда находили в пространстве моря художники, бродяги и моряки.
Море нагоняло на меня еще большую тоску мерным, неумолчным шумом. В его большом и усталом дыхании слышалась старческая грусть. Вспененные волны перекатывали камни на берегу, словно бы отсчитывая годы. Оно много видело, это древнее, седобровое море, и оттого в нем было больше печали, чем веселости. Впрочем, говорят, что всяк видит и любит море по-своему. Может, так оно и есть. В приморском парке росли деревья и кусты, собранные со всех сторон мира. Встречались здесь деревья с африканским знойным отливом в широких листьях. Фикусы росли на улице, а я-то думал, что они растут лишь в кадках по российским избам. Воспетые в восточных одах, широко стояли платаны и чинары, роняя на чистые дорожки мохнатые шарики с ниточками. Кипарисы, темные и задумчивые, и днем и ночью мудро молчали. Непорочными, какими-то невзаправдашне театральными цветами были завешаны магнолии. И пальмы, пальмы. Низкие, высокие, разлапистые, с шевелюрами современных молодых парней. В расчесах пальм жили воробьи и ссорились, как обитатели коммунальной квартиры, всегда и всем недовольные, если даже удавалось им свить гнездо в кооперативной квартире или на райской пальме. Понизу стелились и прятались меж деревьев кусты, бесплодные, оскопленные ножницами. Листья их то жестки, то покрыты изморозью и колючками. В гуще кустов росли кривые карликовые деревца с бархатистыми длиннопалыми листьями. Их покорность, еле слышное перешептывание напоминали тихих красавиц из загадочной арабской земли.
Кусты, деревья, все эти заморские растения, названий которых я не знал, удивляли, но не радовали. Должно быть, открывать и видеть их надо в том возрасте, когда снятся далекие страны и тянет куда-то убежать. Но в ту пору у нас и сны, и мечты были не об этом, не о дальних странах, а о том, чтоб свою как-то уберечь от цивилизованных разбойников XX в. Бродил и бродил я по приморскому парку, глазел, дивился и вдруг увидел среди заморских кущ три березки толщиной с детскую руку. Глазам своим я не поверил. Не растут березы в этих местах. Но они стояли на полянке в густой мягкой травке, опустив долу ветви. Березы и в наших-то лесах, если растут поодиночке, сиротами кажутся, здесь и вовсе затерялись, не шуршали корою, не лопотали листом, и все-таки от них нельзя было оторвать глаз. Белые стволы берез пестрели, как веселые сороки, а на нежной зелени зазубренных листьев было так хорошо, покойно взгляду после ошеломляющего блеска чужеземной, бьющей в глаза растительности. Садовник широкодушно высвободил место березам в этом тесном парке, где обязательно кто-то и кого-то хотел затмить, а потом и задушить. Садовник часто поливал березы, чтобы не сомлели и не умерли они от непосильного для них южного солнца. Березки эти привезли вместе с травяной полянкой на пароходе, отпоили и выходили их, и они прижились. Но листья лицевой стороной были повернуты к северу, и вершины тоже…
Я глядел на эти березы и видел деревенскую улицу. Козырьки ворот, наличники окон в зеленой пене березового листа. Даже за ремешками картузов у парней - березовые ветки. Скараулив девок с водою, парни бросали им в ведра свои ветки, а девушки старались не расплескать воду из ведер - счастье выплеснуть! В кадках вода долго пахла березовым листом. Крыльцо и пол сеней были застелены молодыми ветками папоротника. По избам чадило таежным листом, уже устоявшимся, набравшим силу. В этот день - в Троицу - народ уходил за деревню с самоварами и гармошками. Праздновали наступление лета. Какое-то время спустя под дощаной навес сваливали целый воз березовых веток. В середине зеленого вороха сидела и вязала веники бабушка. Видно у нее только голову. Лицо у бабушки умиротворенное, она даже напевает что-то потихоньку, будто в березовой, чуть повядшей и оттого особенно духовитой листве утонули и суровость ее, и тревожная озабоченность. Веники поднимали на чердак и сарай, вешали попарно на жерди, на перекладины - где только можно уцепить веники, там и вешали.
Всю зиму гуляло по чердаку и сараю ветреное, пряное лето. Потому и любили мы, ребятишки, здесь играть. Воробьи слетались сюда по той же причине, забирались в веники на ночевку и не содомили. И всю зиму березовый веник служил свою службу людям: им выпаривают пот из кожи, надсаду и болезни из натруженных костей. Мужики, что послабже, да квелые старичишки надевали шапки, рукавицы, парились часами и, не в силах преодолеть сладкой истомы, омоложения души и тела, запаривались до беспамятства, молодухи выволакивали их из бани в наспех, неладно застегнутых исподниках и торопливо тыкали в загривок свекру или мужу, вымещая ему прошлые обиды. Ах, как славно пахнет береза!
ЛЕТНЯЯ ГРОЗА
Мы так увлеклись рыбалкой, что не заметили дождя, мелкими шажками подкравшегося к нам из-за леса. Он густел, расходился, и вскоре на протоке сделалось тесно от пузырьков, которые, не успев народиться, лопались и расходились кружками. Дождь был так густ, что ветер не мог пробраться сквозь него и сконфуженно залег в лесу. Мы заторопились и поплыли к островку, где был хвойный лес, окруженный со всех сторон покосами. Схватили рюкзаки и бросились к пихтам. Под ними лежала рыжая сухая трава. Дождь сюда не проникал. Но мы уже вымокли и продрогли. Не хотелось шевелиться. Однако надо было разводить костер. И с великим трудом мы его развели. А дождь прибавлял прыти. Огромная черная туча наползала на реку, и в одну минуту стало темно. Затем дождь разом прекратился. И тут же порывы ветра понеслись по реке, морща и волнуя воду. Сверкнула нервная молния, прогрохотал гром, и ветер опять сник. Стало тихо. Только крупные капли, скатываясь с мокрых смолистыx ветвей пихт, звучно шлепались о широкие, сморщенные листья чемерицы, уже пустившей по четвертому побегу, да с той стороны реки доносилось тревожное блеяние коз, пасшихся по лесу.
Молнии зачастили. Они прошивали насквозь темную тучу яркими иглами и втыкались в вершины гор, то отчетливо видных, то исчезавших во мраке. Гром грохотал почти беспрерывно. Мы ждали бешеного ливня. Но удивительное дело: грозная туча спустила на землю тихий, грибной дождь, сама же, громыхая в отблесках молний, поплыла дальше, волоча за собой пушистый, раздвоенный хвост. Этот хвост чисто смел все на своем пути. Снова появилось голубое небо с умытым и довольным ликом солнца. И разом ожило все вокруг: запели птицы, затрещали крыльями бекасы, мимо нас побежала шустрая мышка. Туча была далеко. Она уползала за перевалы и все еще метала яркие стрелы, но звуки грома до нас уже не доносились.
ПРЕДЧУВСТВИЕ ОСЕНИ
Конец августа. Речка Быковка стала еще светлей и мельче. Она как бы оробела немножко и чуть-чуть шумит перекатами, словно боится нарушить зарождающуюся грусть, стряхнуть поседелость на кустах, висящих над нею. По речке который уж день плывут листья, набиваются у камней в перекатах, паутина плывет с татарника и кипрея. Его полно тут, татарника, на пашнях, особенно на овсах, кипрея - на вырубках. Ночью над Быковкой мелькают просверки, словно электросваркой разрезая сталистую твердь речки, - звезды ли августовские падают? Или отблески северных позарей достигают Урала? Может, и с Антарктики отголоски сияний достигают безвестной речки Быковки? Земля в августовские ночи совсем не ощутима, хочется притихнуть вместе с нею, пожалеть себя и ее за что-то, приласкаться к теплому - наступающим холодом, тьмою дышит ожившее пространство.
Рано начали просыпаться туманы, а как проступят, так низко и неподвижно лежат неровными слоями над зеленой отавой, по-над речкой. И речка сквозь туман и не смытую на песках пленку пуха кажется стылой. Рано вечером многими сенокосилками стрекочут кузнечики, стрекочут длинно, трудолюбиво, боясь сделать паузу, ровно бы спешат докосить все, что еще недокошено в полях и лугах. А недокошены лишь елани и кулижки колхозников. Нынче, как и много лет назад, они получили покосы к сентябрю, косят урывками перестоялую, худую траву, мечут ее сырую. Корм из нее никудышный, но какой ни на есть, а корм. Осень приближается. Осень.
Птицы все едят, едят. Овсянки затемно прилетают и садятся в поле и только на вечерней заре лепятся на кусты и чистят перья клювами от паутины. Песен птичьих уж нет, только хлопоты, только молчаливые заботы перед дальней дорогой. Природу охватило томление и тревога, за которою последует согласие с осенью, печальное прощание с теплом, готовность к трудному зимованью, так необходимому для обновления всего в природе, белому снегу, который глубоко и тепло прикроет верхушку земли, нарядит ее в белую шапку - и будет конец года - тоже с белой верхушкой.
ХВОСТИК
Смеется, заливается, хохочет мальчик... Овсянский остров напоминал когда-то голову - туповатую с затылка и заостренную, чубатую со лба. В любое время года была та голова в окладе венца - бледная зимняя плешь обметана чернолесьем; весной плешь острова нечесано путалась серо-свалявшейся отавой, взятой в кольцо багряно-мерцающих тальников, которые не по дням, а по часам погружались в глубину вспененного черемушника. Пока черемуха кружилась, метелила по берегам острова, в середине его вспыхивала и, стряхнув в себя рыхлый цвет, оробело останавливалась прибрежная гуща, утихали листом тальники, ольхи, вербы, черемухи, отгородившись от пожара полосой небоязного к огню смородинника...
В осени мягкий лист кустарников бронзовел, и выкошенный, чистый остров в ровной стрижке зеленой отавы победно возносил мачту над высоким стогом сена. И всю-то зимушку покрыто было боязливое темечко земли пухлой шапкой сена, и серебряно звенел венец, надетый на чело острова. Желтая птица кружилась и кружилась над зимним стогом. Ветер с Енисея гнал ее встречь бурям, и алым флагом вспыхивало крыло высокой птицы под широкой зарею в часы предвечерья.
Гидростанция зарегулировала реку, откатилась вода, и стал Овсянский остров полуостровом. Захудала на нем некошеная трава, усохли кустарники. По оголившейся отноге и пологим берегам налет зеленого помета - цветет малопроточная вода. Перестала цвести и рожать черемуха, обуглились, почернели ее ветви и стволы; не полыхают более цветы - они вытоптаны или вырваны с корнем. Лишь живучий курослеп сорит еще желтой перхотью средь лета, да жалица и колючий бурьян растут по оподолью бывшего острова. Прежде были в заречье деревенские покосы и пашни, но где они были - уже не найти. Нынче сооружен здесь деревянный причал. Валом валят на эти берега хозяйственные дачники, чтобы холить на личных огородах и в теплицах редкую овощь, цветы, ягоды, В субботу и воскресенье - пароход за пароходом, теплоход за теплоходом, катер за катером, "Ракета" за "Ракетой" прилипают к причалу и выделяют из себя жизнерадостный народ. Под бравую песню "То ли еще будет..." расползаются они пo затоптанному клочку земли, глядя на который еще раз убеждаешься, что в смысле выделения мусора и нечистот никто сравниться с высшим существом не может - ни птица, ни зверь... Берега и поляны в стекле, жести, бумаге, полиэтилене - гуляки жгут костры, пьют, жуют, бьют, ломают, гадят, и никто, никто не прибирает за собою, да и в голову такое не приходит - ведь они приехали отдыхать от трудов. Оглохла земля, коростой покрылась. Если что и растет на ней, то растет в заглушье, украдкой, растет кривобоко - изуродованное, пораненное, битое, обожженное...
Хохочет мальчик на берегу. Увидел что-то не просто смешное, а потешное, вот и хохочет. Подхожу, обнаруживаю: возле вчерашнего, воскресного кострища, средь объедков и битого стекла, стоит узкая консервная баночка, а из нее торчит хвостик суслика, и скрюченные задние лапки. И не просто так стоит банка с наклейкой, на которой красуется слово "Мясо", на газете стоит, и не просто на газете, а на развороте ее, где крупно, во всю полосу нарисована художником шапка: "В защиту природы..." Шапка подчеркнута не то красным ломаным карандашом, не то губной помадой, через всю полосу шатающиеся, промоклые красные буквы, из них составлено слово: "Отклик".
- Что же ты смеешься, мальчик?!
- Хво... хво... хвостик!
Да, хвостик суслика смешон - напоминает он ржаной колосок, из которого выбито ветром зерно, жалкий, редкостный хвостик - не сеют нынче в заречье хлеба. Дачными ягодами суслику не прожить, вот с голоду и подался крошки по берегу подбирать, тут его поймали весёлые гуляки и засунули в банку, судя по царапинам на обёртке, засунули живого. И «отклик» на газете, догадываюсь я, написан не карандашом, а кровью зверушки.
КОСТЕР ВОЗЛЕ РЕКИ
Все-таки я встретил тех, кто не только сорит, но и убирает. Нет, не на родине встретил, не в Сибири. В Подмосковье встретил. Ехал из аэропорта Домодедово и возле березовой рощи увидел седого, легко одетого мужчину с полиэтиленовым мешком, в резиновых перчатках, и женщину, одетую в спортивные штаны, в рубашку мужского покроя, тоже в перчатках и тоже с мешком. Они неторопливо двигались по опушке рощи, о чем-то беседуя, время от времени наклонялись и складывали в мешок бумагу, коробки от сигарет и папирос, фольгу, обрывки полиэтилена, окурки, раскисшие куски хлеба, старые обутки, лоскутье - все, чем сорит вокруг себя человек.
- Видал чокнутых? - почему-то со злобой воскликнул шофер-таксист, везший меня в Москву.
Я поглядел на него вопросительно.
- Академик с бабой своей. Дача у них тут недалеко. Как идут на прогулку, прихватывают с собой мешки и лопату. Какой мусор приберут, так сожгут возле речки, чё где выправят, чё где закопают. Цветки рвать не дают, прямо за грудки берут, и-иы-ди-и-о-оты-ы. Да разве за нами, за поганцами, все приберешь? И-и-ы-ы-ди-и-о-о-оты-ы-ы!..
Он резко крутанул руль. Двое пожилых людей исчезли за поворотом …Всякий раз, как еду в аэропорт Домодедово и вижу дымок костерка над речкой Пахрой, с тихой радостью думаю: это они, терпеливые люди, делают посильную добровольную работу, так необходимую уставшей земле, - жгут мусор возле речки.
ПАУТИНА
Грибное предосенье. Липнет паутина к лицу. Заденешь, раздерешь паутину - и в сырую траву горохом осыпаются пауки. Путаясь в смятой паутине, они часто и беспомощно перебирают закорючинками лапок.А ведь в только что растянутой паутине, в сложных и мудрых хитросплетениях ее они жили, кого-то сторожили и чувствовали себя по-хозяйски дома. Нарушился порядок. Не стало гармонии. Рухнул паучий мир, выпало звено из природой отлаженной жизни, лопнула еще одна ее тонкая струна.
Я смотрю на железнодорожный мост, мерцающий сплетениями паутины над широкой рекой, и вижу, как быстро-быстро по его нитям перебирается многолапый и многорукий паук.
ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН
Вышел утром на берег роки, а по ней звон, тонкий-тонкий, ело уловимый. Не сразу понял, в чем дело: река уходила в зиму высокая, прибрежные кусты затоплены, ночью ударил заморозок - вода «подсохла», - и на всех веточках, побегах талышков и на затопленной осоке настыло по ледышке. Висели они колокольцами над водой, струями шевелило тальники, льдинки позванивали едва внятно, а когда занимался ветерок, звон густел, угрюмая, бурная, все лето недовольно гудевшая река начинала искрить из конца в конец, открываясь добрым материнским ликом. В тихом, отходящем звуке, в легком свечении пустынной, всеми забытой реки чудилась вроде бы даже покаянная виноватость - была вот все лето злая, мутная, неласковая, затопила птичьи гнезда, не оделила добычей рыбаков, не одарила радостью купальщиков, распугала с берега детей, отпускников…
Поздняя осень, чуть греющее позднее солнце, но сколько от него светлого свету! И чуть слышный хрустальный звон кругом, россыпь искрящихся колокольчиков над берегами - голос грустного предзимья по всему поднебесному миру.
ОКНО
Ничто не наводит на меня такую пространственную печаль, ничто не повергает в такое чувство беспомощности, как одиноко светящееся окно в покинутой деревушке, да и в скоплении современных домов. Подъезжаешь рано утром к большому городу, входишь в этот сделавшийся привычным, но все же веющий холодом и отчужденностью каменный коридор - и ощущение такое, словно медленно-медленно утопаешь ты в глухом, бездонном колодце. Равнодушно и недвижно стоят современные жилища с плоскими крышами, с темными квадратами окон, безликими громадами сплачиваясь в отдалении. Тяжелым сном повергнута окраина - ни огонька, ни вздоха. Спит, сам себя загнавший в бетонные ульи, трудовой человек, спят по 5-6 деревень в одном многоподъездном доме, спит волость или целая область в одном многолюдном микрорайоне, и только сны соединяют людей с прошлым миром: лошади на лугу, желтые валы сена средь зеленых строчек прокосов, береза в поле, босой мальчишка, бултыхающийся в речке, жатка, вразмашку плывущая в пшенице, малина по опушкам, рыжики по соснякам, салазки, мчащиеся с горы, школы с теплым дымом над трубой, лешие за горой, домовые за печкой… «В самоволке находятся сны» - как сказал один солдат с поэтическими замашками.
И вдруг раскаленным кончиком иголки проткнется из темных нагромождений огонек, станет надвигаться, обретать форму окна - и стиснет болью сердце: что там, за этим светящимся окном? Кого и что встревожило, подняло с постели? Кто родился? Кто умер? Может, больно кому? Может, радостно? Может, любит человек человека? Может, бьет?.. Поди узнай! Это тебе не в деревне, где крик о помощи слышен от околицы до околицы. Далеко до каменного окна, и машину не остановишь. Уходит она все быстрее и быстрее, но глаза отчего-то никак не могут оторваться от неусыпного огонька, и томит голову сознание, что и ты вот так же заболеешь, помирать станешь и позвать некого - никого и ничего кругом, бездушно кругом.
Что же все-таки у тебя, брат мой, случилось? Что встревожило тебя? Что подняло с кровати? Буду думать - не беда. Так мне легче. Буду надеяться, что минуют твой казенный дом беды, пролетят мимо твоего стандартного окна. Так мне спокойней. Успокойся и ты. Все вокруг спят и ни о чем не думают. Спи и ты. Погаси свет.
https://thelib.ru/books/astafev_viktor/zatesi-read.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 20 Дек 2022, 13:05 | Сообщение # 47 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | Константин Паустовский
"СТАРЫЙ ПОВАР"

В один из зимних вечеров 1786 г. на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик - бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пёс. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять. Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет 18-ти. Всё убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин - единственное богатство Марии. Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин «сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.
Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал:
- Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.
- Что же делать? - испуганно спросила Мария.
- Выйди на улицу, - сказал старик, - и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.
- Наша улица такая пустынная… - прошептала Мария, накинула платок и вышла.
Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нёс по ней листья, а с тёмного неба падали холодные капли дождя. Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идёт и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил:
- Кто здесь?
Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца.
- Хорошо, - сказал человек спокойно. - Хотя я не священник, но это всё равно. Пойдёмте.
Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой - огонь свечи поблёскивал на его чёрном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо. Он был ещё очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.
- Говорите! - сказал он. - Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.
- Я работал всю жизнь, пока не ослеп, - прошептал старик. - А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена - её звали Мартой - и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить её сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я её научил не трогать ни пылинки с чужого стола.
- А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? - спросил незнакомец.
- Клянусь, сударь, никто, - ответил старик и заплакал. - Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!
- Как вас зовут? - спросил незнакомец.
- Иоганн Мейер, сударь.
- Так вот, Иоганн Мейер, - сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика, - вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви.
- Аминь! - прошептал старик.
- Аминь! — повторил незнакомец. - А теперь скажите мне вашу последнюю волю.
- Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.
- Я сделаю это. А еще чего вы хотите?Т
Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:
- Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какой я встретил её в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.
- Хорошо, - сказал незнакомец и встал.
- Хорошо, - повторил он, подошёл к клавесину и сел перед ним на табурет.
- Хорошо! - громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.
- Слушайте,- сказал незнакомец. - Слушайте и смотрите.
Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пёс вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пёс только потряхивал ушами.
- Я вижу, сударь! - сказал старик и приподнялся на кровати.
- Я вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась, - повторил он, прислушиваясь к журчанию струн.
Незнакомец играл, глядя в чёрное окно.
- А теперь, - спросил он, - вы видите что-нибудь?
Старик молчал, прислушиваясь.
- Неужели вы не видите, - быстро сказал незнакомец, не переставая играть, - что ночь из чёрной сделалась синей, а потом голубой, и тёплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел её, и от неё поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается всё выше, всё синее, всё великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.
- Я вижу всё это! - крикнул старик.
Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.
- Нет, сударь, - сказала Мария незнакомцу, - эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь.
- Да, - ответил незнакомец, - это яблони, но у них очень крупные лепестки.
- Открой окно, Мария, - попросил старик.
Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно. Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой. Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошёл к кровати. Старик сказал, задыхаясь:
- Я видел всё так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать… имя. Имя!
- Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, - ответил незнакомец.
Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был уже мёртв. Заря разгоралась за окнами, и в её свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.
https://nukadeti.ru/skazki/paustovskij-staryj-povar

Целыми днями Родион Иванович сидел в лавчонке на базаре, торговавшей скобяным товаром, - это был зимой и летом ледяной каменный мешок с единственным окном под самым потолком, - и грыз жареные семечки, чтобы пересилить тягу к табаку. В магазинчике командовала его жена - толстенькая энергичная бабешка, сыпавшая матерком и покрикивавшая на какого-нибудь неуклюжего мужика в тулупе, забравшегося в угол: «Эй, ты чего там разжопатился? Из-за тебя к ведрам не подойти!»
Родион Иванович, повинуясь ее приказам, таскал из подсобки ящики с гвоздями, мотки проволоки или «занадобившийся этому черту сепаратор». Усатый «черт» в мерлушковой шапке притопывал сапожищами на кирпичном полу, приговаривая: «Добра-то у вас как много и откуда только берется?»
Выбравшись из склада с сепаратором в руках, Родион Иванович отвечал с одышкой: «Добра-то много - да добра нет». Выражение лица его всегда было печально-ласковое. Вина он не пил, потому и удивились люди, узнав, что Родион Иванович сошел с ума. Все чокнутые делились в городке на 2 категории: на тех, кто от роду дурак, и на тех, кто свихнулся из-за безудержного пьянства и лечился в психушке. Ни к тем, ни к другим Родион Иванович не принадлежал, даже на рыбалке замечен не был. Когда жену его спрашивали, не страшно ли ей жить бок о бок с психом, она хмуро отвечала: «Да чего страшного? Сидит себе в уголку, с мухами беседует…»
Вскоре, однако, Родион Иванович нашел себе занятие, прославившее его на весь городок. Из обрезков бумаги он клеил коробки чуть больше спичечных и разносил по домам, предлагая купить за деньги или за спасибо. Однажды он постучал и в нашу дверь. Я открыл. На пороге переминался с ноги на ногу тощий тип с печально-ласковым выражением лица, в стареньком брезентовом плаще и выгоревшем до рыжины берете на стриженной под ноль узкой голове.-
Не желаете ли добра? - просипел он, заискивающе заглядывая мне в глаза. - Вот.
Он протянул коробочку с подтеками клея на углах.
- Не обижайтесь.
Выручил отец. Он сердито сунул Родиону Ивановичу какую-то медную мелочь и захлопнул дверь. Коробочку отдал мне. В своей комнате я осторожно открыл коробку. Одна сторона ее была не заклеена и служила крышкой, внутри оказалась коробка поменьше, с такой же незаклеенной крышечкой. На дне этой второй коробки аккуратным почерком малограмотного человека было начертано одно-единственное слово - «добро». Я до сих пор храню эту коробочку, чудом уцелевшую после всех переездов и передряг. Чернила на донышке выцвели, приобрели желтоватый оттенок, но слово по-прежнему хорошо различимо. Кажется, с годами я начал понимать, что слово «добро» обладает всего одним - одним-единственным - смыслом, и именно тем, который вложил в него несчастный Родион Иванович из затерянного на краю света городка.
https://buida.ru/text/prodavec-dobra/

Шумели деревья в Екатерининском парке. За деревьями ревели моторы. По улицам шли солдаты и пенсионеры. Над Лицеем полз вверх маленький самолет. В библиотеке начинался диспут на тему "Что такое счастье".
На диспут пришли 12 пенсионеров и взвод солдат. Солдаты сели строем на 2 скамейки и стали держать на коленях пилотки. Пенсионеры сложили на стол сумки, книги, зонтики и палки. Пришла какая-то женщина в строгом жакете, села в уголок и стала серьезно смотреть на солдат и пенсионеров.
"Вот они пришли, - думала женщина-библиотекарь, - и хотят говорить о счастье. "На свете счастья нет, а есть покой и воля". Я понимаю, что это значит, и я счастлива. Я счастлива, потому что знаю, какие слова весят и какие нет, какие поступки стоят того, чтобы их совершать, а какие никому не нужны. Я счастлива, потому что не жду от людей больше, чем они могут сделать и понять, и не сержусь на тех, кто причиняет мне боль. Они ведь не виноваты, они просто не понимают".
"Я счастлива, - думала женщина, - потому что меня радует бледное солнце за окном, и шум деревьев в парке, похожий на рев моторов, и рев моторов, похожий на шум деревьев. И эти солдаты с розовыми лицами и с пилотками на коленях, и эти опрятные старички и старушки, которым нечего делать и которые хотят поговорить о счастье".
Библиотекарь хотела сказать обо всем этом солдатам и пенсионерам, но в углу сидела женщина в скучном жакете, и библиотекарь подумала, что говорить не стоит, потому что ее могут не понять, а незнакомая женщина, возможно, имеет свои установки на счастье, и ей может не понравиться то, что думала библиотекарь. Кто знает эту женщину, кто она? Зачем она пришла сюда? Что думает эта женщина в своем серьезном жакете? И библиотекарь сказала обычные слова, какие должны говорить библиотекари, открывая диспуты о счастье. Затем встал старичок в пиджаке цвета асфальта, только рукава до локтей не выцвели на его пиджаке, потому что много лет были закрыты нарукавниками. Он сказал, что счастье в труде и что все зависит от того, какую специальность выберешь в молодости. Сам он выбрал профессию бухгалтера и совсем не жалеет об этом. Он был счастлив, счастлив всю жизнь. Старичок говорил долго, но главное он сказал вначале.
Румяная старушка сказала, что однажды, когда она заболела, к ней пришел молодой врач. Этот врач был очень любезен. Он сделал ей укол, прописал лекарство, улыбался, шутил. И она была счастлива оттого, что к ней пришел любезный молодой врач. Он так хорошо улыбался! Потом старушка была в магазине. Там стояло в очереди много стиляг в узких брюках. Они толкались, наступали на ноги и не говорили "извините", не говорили "пожалуйста". И когда один стиляга сильно толкнул старушку, она сказала: "Какая теперь грубая молодежь!" И вдруг стиляга повернулся, улыбнулся и сказал старушке: "Простите, пожалуйста, здесь так тесно!" И кто же это был? Это был молодой врач. Да, да, она его сразу узнала. И она была счастлива во второй раз. Старушка еще долго рассказывала о молодом враче, но самое важное она рассказала вначале.
Другой старичок сказал, что счастье зависит от людей, с которыми рядом живешь, и что самые плохие люди - мещане. У них у всех квартиры в Ленинграде и дачи в Ялте. Жить с ними рядом - сплошное несчастье. Но он никогда не видел мещан своими глазами и не знает, где они живут. Поэтому он счастливый. Остальные 9 старичков и старушек также сказали свои мнения о счастье. Они говорили долго и очень по-разному. Но главное - выяснилось, что все они счастливы или были счастливы, и, узнав это, старички и старушки порозовели и стали похожи издали на молодых.
Солдаты ничего не сказали о счастье. Они сидели строем, держали пилотки на коленях и хотели в кино. Женщина в мрачном жакете тоже ничего не сказала. Она убрала в сумку блокнот и строго посмотрела на солдат и пенсионеров. Библиотекарь взглянула в окно на красное солнце, посмотрела на женщину в черном жакете, вздохнула и сказала обычные слова, какие говорят библиотекари, закрывая диспуты о счастье. Пенсионеры взяли со стола свои книги, сумки, зонтики и палки. Солдаты встали со скамеек и вышли строем, держа пилотки в руках. Куда-то делась женщина в незаметном жакете. Библиотекарь вышла на улицу. По улице шли солдаты и пенсионеры. Шумели деревья в Екатерининском парке. В кино шли разные люди, в основном молодые. В основном, они улыбались. А те, кто не улыбался, - смеялись. А те, кто не смеялся, - пели.
На них смотрел старичок в асфальтовом пиджаке и думал, что все они счастливы, потому что выбрали хорошие специальности.
Старушка смотрела и видела много молодых врачей, любезных, в узких брюках. И каждый раз, когда мимо проходил молодой врач, она радостно вздрагивала и ее пожилое сердце сладко сжималось и сильно стучало... Другой старичок смотрел и не видел мещан. Мещане прятались в своих квартирах и на дачах в Ялте. И поэтому старичок весело стучал палкой, глядя, как мимо идет передовая советская молодежь. Остальные старички и старушки тоже смотрели на молодежь и вспоминали о том, какие они были счастливые по разным своим причинам и как хорошо они выступали на диспуте. Только сами молодые люди не думали о счастье. Они были просто молоды, и просто красивы, и просто ошалели от счастья. Они просто шли в кино.
Женщина-библиотекарь тоже не думала о счастье. Она хотела сказать им, что ей также весело, что она тоже идет в кино и - видите - тоже улыбается. Но она была уже не молодая и знала, что такое счастье. Поэтому она решила никому ничего не говорить. ...Солнце садилось за Баболовским парком. Над Лицеем взбирался к рыжему облаку маленький самолет.
https://rustutors.ru/argumen....te.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 05 Мар 2023, 13:07 | Сообщение # 48 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 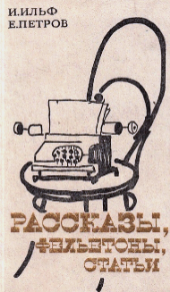
"БЕСПРИЗОРНЫЕ"

Ветер кроет с 3-х сторон. Сугробы лежат крепостным валом. Метель рвет и крутит снежным пухом и прахом. Улица мертвеет. Мимо окаменевших извозчиков бредет закутанная в невообразимое барахло (7 дыр с заплатками) маленькая фигурка. Днем фигурка бегала и отчаянно защищала свою крошечную жизнь - выпрашивала копейки у прохожих, забегала отогреваться в полные чудесной, хлебной духоты булочные, жадно вгрызалась глазом в туманные витрины, где напиханы великолепные и недостижимые вещи - штаны и колбаса, хлеб и теплые шарфы. Но теперь поздно. День доеден до последней крошки. 12 час. Ветер и снег. Магазины закрыты, прохожих нет, надо искать ночевку.
Тысячи живущих в Москве не знают, что такое ночлег беспризорного. Мусорный ящик, беспримерно вонючий, но теплый, это блаженство. Но в мусорный ящик попасть трудно, дворники зорко стерегут это сокровище. Парадная лестница тоже прекрасный и тоже трудно находимый ночлег. Беспризорному долго выбирать не приходится. Мороз тычет в щеки и хватает за ноги. Если найдется асфальтовый чан, беспризорный спит в чану. Спят в яме, если отыщется яма. Но приходится спать и на снегу, укрывшись сорванной со стенки театральной афишей, подложив под щеку одеревенелый кулачок. Спят где попало и как попало. Это в городе. А есть еще вся Россия, бесчисленные населенные пункты, станции и вокзалы. Какой транспортник не видел на своей станции таких же картин? Тысячи детей, ставших после голода 22 года одинокими в самом точном смысле этого слова, живут и растут на улице. Так ребенок долго не проживет - срежет болезнь, недоедание или задавит мороз. Но если даже удастся кое-как набить желудок, сохранить тельце от нагаечного мороза, тогда еще остается улица, ночлежка, Хитров рынок.
Улица дышит гнилью и гибелью. Улица даром с рук не сходит. В комиссию по делам о несовершеннолетних ежедневно доставляют детей, замеченных в правонарушениях. Этот мальчик пробрался на кухню, примус украл. И этот крал и этот. В большинстве случаев -- кражи. А эта маленькая - это уже посерьезней - это проституция. Ночлежка - это школа и даже университет преступлений. Ребенок, попавший туда, в отличное общество подонков, быстро обучается в ночлежке на Гончарной: при опросе 45% детей сознались, что они нюхают. Детей надо спасать. Советская власть еще в 21 году осознала всю важность детской беспризорности. Мы имеем многочисленные детские учреждения и воспитываем большие тысячи детей. Но всего этого мало. Мало денег, и улица по-прежнему еще продолжает губить детей. Приток их в Москву, даже из самых отдаленных мест беспрерывно продолжается.
И вот рабочая Москва в первую голову, а за ней вся трудовая Россия, всерьез взялась помочь голодным и одичавшим детям. Рабочие делают отчисления, производится обложение нетрудового элемента, организовано общество "Друзей детей", имеющее 300 тыс. членов. Вербовка "друзей детей" ведется широчайшим фронтом. Предположено в общество завербовать 500 тыс. чел. Наконец, несомненно, гигантскую помощь окажет "фонд Ленина". Дети, о которых завещал Ленин, будут спасены! Тут дело не только в одних деньгах. Когда буржуазия разводила филантропию в своих приютах, она убирала с улиц некрасивое зрелище детского нищенства и растила нравственных калек. Нам надо сделать иначе. Надо устроить беспризорных так, чтобы у них появилось желание учиться и работать. Относительно ребят младшего возраста - дело простое. Их нужно устроить в лучшие детские дома, окружив их особым вниманием.
Главная трудность с подростками, которых улица уже сломала, которые вдосталь хлебнули горя, озлобились, исхулиганились. Они плохо приспособляются к жизни детского дома. Надо устраивать для них ночлежки, сколачивать их в коммуны, втягивать в ученье и самое главное - создать возможность трудового заработка. Такие трудовые коммуны беспризорных уже есть. Они есть уже во многих городах, и в Ленинграде, и в Москве. В Сокольниках. Порядком разрушенная дача, но ребята, 52 чел., держатся довольно стойко. Зарабатывают тем, что готовят бумажные пакеты. Работа до 4-х, затем клубные занятия. На Арбате, в Калошном пер., 10 мальчиков, 16 девочек. Пошивочная мастерская. Серпуховская пл., Валовая ул.. Сапожная и пакетная мастерские.
Беспризорные дети, как правило, очень предприимчивы, живы и наблюдательны: маленькая, но полная лишений жизнь многому учит. Вот эти раздеты (пальто одевает тот, кто идет в город), а есть своя стенная газета. Управляются они сами, много трудятся и гордятся своей организацией. Маленькие теперь, они скоро станут большими. Они не хотят быть ворами и бездельниками. Они хотят вырасти в больших и честных людей. Они прошли сквозь огонь, воду и медные трубы. Они знают почем фунт лиха и больше этого лиха не хотят. Им надо помочь. Помочь должны мы, у которых уже крепкие руки, те, кто видит беспризорных каждый день, каждый день и каждую ночь может сам убедиться, что этих легендарных лишений дети переносить не могут и не должны. Беспризорного мальчика надо воспитать рабочим, девочку - работницей. В советской республике не может быть покинутого ребенка. Лучше чем кто бы то ни было это должен знать транспортник. Мимо него по железным путям перекатывают эти тысячи детишек. Больше чем кто бы то ни было транспортники нагляделись на страшное зрелище бедствий маленьких ребят. И можно не сомневаться в том, что та твердая воля, которой в полной мере владеет железнодорожный пролетариат, обратится в числе других важнейших задач и на ликвидацию детской беспризорности.
1924
"МОСКВА ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ"

Рядовой октябрьский день в Москве. В такой день отрывной календарь "Светоч" рекомендует называть новорожденных детей Станиславом и Фокой, если это мальчики, или Ефросинией и Матильдой, если это девочки. В этот день солнце восходит в 5 час. 44 мин. и заходит в 17 час. 08 мин. Произведя несложные арифметические выкладки, "Светоч" определяет долготу дня равной 12-ти час. и 16-ти мин. Все это верно и убедительно, но если под словом день понимать работу, то ночи в Москве нет совсем, и все 24 час. московских суток представляют собой день.

Темная календарная ночь стоит над столицей, набережные оцеплены двумя рядами газовых фонарных огоньков, но люди уже работают, не обращая внимания на календарь. На Красноворотской пл. глухо ревут паяльные лампы, десятки людей вырывают, как репу, булыжники из мостовой - идет смена изношенных, сбитых трамвайных рельс. На Берсеневской набережной, у Большого Каменного моста, сияют высоко подвешенные эл. лампы, шумят бетономешалки, и, отбрасывая по несколько теней каждый, работают каменщики - здесь строится дом-великан. Ночью работают третьи смены на фабриках, ночью только и вступают в работу ротационные машины в газетных типографиях. С мостика у Александровского вокзала можно увидеть, как в белом дыму и огнях маневрируют паровозы. Ночью Москва работает, как днем. В предчувствии солнца небо становится пепельным, синие тучи, сидевшие до сих пор кучно на горизонте, приходят в движение, и зеленые кафли на шатровых кремлевских башнях начинают поблескивать. В этот час по пустым улицам, сотрясаясь, звеня и подпрыгивая по неровной мостовой, пробегает прокатная автомашина, нагруженная истомившимися за ночь весельчаками. К милиционеру, расхаживающему на перекрестке, доносится тоскующий возглас из машины: "А салату не хватило, совсем не хватило", и машина, покрякивая, уносится прочь. Когда в полном соответствии с указаниями календаря "Светоч" солнце высовывается из-за горизонта, оно уже застает на улицах дворников, размахивающих своими метлами, словно косами.

Дворники - народ по большей части весьма меланхолический. Может быть, причина здесь та, что им приходится собирать остатки прожитого дня: все бумажки, ломаные папиросные коробки, тряпье, слетевшую с чьей-то ноги рваную сандалию - весь мусор и конские яблоки, оставленные за день на улицах двумя миллионами московского населения и многими тысячами лошадей. Но еще раньше дворников появляются на улицах редкие собиратели окурков. Собирание окурков не есть, конечно, профессия, но человеку, вынужденному курить за чужой счет и небрезгливому, приходится вставать спозаранку. Окурок, валяющийся посреди улицы, ничего не стоит - он почти всегда выкурен до "фабрики", его не хватает даже на одну затяжку. Опытный собиратель направляется прямой дорогой к трамвайной остановке. Здесь валяется много больших, прекрасной сохранности, окурков. Их набросали пассажиры, садившиеся вчера в подоспевший вагон. Тут можно найти и "Аллегро", и "Червонец", и "Люкс", а при случае даже "Герцеговину флор". Остается только выбирать по своему вкусу. Собирателей окурков вспугивают дворники, а дворников свежевымытые вагоны трамвая, пробегающие с предельной скоростью по свободным еще от народа улицам.
Проходит около получаса. Солнце ломится во все окна, а город, кажется, и не думает просыпаться. С ведром мучного клейстера, кистью и рулоном афиш, под мышкой медленно идет расклейщик; ночные сторожа распахивают свои сторожевые тулупы и обмениваются несложными новостями; редкие пешеходы, точно стесняясь, что их так мало, пропадают в переулках. Но впечатление это минутно и обманчиво. Город просыпается волнами. В 7-м часу утра возникает рабочая волна. К 8-ми часам по улицам катится вал домохозяек и школьников, а к 9-ти из подъездов и ворот выносится третья волна - движутся советские служащие. До этого жизнь города концентрируется в отдельных пунктах - на рынках, на вокзалах, в газетных экспедициях. Город готовится, подтягивает резервы для того, чтобы встретить сотни тысяч людей, которые с минуты на минуту выступят из своих квартир в будничный трудовой поход и потребуют себе всего сразу - 2 млн. завтраков, полмиллиона газет, все трамвайные и автобусные вагоны, чтобы проехать в них, и все московские улицы, чтобы пройти по ним. И город готовится, подтягивает силы.
На огромные площади торопливо стягиваются фургоны с продовольствием. На Болотный, Смоленский, Сухаревский, Тишинский, Центральный и прочие рынки свозят картофель в мешках, овощи в ящиках, фрукты в корзинах, хлеб и сахар, капусту и соль, свеклу и дыни. Город проснется и потребует мыла, спичек и папирос. Ему нужны башмаки и костюмы. Он захочет колбасы 10-ти сортов и сельдей, он захочет молока. Поэтому в ранние часы утра на вокзалах слышатся громы выгружаемых бидонов с молоком и на вокзальные площади высыпают толпы молочниц в платочках. Поэтому на рынках столько суеты, поэтому внутренние дворы кооперативных магазинов заполняются площадками, обитыми оцинкованной жестью: на них навалены мясные туши, покрытые перламутровой пленкой; поэтому у газетных экспедиций происходят баталии газетчиков: они стремятся как можно скорее получить свою пачку газет. Надо торопиться: город сейчас проснется, а еще не все готово. Делаются последние приготовления. Распахиваются огромные деревянные ворота рынков. Разносчики газет занимают свои посты на улицах и бульварах. Солнце приподымается повыше, словно желая получше увидеть все происходящее в городе. И огромный город просыпается. Сон покидает его не сразу.
В центре еще спят, но окраины проснулись. На Тверском бульваре нет еще ни души, когда Краснохолмский, Устьинский, Замоскворецкий, Каменный и Крымский мосты переходят многотысячные, слитные и рассыпанные толпы, направляясь на работу. Паровыми криками, гудками зовут к себе рабочих предприятия машиностроительные, текстильные, конфетные, электротехнические, швейные, табачные и вагонные - "АМО", "Борец", "Геофизика", "Гознак", "Красная звезда" и "Большевичка", "Металлист" и "Красная Пресня", "Новая заря" и "Буревестник", "Пролетарский труд", "Серп и молот", "Спартак", "Шерсть --сукно", "Ява" и еще сотни фабрик и заводов собирают в своих корпусах пролетариев Москвы для кипучей работы. Разноцветный дым вылетает из высоких колонноподобных труб паровых станций; беззвучным и легким перемещением рубильника на мраморной распределительной доске включается электроэнергия, и разнообразный шум наполняет кирпичные корпуса. Фабричное кольцо, опоясывающее Москву, приступило к работе.
Между тем день растет. С окраин он перебрасывается в центр, он становится шумливым и деятельным. У нефтелавок собираются женщины с жестянками для керосина, образуя болтливые группки. Настал хлопотливый час домохозяек. Они наполняют кооперативные магазины, критически осматривают развешанную на изразцовых стенах говядину, нюхают фарш, прицениваются к петрушке и закидывают продавцов вопросами о том, когда получится денатурированный спирт. Продавцам с ними много хлопот: они требовательны, разборчивы и в то же время нерешительны. Домохозяйка долго рассматривает морковь и, уже собравшись брать ее, вдруг уходит, решив, что в соседнем отделении "Коммунара" морковка лучше. Домохозяек с их мягкими плетеными кошелками сменяют на улицах дети-школьники. Первая ступень бежит вприпрыжку, подкидывая на ходу шапки в воздух, останавливаясь, чтобы подобрать валяющийся у обочины кусочек синего стекла или поправить съехавший на плечо красный галстук. Девочки из 2-й ступени трясут стрижеными кудрями и дорогу в школу сокращают разговорами о моде и обществоведении. Молодые граждане из той же ступени говорят о футболе, "Красине", делах своего учкома и о красоте желтых кожаных курток, так привлекательно рисующихся в витрине "Москвошвея". Домохозяйки исчезают с улиц. Они разошлись по своим кухням. Дети откричали свое и расселись по партам.
9-й час - 9-й вал; во всех направлениях движутся к своим учреждениям советские служащие. Мелькают толстовки всех мыслимых фасонов - с открытым воротом и с застегивающимся наглухо, с пояском на пряжке и на пуговицах, с японскими рукавами и рукавами простыми. Портфелей столько же видов, сколько и толстовок - с ручкой и без ручки, окованные и неокованные, желтого, черного и даже лилового цвета. Час критический - 9 без 10 мин. Нужно позавтракать и попасть на службу без опоздания. В столовых раздается нетерпеливый звон ложечек о стаканы. В закусочных люди завтракают, стоя за высокими, по грудь, столами. Трамвайные вагоны подвергаются исступленным атакам. Воинственное настроение овладевает людьми, стоящими в трамвайных очередях. И если вагоны не разлетаются в щепы, то явление это граничит с чудом. Московский трамвай никак не может удовлетворить всех желающих, а все-таки перевозит. Это чудо, и, как всякое чудо, оно идет вразрез с материалистическим мировоззрением. Поэтому деятелям из коммунального хозяйства необходимо искоренить чудеса на гор. транспорте. Для этого нужно добавить побольше вагонов. Перегруженные до того, что у них лопаются стекла, вагоны с тяжелым ревом высаживают служащих у огромных тысячеоконных зданий Дворца Труда, ВСНХ, комиссариатов и прочих учреждений, направляющих жизнь всей страны.
Утро кончилось в 9 ча.в, хотя календарь "Светоч" и будет оспаривать это. Он станет доказывать, что астрономическое утро кончается в 12 час. пополудни. Но в Москве утро кончается тогда, когда все пущено в ход. А к 9-ти часам работает все. Фабрики на ходу, дети уже в школе, обеды варятся, в учреждениях бурно звонят телефоны и топочут пишущие машинки. Все на полном ходу, все заняты. Работает правительство и партия, работают профсоюзы, рабочие, директора, вузовцы, врачи, шоферы, ломовики, профессора, инспекторы, портные, работают все, начиная с ученика фабзавуча и кончая членами Политбюро. И в эти рабочие часы московские толпы теряют свои характерные особенности. Теперь уже не видно на улицах однородных людских потоков, состоящих только из служащих, только рабочих или детей. Теперь на улице все смешано и можно увидеть кого угодно.
Бредет кустарь со взятой в починку мясорубкой, модница недовольно выскакивает уже из пятого обувного магазина, где она примеряла лаковый башмачок; можно увидеть и лицо свободной профессии, провожающее модницу сахарным взглядом, и толстую даму, на лице которой пятнами запечатлелось крымско-кавказское солнце. В это время люди труда видны больше на мостовых, чем на тротуарах. Длиннейшие обозы с товарами тянутся на вокзалы и с вокзалов. Битюги выступают медленно и свои закрытые шерстью копыта ставят на мостовую торжественно, как медную печать. Сотрясая землю, проносятся на пневматиках грузовики "бюссинги", которые возят песок на постройку с Москвы-реки, где его выгружают с больших грузоемких барж. Плетутся извозчики в синих жупанах. Они трусливо поглядывают на милиционера и его семафор с красными кругами. До сих пор московские извозчики полагают, что все правила езды созданы с тайной целью содрать с них, извозчиков, побольше штрафов. Поэтому на всякий случай они вообще стараются не ездить по тем улицам, где есть милицейские посты. Постоянные взвизгивания и стоны автомобильных сирен и клаксонов рвут уши. Чем меньше по своим силам машина, тем быстрее она мчится по улице. Таков уж своенравный обычай московских шоферов. Черные, чахлые фордики проносятся со скоростью чуть ли не штормового ветра. В то же время реввоенсоветовский "паккард" болотного цвета, машина во много раз сильнейшая фордовской каретки, катится уверенно и не спеша. Слышно только шуршание ее широких рубчатых покрышек о мостовую. Никто пока не может объяснить, почему так темпераментны шоферы маленьких машин. Это загадка российского автомобилизма.
На победный бег широкозадых автобусов, низкорослых такси и легковых машин, которые создают шум на московских улицах, грустно глядят со своих облучков бородатые извозчики. Увы, пролетка - это карета прошлого. В ней далеко не уедешь, и грусть извозчиков вполне понятна. Если ранним утром в большом спросе пищепродукты, а немного попозже разные хоз. предметы - синька, щелок, ведра или мыло для стирки, то в разгаре дня наполняются магазины, торгующие одеждой, башмаками, чемоданами, галстуками и галошами, одеялами и цветами. Покупатели теснятся у лакированных кооперативных прилавков. В стеклянной галерее ГУМа движение больше, чем на самой людной улице Самары или Одессы. Универмаг Мосторга за субботний день пропускает сквозь свои зеркальные двери столько покупателей, что если бы их запереть в магазине, то можно было бы организовать здесь большой губернский город, настоящий - там были бы и свои рабочие, и профессора, и врачи, и журналисты, и нетрудовые элементы. Было бы только немного тесновато. К шуму, который усердно производят машины и извозчики, присоединяется кислый визг продавцов духов, старых книг, дамских чулок или крысиного мора. Китайцы у Третьяковского проезда восхваляют свои портфели и сумочки, пятновыводчики хватают прохожих за рукава и насильно уничтожают пятна у них на одеждах. Средство для склеивания разбитой посуды предлагается с такой настойчивостью, как если бы от того, купят его или не купят, зависело счастье или несчастье всего человечества. Небо чернеет от дыма, ветер гоняет пыль столбиками. Московский день продолжается.
Множество событий, замечательных и крохотных, совершается в большом городе. А толпы циркулируют все поспешней. Надвигается дождь, собиравшийся уже с полдня; готов обед дома, и тесно стало в столовых, закусочных и ресторанчиках. 5-й час дня. Обратные валы катятся с завода по Пятницкой, Тверской, по Мещанским, Арбату, по всем артериям столицы. Учреждения извергают из своих недр канцеляристов. Трамвай подвергается нападению, еще более ожесточенному, чем утром. Истошными голосами выкрикивается название вечерней газеты. Вегетарианцы - пожиратели бураков - забегают в столовую под сладеньким названием "Примирись" или "Убедись". Толчея деловая или бездельная усиливается, но это уже последняя вспышка. День догорает и дымится. После короткого отдыха, после получасового затишья на улице и площадях движение снова усиливается, на этот раз по совершенно новым направлениям. Утром передвижка населения происходит из домов на предприятия, в банки, школы, вузы, редакции и канцелярии. В послеобеденное время целью передвижения являются спортплощадки, клубы, читальни и парки. На Ленинградском шоссе 15-тысячная толпа с трудом пробирается через узкие ворота на стадион. Над толпой беспомощно пляшут фигуры конных милиционеров. А по аллеям и велосипедным дорожкам Петровского парка торопятся на футбольный матч еще новые группы, кучки и колонны людей.
Низко и тихо идет на посадку алюминиевый "юнкерс", прилетевший из Германии. Когда он пролетает над футбольным полем, пассажиры его видят густо усаженные зрителями деревянные трибуны, мяч, задержавшийся в воздухе, и обе команды, перемешавшиеся в игре. На спортплощадках, в гимнастических залах молодежь тренируется и в этом находит настоящий отдых. Солнце, раскидавшее в последнюю минуту мягкие лепные облака, отражается в оконных стеклах малиновым сиропом и оседает за крыши одноэтажных домиков на окраине. Наступил час лекций, театров, время яростных диспутов о лит. и половых проблемах, о Волго-Доне и засухоустойчивых злаках. Центрами притяжения становится Свердловская пл. с ее тремя театрами,

Деловой клуб на Мясницкой, Садово-Триумфальная, иллюминированная световыми надписями кино, и все цирки, многочисленные клубы и красные уголки. Из задымленных пивных и ресторанчиков под утешительными названиями "Друг желудка" или "Хризантема" вырывается на улицу струнная музыка и скороговорка рассказчика. Здесь заседают друзья пива и воблы, любители водки стопками или графинчиками.

У тесового забора Ермаковского ночлежного дома выстроились в очереди оставшиеся без ночлега приезжие и завсегдатаи этого места, деклассированные забулдыги, промышляющие нищенством, а порою и кражами. Но маневрирующие паровозы свистят по-прежнему, в газетных цинкографиях вспышками возникает фиолетовый свет, электрический город Могэса, расположенный у Москвы-реки, работает безостановочно. Трудовой шум заглушает все. И даже когда по календарю глухая ночь, когда закрылись театры, и клубы, и рестораны, когда пустеют улицы и мосты сонно висят над рекой, - даже и тогда светятся кремлевские здания и шумно дышит Могэс. В столице труда и плана работа не прекращается никогда.
1928
"КАК ДЕЛАЕТСЯ ВЕСНА"
Весна в Москве делается так .Сначала в магазинной витрине фирмы "Октябрьская одежда", принадлежащей частному торговцу И. А. Лапидусу, появляется лирический плакат:

Прочитав этот плакат, прохожие взволнованно начинают нюхать воздух. Но фиалками еще не пахнет. Пахнет только травочкой-зубровочкой, настоечкой для водочки, которой торгуют в Охотном ряду очень взрослые граждане в оранжевых тулупах. Падает колючий, легкий, как алюминий, мартовский снег. И как бы ни горячился Лапидус, до весны еще далеко. Потом на борьбу с климатом выходят гастрономические магазины.

В день, ознаменованный снежной бурей, в окне роскошнейшего из кооперативов появляется парниковый огурец. Нежно-зеленый и прыщеватый, он косо лежит среди холодных консервных банок и манит к себе широкого потребителя. Долго стоит широкий потребитель у кооперативного окна и пускает слюни. Тогда приходит узкий потребитель в пальто с воротничком из польского бобра и, уплатив за огурец 1,5 руб., съедает его. Через неделю в универмагах поступают в продажу маркизет, вольта и батист всех оттенков черного и булыжного цветов. Отныне не приходится больше сомневаться в приближении весны. Горячие головы начинают даже толковать о летних путешествиях. И хотя снежные вихри становятся сильнее и снег трещит под ногами, как гравий,- весенняя тревога наполняет город.
Три писателя из лит. объединения "Кузница и усадьба" также путем печати оповещают всех, что пройдут пешком по всей стране, бесплатно починяя по дороге кастрюли и сапоги беднейших колхозников. Цель - ознакомление с бытом трудящихся и собирание материалов для грядущих романов. Универмаги делают еще одну отчаянную попытку. Они устраивают большие весенние базары. Зима отвечает на это ледяным ураганом, большим апрельским антициклоном. Снег смерзается и звенит, как железо. Морозные трубы вылетают из ноздрей и ртов граждан. Извозчики плачут, тряся синими юбками. В это время в универмагах продают минеральные стельки "Арфа", радикально предохраняющие от пота ног. Горячие головы и энтузиасты покупают минеральные стельки и радостно убеждаются в том, что соединенными усилиями мороза и кооперации качество стелек поставлено на должную высоту - ноги действительно не потеют. А снег все падает.
Не обращая на это внимания, вечерняя газета объявляет, что прилетели из Египта первые весенние птички - колотушка, бибрик и синайка. Читатель теряется. Он только что запасся саженью дров сверх плана, а тут на тебе - прилетели колотушка, бибрик и синайка, птицы весенние, птицы, которые в своих клювах привозят голубое небо и жаркие дни. Но, поразмыслив и припомнив кое-что, читатель успокаивается и закладывает в печь несколько лишних поленьев .Он вспомнил, что каждый год читает об этих загадочных птичках, что никогда они еще не делали весны и что самое существование их лежит на совести вечерней газеты. Тогда "вечорка" в отчаянии объявляет, что на Большой Ордынке, в доме № 93, запел жук-самец и что более явственного признака прихода весны и требовать нельзя. В этот же день разражается певучая снежная метель, и в диких ее звуках тонут выкрики газетчиков о не вовремя запевшем самце с Большой Ордынки. Наконец галки начинают тяжело реять над городом и по оттаявшим железным водосточным трубам с грохотом катятся куски льда. Наконец граждане получают реванш за свою долготерпеливость. С удовольствием и сладострастием они читают в отделе происшествий за 22 апреля:
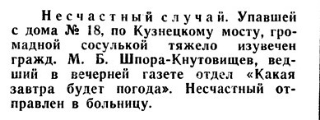
Повеселевшие граждане с нежностью озирают ручейки, которые, вихляясь, бегут вдоль тротуарных бордюров, и даже начинают с симпатией думать о Шпоре-Кнутовищеве, хотя этот порочный человек с февраля месяца не переставал долбить о том, что весна будет ранняя и дружная. Тут, кстати, появляется в печати очерк о Кисловодске, принадлежащий перу 3-х писателей из группы "Кузница и усадьба". И граждане, удивляясь тому, как быстро теперь ходят писатели пешком, убеждаются в том, что весна действительно не только наступила, но уже и прошла.
1929
http://az.lib.ru/i/ilfpetrov/text_0270.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 03 Авг 2023, 14:54 | Сообщение # 49 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 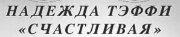
Да, один раз я была счастлива. Я давно определила, что такое счастье, очень давно - в 6 лет. А когда оно пришло ко мне, я его не сразу узнала. Но вспомнила, какое оно должно быть, и тогда поняла, что я счастлива.
Я помню: мне 6 лет, моей сестре - 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны. И мы молчим. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег. Если бы мы были большие, мы бы думали о людской злобе, об обидах, о нашей любви, которую оскорбили, и о той любви, которую мы оскорбили сами, и о счастье, которого нет. Но мы - дети, и мы ничего не знаем. Мы только молчим. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел и потемнел весь этот большой, гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть, все ушли из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в темной огромной комнате?
Около своего плеча вижу испуганный, круглый глаз сестры. Она смотрит на меня - заплакать ей или нет? И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление, такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу.
- Лена! Я сегодня видела конку! - говорю я громко и весело.

Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня конка. Лошади были белые и бежали скоро-скоро; сам вагон был красный или желтый, красивый, народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте, - а может быть, и не весь, а только немножко, на пуговицах,- и трубил в золотую трубу. Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами. Как расскажешь это все! Можно сказать только:
- Лена! Я видела конку!
Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения.И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости и понестись под звоны солнечной трубы? - Ррам-рра-ра! Нет, не всякий. Фрейлейн говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. Нас запирают в скучную, затхлую карету с дребезжащим окном, пахнущую сафьяном и пачулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу. Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!
Я зашла далеко, на окраину города. И дело, по которому я пришла, не выгорело, и жара истомила меня. Кругом глухо, ни одного извозчика. Но вот, дребезжа всем своим существом, подкатила одноклячная конка. Лошадь, белая, тощая, гремела костями и щелкала болтающимися постромками о свою сухую кожу. Зловеще моталась длинная белая морда: "Измывайтесь, измывайтесь, а вот как сдохну на повороте - все равно вылезете на улицу".
Безнадежно унылый кондуктор подождал, пока я влезу, и безнадежно протрубил в медный рожок.- Ррам-рра-ра! И больно было в голове от этого резкого медного крика и от палящего солнца, ударявшего злым лучом по завитку трубы. Внутри вагона было душно, пахло раскаленным утюгом. Какая-то темная личность в фуражке с кокардой долго смотрела на меня мутными глазами и вдруг, словно поняла что-то, осклабилась, подсела и сказала, дыша мне в лицо соленым огурцом:- Разрешите мне вам сопутствовать.
Я встала и вышла на площадку. Конка остановилась, подождала встречного вагона и снова задребезжала. А на тротуаре стояла маленькая девочка и смотрела нам вслед круглыми голубыми глазами удивленно и восторженно.
И вдруг я вспомнила."Мы будем ездить на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!"
Ведь я, значит, счастливая! Я еду на конке и могу познакомиться со всеми пассажирами, и кондуктор трубит, и горит солнце на его рожке. Я счастлива! Я счастлива! Но где она, та маленькая девочка в большом темном зале, придумавшая для меня это счастье? Если бы я могла найти ее и рассказать ей, она бы обрадовалась. Как страшно, что никогда не найду ее, что нет ее больше и никогда не будет ее, самой мне родной и близкой,- меня самой. А я живу...
https://skazki.rustih.ru/nadezhda-teffi-schastlivaya/
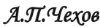
"САМООБОЛЬЩЕНИЕ"
Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку, а именно: сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо отдать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мыслей и проч.
- Я силен! Хочу - подкову сломаю, хочу - человека с кашей съем. Могу и Карфаген разрушить и гордиевы узлы мечом рассекать. Вот какой я! - говорил он.
Он кичился, и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде курса и не читал прописей; он не знал, что самообольщение и гордость суть пороки, недостойные благородной души. Но случай вразумил его...
Однажды зашел он к своему другу, старику брандмейстеру, и, увидев там многочисленное общество, начал кичиться. Выпив же три рюмки водки, он выпучил глаза и сказал: - Глядите, ничтожные! Глядите и разумейте! Солнце, которое вот на небеси с прочими светилами и облаками! Оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь! Я же могу! Могу!
Старик брандмейстер подал ему четвертую рюмку и заметил дружески: - Верю-с! Для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум всё превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить, и с мертвого взятку взять… всё может! Но, Петр Евтропыч, смею вам присовокупить, есть одно, чего не может побороть не только ум человеческий, но даже и ваша сила.
- Что же это такое? - презрительно усмехнулся самообольщенный.
- Вы можете всё пересилить, но не можете пересилить самого себя. Да-с! «Гноти се автон», - говорили древние. Познай самого себя…А вы себя ни познать, ни пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь. Да-с!
- Нет, пойду! И себя пересилю!
- Ой, не пересилите! Верьте старику, не пересилите!
Поднялся спор. Кончилось тем, что старик брандмейстер повел гордеца в мелочную лавочку и сказал: - Сейчас я вам докажу-с… У этого вот лавочника в этой шкатулке лежит десятирублевка. Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег…
- И не возьму! Пересилю!
Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно сунул ее к себе в карман.
- Да! Теперь понимаю - сказал он.
И с тех пор он уж никогда не кичился своей силой.
http://chehov-lit.ru/chehov/text/samoobolschenie.htm

В июне того года он гостил у нас в имении - всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. 15 июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром 16-го привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:
- Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!
На Петров день к нам съехалось много народу, - были именины отца, и за обедом он был объявлен моим женихом. Но 19 июля Германия объявила России войну...
В сентябре он приехал к нам всего на сутки - проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал: - Удивительно ранняя и холодная осень!
Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, - мы знали какой, - и это было трогательно и жутко. Отец спросил:
- Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?
- Да, если позволите, утром. Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому. - ответил он.
Отец легонько вздохнул:
- Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...
Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, я вздумала раскладывать пасьянс, он молча ходил из угла в угол, потом спросил:
- Хочешь, пройдемся немного?
На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:
- Хорошо...
Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:
Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...
- Капота нет, - сказала я. - А как дальше?
- Не помню. Кажется, так:
Смотри - меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает...
- Какой пожар?
- Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой!
- Что ты?
- Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...
Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:
- Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.
- Как блестят глаза, \тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?
Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок, ведь все в конце концов забывается?»
И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:
- Не говори так! Я не переживу твоей смерти!
Он, помолчав, медленно выговорил:
- Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.
Я горько заплакала...
Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером, в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед, и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...
Убили его - какое странное слово! - через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых 30 лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым...
Весной 18-го года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?»
Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, - то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет 17-ти, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, - я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, - и пробыли на Дону и на Кубани больше 2-х лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок 7 месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца...
Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в 1912 г . и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!
Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни - остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня - с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...»
Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.
https://ilibrary.ru/text/1055/p.1/index.html

Теперь уже редко бываю в тех местах: занесло, затянуло, залило, забило песком последние сеймские омута.
Вот, говорят, раньше реки были глубже... Зачем же далеко в историю забираться?
В не так далекое время любил я наведываться под Липино, верстах в 25 от дома. В самый раз против древнего обезглавленного кургана, над которым в знойные дни завсегда парили коршуны, была одна заветная яма. В этом месте река, упершись в несокрушимую девонскую глину, делает поворот с таким норовом, что начинает крутить целиком весь омут, создавая обратно - круговое течение. Часами здесь кружат, никак не могут вырваться на вольную воду щепа, водоросли, торчащие горлышком вверх бутылки, обломки вездесущего пенопласта, и денно и нощно урчат, булькают и всхлипывают страшноватые воронки, которых избегают даже гуси. Ну а ночью у омута и вовсе не по себе, когда вдруг гулко, тяжко обрушится подмытый берег или полоснет по воде плоским хвостом, будто доской, поднявшийся из ямы матерый хозяин-сом.
Как-то застал я перевозчика Акимыча возле своего шалаша за тайным рыбацким делом. Приладив на носу очки, он сосредоточенно выдирал золотистый корд из обрезка приводного ремня - замышлял перемет. И все сокрушался: нет у него подходящих крючков. Я порылся в своих припасах, отобрал самых лихих, гнутых из вороненой двухмиллиметровой проволоки, которые когда-то приобрел просто так, для экзотики, и высыпал их в Акимычеву фуражку. Тот взял один непослушными, задубелыми пальцами повертел перед очками и насмешливо посмотрел на меня, сощурив один глаз: – А я думал и вправду крюк. Придется в кузне заказывать. А эти убери со смеху.
Не знаю, заловил ли Акимыч хозяина Липиной ямы, потому что потом по разным причинам образовался у меня перерыв, не стал я ездить в те места. Лишь спустя несколько лет довелось, наконец, проведать старые свои сижи. Поехал и не узнал реки.
Русло сузилось, затравенело, чистые пески на излучинах затянуло дурнишником и жестким белокопытником, объявилось много незнакомых мелей и кос. Не стало приглубых тягунов-быстрин, где прежде на вечерней зорьке буравили речную гладь литые, забронзовелые язи. Бывало, готовишь снасть для проводки, а пальцы никак не могут попасть лесой в колечко – такой охватывает азартный озноб при виде крутых, беззвучно расходящихся кругов... Ныне все это язевое приволье ощетинилось кугой и пиками стрелолиста, а всюду, где пока свободно от трав, прет черная донная тина, раздобревшая от избытка удобрений, сносимых дождями с полей.
"Ну уж, – думаю, – с Липиной ямой ничего не случилось. Что может статься с такой пучиной!"
Подхожу и не верю глазам: там, где когда-то страшно крутило и водоворотило, горбом выпер грязный серый меляк, похожий на большую околевшую рыбину, и на том меляке – старый гусак. Стоял он этак небрежно, на одной лапе, охорашиваясь, клювом изгоняя блох из-под оттопыренного крыла. И невдомек глупому, что еще недавно под ним было 6-7 м. черной кипучей глубины, которую он же сам, возглавляя выводок, боязливо оплывал сторонкой. Глядя на зарастающую реку, едва сочившуюся присмиревшей водицей, Акимыч горестно отмахнулся: – И даже удочек не разматывай! Не трави душу. Не стало делов, Иваныч, не стало!
Вскоре не стало на Сейме и самого Акимыча, избыл его старый речной перевоз...
На берегу, в тростниковом шалаше, мне не раз доводилось коротать летние ночи. Тогда же выяснилось, что мы с Акимычем, оказывается, воевали в одной и той же горбатовской третьей армии, участвовали в "Багратионе", вместе ликвидировали Бобруйский, а затем и Минский котлы, брали одни и те же белорусские и польские города. И даже выбыли из войны в одном и том же месяце. Правда, госпиталя нам выпали разные: я попал в Серпухов, а он – в Углич. Ранило Акимыча бескровно, но тяжело: дальнобойным фугасом завалило в окопе и контузило так, что и теперь, спустя десятилетия, разволновавшись, он внезапно утрачивал дар речи, язык его будто намертво заклинивало, и Акимыч, побледнев, умолкал, мучительно, вытаращенно глядя на собеседника и беспомощно вытянув губы трубочкой. Так длилось несколько минут, после чего он глубоко, шумно вздыхал, поднимая при этом острые, худые плечи, и холодный пот осыпал его измученное немотой и окаменелостью лицо.
"Уж не помер ли?" – нехорошо сжалось во мне, когда я набрёл на обгорелые останки Акимычева шалаша.
Ан – нет! Прошлой осенью иду по селу, мимо новенькой белокирпичной школы, так ладно занявшей зеленый взгорок над Сеймом, гляжу. а навстречу – Акимыч! Торопко гукает кирзачами, картузик, телогреечка внапашку, на плече – лопата.
– Здорово, друг сердечный! – раскинул я руки, преграждая ему путь.
Акимыч, бледный, с мучительно одеревеневшими губами, казалось, не признал меня вовсе. Видно, его что-то вывело из себя и, как всегда в таких случаях, намертво заклинило.
– Ты куда пропал-то?! Не видно на реке.
Акимыч вытянул губы трубочкой, силясь что-то сказать.
– Гляжу, шалаш твой сожгли.
Вместо ответа он повертел указательным пальцем у виска, мол, на это большого ума не надо.
- Так ты где сейчас, не пойму?
Все еще не приходя в себя, Акимыч кивнул головой в сторону школы.
– Ясно теперь. Сторожишь, садовничаешь. А с лопатой куда?
– А-а? – вырвалось у него, и он досадливо сунул плечом, порываясь идти.
Мы пошли мимо школьной ограды по дороге, обсаженной старыми ивами, уже охваченными осенней позолотой. В природе было еще солнечно, тепло и даже празднично, как иногда бывает в начале погожего октября, когда доцветают последние звездочки цикория и еще шарят по запоздалым шапкам татарника черно-бархатные шмели. А воздух уже остер и крепок и дали ясны и открыты до беспредельности. Прямо от школьной ограды, вернее, от проходящей мимо нее дороги, начиналась речная луговина, еще по-летнему зеленая, с белыми вкраплениями тысячелистника, гусиных перьев и каких-то луговых грибов. И только вблизи придорожных ив луг был усыпан палым листом, узким и длинным, похожим на нашу сеймскую рыбку-верховку. А из-за ограды тянуло влажной перекопанной землей и хмельной яблочной прелью. Где-то там, за молодыми яблонями, должно быть, на спортивной площадке, раздавались хлесткие шлепки по волейбольному мячу, иногда сопровождаемые всплесками торжествующих, одобрительных ребячьих вскриков, и эти молодые голоса под безоблачным сельским полднем тоже создавали ощущение праздничности и радости бытия. Все это время Акимыч шел впереди меня молча и споро, лишь когда минули угол ограды, он остановился и сдавленно обронил: – Вот, гляди...
В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги. Большая и все еще миловидная лицом, с легкой, едва обозначенной улыбкой на припухлых по-детски губах. Но светлые шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа зияла дыра, прожженная, должно быть, сигаретой. Кто-то сорвал с нее платье, а голубенькие трусики сдернул до самых башмаков, и то место, которое прежде закрывалось ими, тоже было истыкано сигаретой.
– Это чья же работа?
– Кто ж их знает... – не сразу ответил Акимыч, все еще сокрушенно глядя на куклу, над которой кто-то так цинично и жестоко глумился. – Нынче трудно на кого думать. Многие притерпелись к худу и не видят, как сами худое творят. А от них дети того набираются. С куклой это не первый случай. Езжу я и в район, и в область и вижу: то тут, то там – под забором ли, в мусорной куче – выброшенные куклы валяются. Которые целиком прямо, в платье, с бантом в волосах, а бывает, – без головы или: без обеих ног... Так мне нехорошо видеть это! Аж сердце комом: сожмется... Может, со мной с войны такое. На всю жизнь; нагляделся я человечины... Вроде и понимаешь: кукла. Да, ведь облик-то человеческий. Иную так сделают, что и от живого дитя не отличишь. И плачет по-людски. И когда это подобие валяется растерзанное у дороги – не могу видеть. Колотит меня всего. А люди идут мимо – каждый по своим делам, – и ничего... Проходят парочки, за руки держатся, про любовь говорят, о детках мечтают. Везут малышей в колясках – бровью не поведут. Детишки бегают – привыкают к такому святотатству. Вот и тут: сколько мимо прошло учеников! Утром – в школу, вечером – из школы. А главное – учителя: они ведь тоже мимо проходят. Вот чего не понимаю. Как же так?! Чему же ты научишь, какой красоте, какому добру, если ты слеп, душа твоя глуха!... Эх!...
Акимыч вдруг побледнел, лицо напряглось той страшной его окаменелостью, а губы сами собой вытянулись трубочкой, будто в них застряло и застыло что-то невысказанное. Я уже знал, что Акимыча опять "заклинило" и заговорит он теперь нескоро. Он сутуло, согбенно перешагнул кювет и там, на пустыре, за поворотом школьной ограды, возле большого лопуха с листьями, похожими на слоновые уши, принялся копать яму, предварительно наметив лопатой ее продолговатые контуры. Ростом кукла была не более метра, но Акимыч рыл старательно и глубоко, как настоящую могилку, зарывшись по самый пояс. Обровняв стенку, он все так же молча и отрешенно сходил к стожку на выгоне, принес охапку сена и выстлал им днище ямы. Потом поправил на кукле трусишки, сложил ее руки вдоль туловища и так опустил в сырую глубину ямы. Сверху прикрыл ее остатками сена и лишь после этого снова взялся за лопату. И вдруг он шумно вздохнул, будто вынырнул из какой-то глубины, и проговорил с болью: – Всего не закопать...
https://needlewoman.ru/skazki....yu.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 03 Апр 2024, 12:32 | Сообщение # 50 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7556
Статус: Offline | 
Так весело было в саду! Цвела черемуха, высоко в воздухе вздымая пенистые гроздья цветов. Сережки на березах уже отцвели, но сквозным кружевным шатром зыбилась на ветру молодая, еще изумрудная листва. На старой лиственнице у пристани по всем липам свежо зеленели пучками мягкие иголочки, и между ними алые точки - цвет. На клумбе темными сморчками повылезли из теплой земли еще не развернувшиеся листья пионов. Воробьи стайками перелетали с клена на березу, с березы на крышу сарая: кричали, кувыркались, дрались, просто так от избытка жизни, как дерутся школьники, разбегаясь по домам после уроков. Над скворечницей, как приклеенный, сидел на кленовой ветке скворец, смотрел на солнце, на веселую рябь речонки…
В такой чудесный день никакие хозяйственные заботы в птичью голову не шли. А вдоль решетчатого забора, отделявшего сад от соседней усадьбы, бешено носились псы: по ту сторону, распластавшись почти до земли, шоколадно-черная такса, по эту - дворняжка Тузик, лохматая серая муфта с хвостом в виде вопросительного знака. Добегали до края ограды, поворачивались и стремительно мчались назад. До тех пор, пока, высунув языки, в изнеможении не падали наземь. Бока ходили ходуном, глаза весело перемигивались. Мчаться вперед… Большего собачьего удовольствия ведь и на свете нет!
Внизу, за еще сквозными кустами сирени, покачивалась на Крестовке пристань. Мало кто из петербуржцев знал, что в самой столице выбегает к Елагину мосту такая захолустная речонка, омывая северный край Крестовского острова. А речка была славная… Переливалась солнечной чешуей вода. Микроскопические рыбки оплывали хороводом пестрые сваи перед домами. Посредине во всю длину тянулась узкая, обсаженная черемухой, коса. Против середины косы вздымался большой сарай, и желтел покатый к воде спуск: английский гребной клуб. Из сарая шестеро тоненьких юношей в белых фуфайках и кепках вынесли длинную, длинную легкую гичку, будто пила-рыба на двенадцати ногах купаться пошла. Спустили лодку на воду, уселись и понеслись к Елагину острову, плавно, в такт гребли, откатываясь на подвижных сиденьях назад для нового взмаха. Сын прачки, помогавший матери на берегу укладывать белье в корзину, посмотрел вслед и сам себя от удовольствия ногой лягнул.
У пристани, внизу, отчаянно скрипела на цепочке и шлепалась о воду лодка. Да и как ей было не скрипеть и не шлепать, когда тройка озорных мальчишек перелезла по отмели через забор, забралась в лодку и изо всех сил стала ее раскачивать. Вправо - влево, вправо - влево… Вот-вот краем зачерпнет воды до самого борта! Плывший на плоскодонном челне старичок в малиновом гарусном шарфе лениво шарил глазами по прибрежным кустам. То там, то сям покачивались прибитые к берегу поленья, чурбашки либо обломки досок. Старичок подтягивал багром добычу, укладывал поперек челна и медленно шлепал по воде дальше. Засмотрелся на далекие старые ветлы вдоль окраинной дороги Елагина острова, послушал, как на мостике справа гудят копыта, скрестил руки и весла и позабыл про свои дрова. А в Крестовку с Невы вплыла новая компания; писаря с гармошками, девушки с цветными, похожими на детские воздушные шары, зонтиками. Легкая песенка под перебор веселых ладов прокатилась по речушке, легкие волны светлыми горбиками поплыли к берегам. Скворец в саду на кленовой ветке внимательно склонил голову: знакомая песня! В прошлом году он ее здесь слышал, - не та ли самая компания в лодках проплывает?..
Всем было весело в этот весенний день: воробьям на крыше сарая, таксе и дворняжке, отдыхавшим у ворот после гонки вдоль забора, неизвестным мальчишкам в привязанной лодке, молодым англичанам, выплывавшим на гичке к Стрелке, писарям и девушкам на Крестовке. Даже чья-то старая-старая бабушка, отдыхавшая по ту сторону сада в плетеном кресле на балконе, подставляла легкому ветру ладонь, шевелила пальцами и улыбалась: так мирно блестела сквозь зеленеющие вершины река, так плавно звучали по реке голоса, так бодро, отставив генеральский хвост по ветру, шагал по двору рыжий петух мимо самого носа распластавшейся на теплом бревне кошки.
В длинном, примыкающем к саду флигеле тоже было радостно и уютно. В кабинете на письменном столе сидел рыжий котенок и, удивленно прислушиваясь, потрагивал лапкой басовую струну мандолины. В шкафу кротко блестели золотыми буквами корешки книг. Они отдыхали. А на стене, над старым, похожим на мягкую гитару, диваном висели портреты тех, кто книги эти когда-то написал; курчавый, благосклонный Пушкин, седые, бородатые Тургенев и Толстой, гусар Лермонтов с вздернутым носиком. В ясный цвет сине-кубовых обой были выкрашены и двери и рамы. Ветер сквозь форточку вздувал тюлевую занавеску, будто парус надувал. Ему ведь все равно, лишь бы забавляться. Чужеземный фикус подымал свежевымытые листья к окну, заглядывал в сад: «Какая у них тут в Петербурге весна?» За отдернутой портьерой виднелась милой терракотовой окраски столовая.
На карнизе кафельной печки сидела пучеглазая, румяная матрешка: одна нога босая, точно обсосанная, другая - в роскошной бархатной валенке. Сбоку дремал дубовый буфет с верхним этажом на львиных лапах. За гранеными стеклами блестел прабабушкин чайный сервиз, темно-голубой в золотых виноградинах. Вверху бились вдоль окна молодые весенние мухи, волновались, искали выхода в сад. На овальном столе лежала детская книга, раскрытая на картинке. Раскрашивали ее, должно быть, детские руки: кулаки у человеков были синие, лица - зеленые, а курточки и волосы телесного цвета, - иногда ведь так приятно раскрасить совсем не так, как в жизни полагается. С кухни доносился веселый, дробный стук сечки: кухарка рубила мясо для котлет и в такт стуку и тиканью стенных часов мурлыкала какую-то котлетную польку. Перед закрытой стеклянной дверью, ведущей из столовой в сад, стояли, прижав к стеклу носы, две девочки, две сестры. Если бы кто из сада на них взглянул, сразу бы увидел, что только им во всем саду и доме в этот солнечный весенний день было грустно. У старшей Вали даже слезинка блестела на щеке, вот-вот капнет на передничек. А младшая, Катюша, надутая-пренадутая, сердито смотрела на скворца, сдвинув пухлые брови, точно скворец ее куклу клюнул или через форточку пышку с маком унес.
Дело, конечно, не в пышке. Только что прочли они в первый раз в жизни страницу за страницей по очереди «Кавказского пленника» Толстого и разволновались ужасно. Раз написано, значит, настоящая правда. Это ведь не детская сказка про Бабу Ягу, которую, может быть, взрослые нарочно выдумали, чтобы детей пугать. Старших никого не было: мама уехала на крестовской конке на Петербургскую сторону за покупками, отец в банке - на службе. Кухарка про «Кавказского пленника», разумеется, не знает, няня в гости укатила, кума у нее именинница. Можно было бы няне все своими словами пересказать, у нее ведь сын фельдфебелем на Кавказе служит, письма ей пишет. Может быть, она от него узнает: правда ли? мучают ли так людей? Или когда-то мучили, а теперь запрещено?..
- Что ж, все-таки удрал он в конце концов благополучно, - сказала со вздохом Катюша.
Ей уже надоело кукситься, день был такой светлый. И раз окончание хорошее, значит, не стоит особенно и горевать.
- Может, Жилин потом со своими солдатами устроил засаду и поймал в плен тех самых татар, которые его мучили… Правда?
- И больно-пребольно велел их высечь! - обрадовалась Валя. — Крапивой! Вот вам, вот вам! Чтоб не мучили, чтоб в яму не сажали, чтоб колодок не надевали… Не кричать! Не сметь кричать… А то еще получите.
Впрочем, Валя сейчас же и передумала:
- Нет, знаешь, сечь их не надо. Жилин бы только презрительно посмотрел на них и сказал: «Русские офицеры великодушны. Марш! На все четыре стороны. И зарубите себе на вашем кавказском носу, если вы еще раз посмеете сажать русских в яму, я вас всех отсюда из пушки, как капусту порублю! Слышите вы!. Татарской же девочке Дине, которая меня лепешками кормила, передайте георгиевскую медаль и вот эту русскую азбуку, чтоб она русской грамоте научилась и сама могла бы „Кавказского пленника“ прочесть. А теперь вон с моих глаз!
- Вон! - закричала Катюша и топнула каблучком в пол.
- Постой, не кричи, - сказала Валя. - И вот, когда она научилась читать по-русски, она тихонько удрала к Жилину и потом крестилась. И потом вышла за него замуж…
Катюша даже взвизгнула от удовольствия, так ей понравился такой конец. Теперь, когда они расправились с татарами и так хорошо устроили судьбу Дины и Жилина, им стало немного легче. Они надели калошки, вязаные кофточки, еле-еле открыли вдвоем набухшую дверь и вышли на крыльцо. Неизменный адъютант Тузик, виляя косматым хвостом, подбежал к девочкам. Сестры спрыгнули с крыльца и пошли по влажным дорожкам вокруг сада. Нечего, в самом деле, разбойникам потакать! В углу сада, у старой заброшенной оранжереи, девочки остановились над ямой. На дне горбом лежали прошлогодние, слежавшиеся листья. Они переглянулись и поняли друг друга без слов.
- А где ж мы пленных возьмем? - спросила младшая, с наслаждением втискивая в глину каблуком пустой вазон.
- Мишку посадим…
- Ну, конечно! А кто будет Диной?
- Я.
- Нет, я!..— Нет, я!..
Сестры подумали и решили, что спорить не стоит. Конечно, лучше быть Диной, чем свирепым татарином. Но сначала они обе будут татарами и поймают Мишку в плен. А потом Валя станет Диной, а Катюша ее подругой, и обе помогут пленникам бежать. Кто ж будет вторым пленником, Костылиным?Тузик угодливо завертел у девочкиных ног хвостом. Чего же и искать больше?
- Ми-ша, Мишечка, Мышонок!
- Чего надо? - звонко отозвался с улицы дворницкий мальчик Миша.
- Играть иди!
Через минуту Миша, дожевывая баранку, стоял перед сестрами. Он был совсем еще маленький, мальчик с пальчик, в надвинутом до самого носа картузе и привык во всем подчиняться девочкам из флигеля.
- Во что играть будем?
- В «Кавказского пленника», - объяснила Валя. - Да глотай ты скорей свою баранку! Ты будто Жилин, русский офицер. Ты будто из крепости к своей маме верхом едешь. Она тебе невесту приискала, хорошую и умницу, и имение у нее есть. А мы тебя в плен возьмем и в яму посадим. Понял!
- Сажайте, что ж.
- И Тузик с тобой. Вроде товарища. А лошадь под тобой мы застрелим.
- Стреляй, ладно.
Мишка сел верхом на прут и поскакал по дорожке, взбивая копытами грязь…
- Паф! Паф-паф! — закричали девочки с двух сторон. - Что ж ты не падаешь?! Вались с лошади, сию минуту вались…
- Не попали! - Мишка дерзко фыркнул, брыкнул ногой и помчался вдоль забора.
- Паф! Паф!
- Не попали…
Что с таким непонятливым мальчиком сделаешь? Сестры наперерез бросились к Мишке, стащили его с лошади и, подгоняя шлепками, потащили к яме. Еще упирается! Что это на него сегодня нашло…
- Постой, постой! - Валя полетела к флигелю и стрелой примчалась назад с постельным ковриком, чтоб Мишке мягче было на дне сидеть.Мишка спрыгнул, уселся. Тузик за ним, он сразу понял, в чем игра заключается.
- Чего теперь делать? - спросил Мишка из ямы, утирая ватным рукавом нос.
Катюша задумалась.
- Выкуп? Но Жилин бедный. И все равно обманет, что с него взять? А Тузик? Ведь он - Костылин, он богатый…
Девочки уселись в оранжерее на щербатой ступеньке и на дощечке нацарапали огрызком карандаша за Тузика все, что следовало: «Я попался им в лапы. Пришлите пять тысяч монет. Любящий вас пленник».
Дощечку мигом доставили дворнику Семену, который колол во дворе дрова, и, не ожидая ответа, побежали к яме.
Пленники вели себя очень странно. Хоть бы попытались удрать, что ли… Катались весело по коврику, задрав кверху ноги и лапы, и обдавали друг друга охапками ржавых листьев.
- Стоп! - закричала Валя. - Вот я вас сейчас рыжему татарину продам…
- Продавай, ладно, - равнодушно отозвался Мишка. - Как дальше играть-то?
- Ты куколок будто лепи и наверх нам бросай, мы теперь татарские девочки. А мы тебе за это лепешки бросать будем.
- Из чего лепить-то?
В самом деле. Не из листьев же. Валя опять слетала домой и принесла в корзинке плюшевого слона, резинового верблюда, матрешку, безногого паяца и платяную щетку, все, что на скорую руку в детской собрала. Да у кухарки выпросила три пирожка с капустой (еще вкуснее лепешек!). Покидали Мишке игрушки, а он их вихрем все сразу назад выбросил.
- Не так скоро! Чучело какое…
- Ладно. Давай лепешки!
С «лепешками» тоже вышло не совсем хорошо. Первый пирожок поймал на лету Тузик и с быстротой фокусника его проглотил. Угрем из-под Мишкиной подмышки вырвался, проглотил и второй. И только третий удалось передать на палочке кавказскому пленнику.

Потом девочки, пыхтя и толкая друг дружку, спустили в яму длинный шест, чтобы пленники, наконец, удрали. Но ни Мишка, ни Тузик даже с места не тронулись. Разве плохо в теплой яме? Над головой облака сквозь березки продираются, в кармане у Мишки еще кусок булки нашелся. Тузик стал блох искать, а потом к мальчику примостился, на коврике мягко, и ежом свернулся. Куда там еще бежать?Кричали девочки, сердились, приказывали. Кончилось тем, что сами в яму соскочили, уселись с пленниками рядом и тоже стали на облака смотреть. Ведь могло быть и четыре пленника. А бежать днем все равно не полагается. У Толстого так ведь и написано: «Звезды видны, а месяц еще не всходил»… Время еще есть. И колодки надо на всех набить, в оранжерее целую охапку дощечек нашли. Тузик в полусне покорно протянул девочкам лапу: «Набивайте хоть на все четыре, все равно сами и снимете».
Часа через два вернулась с петербургской стороны мама девочек. Обошла все комнаты, нет дочек. Посмотрела в сад: нет! Кликнула было няню, да вспомнила, что няня сегодня к куме в Галерную гавань отправилась. Кухарка ничего не знает. Дворник показал дощечку: «пять тысяч монет»… Что такое? Да и его Мишка бог весть куда провалился. Всполошилась она, вышла на крыльцо
- Дети! Ау… Валя! Ка-тю-ша!
И вдруг с конца сада, точно из-под земли, детские голоса:
- Мы здесь!
- Где здесь?!
- В оранжерее…
Побежала мать на голоса. И что же! Сидят, прижавшись плечо к плечу, в яме на коврике все четверо: Мишка, Тузик и девочки, и у всех глаза от удовольствия блестят.
- Что вы здесь делаете?
- Мы кавказские пленники.
- Какие там пленники! Ведь сыро же здесь… Сейчас же марш домой!..
Вскарабкались девочки по шесту, Мишка за ними, а Тузик и без шеста обошелся. Идут домой, к матери с двух сторон, как котята, жмутся. Даже непонятно им самим, как это утром их «Кавказский пленник» так расстроил? Ведь превеселая же, право, штука.
https://nukadeti.ru/rasskazy/chernyj-kavkazskij-plennik

Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный. Главная причина в том, что иностранных слов в нём до чёрта. Ну, взять французскую речь. Всё хорошо и понятно. Кескёсе, мерси, комси - всё, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова. А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой - беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением. От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы. Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились. Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами. Началось дело с пустяков.Мой сосед, не старый ещё мужчина, с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:
- А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?
- Пленарное, - небрежно ответил сосед.
- Ишь ты, - удивился первый, - то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.
- Да уж будьте покойны, - строго ответил второй. - Сегодня сильно пленарное и кворум такой подобрался, только держись.
- Да ну? - спросил сосед. - Неужели и кворум подобрался?
- Ей-богу ,- сказал второй.
- И что же он, кворум-то этот?
- Да ничего, - ответил сосед, несколько растерявшись. - Подобрался, и всё тут.
- Скажи на милость, - с огорчением покачал головой первый сосед. - С чего бы это он, а?
Второй сосед развёл руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:
- Вот вы, товарищ, небось, не одобряете эти пленарные заседания, а мне как-то они ближе. Всё как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня... Хотя я, прямо скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.
- Не всегда это, - возразил первый. - Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то да - индустрия конкретно.
- Конкретно фактически, - строго поправил второй.
- Пожалуй, - согласился собеседник. - Это я тоже допущаю. Конкретно фактически. Хотя как когда...
- Всегда, - коротко отрезал второй. - Всегда, уважаемый товарищ. Особенно, если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберёшься...На трибуну взошёл человек и махнул рукой. Всё смолкло. Только соседи мои, несколько разгорячённые спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе. На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед снова наклонился ко второму и тихо спросил:
- Это кто ж там такой вышедши?
- Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.
Оратор простёр руку вперёд и начал речь. И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причём второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он всё же был прав в только что законченном споре. Трудно, товарищи, говорить по-русски!
https://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-obezyanij-yazyk

"ЗАГАДКА"
Я ушел далеко за город. В широкой котловине тускло светились огни города, оттуда доносился смутный шум, грохот дрожек и обрывки музыки; был праздник, над окутанным пылью городом взвивались ракеты и римские свечи. А кругом была тишина. По краям дороги, за развесистыми ветлами, волновалась рожь, и тихо трещали перепела; звезды теплились в голубом небе. Ровная, накатанная дорога, мягко серея в муравке, бежала в даль. Я шел в эту темную даль, и меня все полнее охватывала тишина. Теплый ветер слабо дул навстречу и шуршал в волосах; в нем слышался запах зреющей ржи и еще чего-то, что трудно было определить, но что всем существом своим говорило о ночи, о лете, о беспредельном просторе полей. Все больше мною овладевало странное, но уже давно мне знакомое чувство какой-то тоскливой неудовлетворенности.
Эта ночь была удивительно хороша. Мне хотелось насладиться, упиться ею досыта. Но по опыту я знал, что она только измучит меня, что я могу пробродить здесь до самого утра и все-таки ворочусь домой недовольный и печальный. Почему? Я сам не понимаю... Я не могу иначе, как с улыбкою, относиться к одухотворению природы поэтами и старыми философами, для меня природа как целое мертва. В ней нет души, в ней нет свободы... Но в такие ночи, как эта, мой разум замолкает, и мне начинает казаться, что у природы есть своя единая жизнь, тайная и неуловимая; что за изменяющимися звуками и красками стоит какая-то вечная, неизменная и до отчаяния непонятная красота. Я чувствую, - эта красота недоступна мне, я не способен воспринять ее во всей целости; и то немногое, что она мне дает, заставляет только мучиться по остальному.
Никогда еще это настроение не овладевало мною так сильно, как теперь. Огни города давно скрылись. Кругом лежали поля. Справа, над светлым морем ржи, темнел вековой сад барской усадьбы. Ночная тишина была полна жизнью и неясными звуками. Над рожью слышалось как будто чье-то широкое сдержанное дыхание; в темной дали чудились то песня, то всплеск воды, то слабый стон; крикнула ли это в небе спугнутая с гнезда цапля, пискнула ли жаба в соседнем болоте, - бог весть... Теплый воздух тихо струился, звезды мигали, как живые. Все дышало глубоким спокойствием и самоудовлетворением, каждый колебавшийся колос, каждый звук как будто чувствовал себя на месте, и только я один стоял перед этой ночью, одинокий и чуждый всему. Она жила для себя. Мне было обидно, что ни одной живой души, кроме меня, нет здесь. Но я чувствовал, что ей самой, этой ночи, глубоко безразлично, смотрит ли на нее кто или нет и как к ней относится. Не будь и меня здесь, вымри весь земной шар,-- и она продолжала бы сиять все тою же красотою, и не было бы ей дела до того, что красота эта пропадает даром, никого не радуя, никого не утешая.
Слабый ветер пронесся с запада, ласково пригнул головки, полевых цветов, погнал волны по ржи и зашумел в густых липах сада. Меня потянуло в темную чащу лип и берез. Из людей я там никого не встречу: это усадьба старухи помещицы Ярцевой, и с нею живет только ее сын-студент; он застенчив и молчалив, но ему редко приходится сидеть дома; его наперерыв приглашают соседние помещицы и городские дамы. Говорят, он замечательно играет на скрипке и его московский учитель-профессор сулит ему великую будущность. Я прошел по меже к саду, перебрался через заросшую крапивою канаву и покосившийся плетень. Под деревьями было темно и тихо, пахло влажною лесною травою. Небо здесь казалось темнее, а звезды ярче и больше, чем в поле. Вокруг меня с чуть слышным звоном мелькали летучие мыши, и казалось, будто слабо натянутые струны звенят в воздухе. С деревьев что-то тихо сыпалось. В траве, за стволами лип; слышался смутный шорох и движение. И тут везде была какая-то тайная и своя, особая жизнь...
На востоке начинало светлеть, но звезды над ивами плотины блестели по-прежнему ярко; внизу, под горою, по широкой глади пруда шел пар; открытая дверь купальни, странно поскрипывала в тишине. Однообразно кричал дергач. "Ччи-чи! Ччи-чи!" - спокойно и уверенно звучало в воздухе. Спокойно мерцали звезды, спокойно молчала ночь, и все вокруг дышало тою же уверенною в себе, нетревожною и до страдания загадочною красотою. Усталый, с накипавшим в душе глухим раздражением, я, присел на скамейку. Вдруг где-то недалеко за мною раздались звуки настраиваемой скрипки. Я с удивлением оглянулся: за кустами акаций белел зад небольшого флигеля, и звуки неслись из его раскрытых настежь, неосвещенных окон. Значит, молодой Ярцев дома... Музыкант стал играть. Я поднялся, чтобы уйти: грубым оскорблением окружающему казались мне эти искусственные человеческие звуки. Я медленно подвигался вперед, осторожно ступая по траве, чтоб не хрустнул сучок, а Ярцев играл...
Странная это была музыка, и сразу чувствовалась импровизация. Но что это была за импровизация! Прошло пять минут, десять, а я стоял не шевелясь и жадно слушал.Звуки лились робко, неуверенно. Они словно искали чего-то, словно силились выразить что-то, что выразить были не в силах. Не самою мелодией приковывали они к себе внимание - ее, в строгом смысле, даже и не было, а именно этим исканием, томлением по чем-то другом, что невольно ждалось впереди. - Сейчас уж будет настоящее - думалось мне. А звуки лились все так же неуверенно и сдержанно. Изредка мелькнет в них что-то - не мелодия, лишь обрывок, намек на мелодию, но до того чудную, что сердце замирало. Вот-вот, казалось, схвачена будет тема, и робкие ищущие звуки разольются божественно спокойною торжественною неземною песнью. Но проходила минута, и струны начинали звенеть сдерживаемыми рыданиями: намек остался непонятным, великая мысль, мелькнувшая на мгновенье, исчезла безвозвратно. Что это? Неужели нашелся кто-то, кто переживал теперь то же самое, что я? Сомнения быть не могло: перед ним эта ночь стояла такою же мучительною и неразрешимою загадкой, как передо мною.
Вдруг раздался резкий, нетерпеливый аккорд, за ним другой, третий, и бешеные звуки, перебивая друг друга, бурно полились из-под смычка. Как будто кто-то скованный яростно рванулся, стараясь разорвать цепи. Это было что-то совсем новое и неожиданное. Однако чувствовалось, что именно нечто подобное и было нужно, что при прежнем нельзя было оставаться, потому что оно слишком измучило своею бесплодностью и безнадежностью. Теперь не слышно было тихих слез, не слышно было отчаяния; силою и дерзким вызовом звучала каждая нота. И что-то продолжало отчаянно бороться, и невозможное начинало казаться возможным; казалось, еще одно усилие - и крепкие цепи разлетятся вдребезги и начнется какая-то великая, неравная борьба. Такою повеяло молодостью, такою верою в себя и отвагою, что за исход борьбы не было страшно. "Пускай нет надежды, мы и самую надежду отвоюем!" - казалось, говорили эти могучие звуки.
Я задерживал дыхание и в восторге слушал. Ночь молчала и тоже прислушивалась, чутко, удивленно прислушивалась к этому вихрю чуждых ей, страстных, негодующих звуков. Побледневшие звезды мигали реже и неувереннее; густой туман над прудом стоял неподвижно; березы замерли, поникнув плакучими ветвями, и все кругом замерло и притихло. Над всем властно царили несшиеся из флигеля звуки маленького, слабого инструмента, и эти звуки, казалось, гремели над землею, как раскаты грома. С новым и странным чувством я огляделся вокруг. Та же ночь стояла передо мною в своей прежней загадочной красоте. Но я смотрел на нее уже другими глазами: все окружавшее было для меня теперь лишь прекрасным беззвучным аккомпанементом к тем боровшимся, страдавшим звукам. Теперь все было осмысленно, все было полно глубокой, дух захватывающей, но родной, понятной сердцу красоты. И эта человеческая красота затмила, заслонила собою, не уничтожая ту красоту, по-прежнему далекую, по-прежнему непонятную и недоступную. В первый раз я воротился в такую ночь домой счастливым и удовлетворенным.
https://www.litres.ru/book....-onlayn
|
| |
| |