|
ПАМЯТИ РУССКИХ ПОЭТОВ...
|
|
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 08 Ноя 2009, 23:17 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 
И пока над Царским Селом
Лилось пенье и слезы Ахматовой,
Я, моток волшебницы разматывая,
Как сонный труп, влачился по пустыне,
Где умирала невозможность,
Усталый лицедей,
Шагая напролом.
А между тем курчавое чело
Подземного быка в пещерах темных
Кроваво чавкало и кушало людей
В дыму угроз нескромных.
И волей месяца окутан,
Как в сонный плащ,
вечерний странник
Во сне над пропастями прыгал
И шел с утеса на утес.
Слепой, я шел, пока
Меня свободы ветер двигал
И бил косым дождем.
И бычью голову я снял
с могучих мяс и кости
И у стены поставил.
Как воин истины я
ею потрясал над миром:
Смотрите, вот она!
Вот то курчавое чело,
которому пылали раньше толпы!
И с ужасом
Я понял, что я никем не видим,
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!
В.Хлебников

худ. С.Малютин
Моей тоски не превозмочь,
Не одолеть мечты упорной;
Уже медлительная ночь
Свой надвигает призрак чёрный.
Уже пустая шепчет высь
О часе горестном и близком.
И тени красные слились
Над солнечным кровавым диском.
И всё несносней и больней
Мои томления и муки.
Схожу с гранитных ступеней,
К закату простираю руки.
Увы – безмолвен, как тоска,
Закат, пылающий далече.
Ведь он и эти облака
Лишь мглы победные предтечи.
Г.Иванов
Памяти Марины Цветаевой

Хмуро тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.
За оградою вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.
Мне в ненастье мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.
Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.
Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
На снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой мильонершей
Средь голодающих сестер.
Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.
Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.
Тут все - полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан.
Зима - как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином - вот и кутья.
Пред домом яблоня в сугробе.
И город в снежной пелене -
Твое огромное надгробье,
Как целый год казалось мне.

Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.
Б.Пастернак
Памяти Бориса Пастернака
"... правление Литфонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшей 30 мая сего года, на 71-ом году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного".
(Единственное, появившееся в газетах, вернее, в одной - "Литературной газете", - сообщение о смерти Б.Л.Пастернака)

Разобрали венки на веники,
На полчасика погрустнели...
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!
И терзали Шопена лабухи,
И торжественно шло прощанье...
Он не мылил петли в Елабуге
И с ума не сходил в Сучане!
Даже киевские письмэнники
На поминки его поспели.
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!..
И не то чтобы с чем-то за сорок -
Ровно семьдесят, возраст смертный.
И не просто какой-то пасынок -
Член Литфонда, усопший сметный!
Ах, осыпались лапы елочьи,
Отзвенели его метели...
До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели!
"Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела..."
Нет, никакая не свеча -
Горела люстра!
Очки на морде палача
Сверкали шустро!
А зал зевал, а зал скучал -
Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
Не к высшей мере!
И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу -
Голосованьем!
И кто-то, спьяну, вопрошал:
- За что? Кого там?
И кто-то жрал, и кто-то ржал
Над анекдотом...
Мы не забудем этот смех
И эту скуку!
Мы - поименно! - вспомним всех,
Кто поднял руку!..
"Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку..."
Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул...
А над гробом встали мародёры
И несут почётный ка-ра-ул!
А.Галич, Переделкино, 4 декабря 1966

Брожу по городу и ною
безвестной песенки напев...
Вот здесь простились мы с тобою,
здесь оглянулись, не стерпев.
Здесь оглянулись, оступились,
почуяв веянье беды.
А город полн цветочной пыли,
и нежных листьев, и воды.
Я все отдам - пускай смеются,
пускай расплата нелегка -
за то, чтоб снова оглянуться
на уходящего дружка!
О.Бергольц

О певце ни стихов, ни заметки
Не отыщешь в газетном столбце.
Мой редактор глотает таблетки
И вздыхает, мрачнея в лице.
“Не податься ль куда на вакантное?..”
Понимает, не глуп старина,
Почему на могиле в Ваганьковo
Сорок суток вздыхает страна.
Стыдно старому думать, что скоро
Каждый так, без печати, - пойдет.
Что не просто Певца и Актера, -
Так честнейших хоронит народ.
Нет, уже надорвавшийся гений,
Распаляющий наши сердца,
Поднимающий трусов с коленей,
И бросающий в дрожь подлеца,
Как Шукшин, усмехнувшись с экрана,
Круто взмыл он в последний полет.
Может, кто-нибудь лучше сыграет,
Но никто уже так не споет!
Уникальнейший голос России
Оборвался басовой струной.
Плачет лето дождями косыми,
Плачет лето зеленой листвой.
На могиле стихи и букеты
О народной любви кричат.
А газеты? Молчат газеты!
Телевизоры тоже молчат!
Брызни, солнышко, светом правды,
Души выстудил крик совы.
Вознесенский прекрасно рявкнул:
- Женя, умница, где же ты?!
Подлость в кресле сидит, улыбается,
Славу, мужество, - все поправ.
Неужели народ ошибается,
А дурак политически прав?
Мы стоим под чужим окном,
Жадно слушаем, рты разинув,
Как осипшая совесть России
Не сдаваясь кричит о своем.
Ю.Верзилов

Морось дождя и фонарь полуночный.
Тонко деревья уходят во мрак.
Кажется, это же самое точно
Видел и Блок, но немного не так...
Мечутся ворохи хмари дождливой,
Крыльями режут тускнеющий свет,
Словно там призраки пляшут тоскливо...
Кто нам докажет, что призраков нет?
Если смотреть в этот конус пространства,
Чудится время двадцатых годов.
Венчик из света... Поэма "Двенадцать"...
На электронных - двенадцать часов.
Явственно чую в пространстве провалы,
Дом исчезает, не вижу мостка...
Если мир движется в мрак по спирали,
Он - в этот миг! - у того завитка,
Где совершались в России событья,
Что завели нас в кровавую тьму.
Тысячелетия рана раскрыта...
Вспять повернуть - не дано никому.
Т.Смертина

О високосный год, проклятый год!
Как мы о нем беспечно забываем
И доверяем жизни хрупкий ход
Все тем же самолетам и трамваям.
А между тем в злосчастный этот год
Нас изучает пристальная линза,
Из тысяч лиц - не тот, не тот, не тот -
Отдельные выхватывая лица.
И некая верховная рука,
В чьей воле все кончины и отсрочки,
Раздвинув над толпою облака,
Выкрадывает нас поодиночке.
А мы бежим, торопимся, снуем -
Причин спешить и впрямь довольно много -
И вдруг о смерти друга узнаем,
Наткнувшись на колонку некролога.
И, стоя в переполненном метро,
Готовимся увидеть это въяве:
Вот он лежит. Лицо его мертво.
Вот он в гробу. Вот он в могильной яме.
Переменив прописку и родство,
Он с ангелами топчет звездный гравий,
И все, что нам осталось от него, -
Полдюжины случайных фотографий.
Случись мы рядом с ним в тот жуткий миг -
И смерть бы проиграла в поединке...
Она б взяла его за воротник,
А мы бы уцепились за ботинки.
Но что тут толковать, коль пробил час!
Слова отныне мало что решают,
И, сказанные десять тысяч раз,
Они друзей - увы! - не воскрешают.
Ужасный год!.. Кого теперь винить?
Погоду ли с ее дождем и градом?
...Жить можно врозь. И даже не звонить.
Но в високосный будь с друзьями рядом.
Л.Филатов
|
| |
| |
| Елена_Фёдорова | Дата: Вторник, 15 Дек 2009, 08:30 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Статус: Offline | Елена Фёдорова
Памяти Марины Цветаевой
Сердце в её груди
Было открыто миру.
Мимо не проходи
Истерзанной этой лиры.
Пеной морской на
Наши камень и глину
Падать обречена,
Не показала спину
Страждущим. Помня всех,
Люди – которым имя,
Руку ладонью вверх
Нам подаёт доныне.
Время летит вперёд.
Память – неколебима.
Вот и настал черёд
Вашим стихам, Марина.
31 августа 2008 г.
РЯБИНА
Воспета стихом и песней
И нищими, и богемой,
Она предпочла быть вместе
С Вами – подругой верной
С рождения и до тризны,
Под солнышком и под ливнями,
Деревом Вашей жизни –
Рифмой к Вашему имени.
8 октября 2008 г.

То ли это женственность мужская,
То ли это мужественность женская…
То ли – «не от мира…», не такая,
То ли вся – сплошное совершенство…
Силы было столько ей отмеряно
И таланта – гибельною мерой.
Счёт вела находкам и потерям, но
Собственной себя спасала верой.
А судьба всегда вела по краю,
Разрешая взлёты и паденья,
Неохватность ада или рая,
Чередуя смерть и воскресенье,
Выводя с победою из боя…
Как случилось вдруг, что нету выхода?
Вдох глубокий – совладать с собою…
Не смогла. Сдалась. Уже на выдохе.
8-10 октября 2008 г.

Очередной «ножовый след»
Однажды не зажил.
Всех язв чужих, всех чьих-то бед
Огонь – он Вас спалил.
Чего-то требует судьба,
С ней спорить – силы нет.
Вы не перекрестили лба,
Придвинув табурет.
Отчаянье – тугой петлёй,
Решимости – на миг…
И чёрный ангел над землёй
Вдруг к белому приник…
И оба-два – добро и зло,
Не споря, кто – чужой,
Слетели вниз – к крылу крыло –
За Вашею душой…
8-10 октября 2008
У памятника Марине Цветаевой
Сидите – то ли в печали,
То ли в думах о жизни,
То ли уже устали
От нелюбви Отчизны…
16 декабря 2008 г.
Владимиру Высоцкому
Таланты гибнут, а не умирают.
Тому примеров горестных немало.
И ты – на полдороге, полуслове –
Упал, как птица, сбитая в полёте.
Ты жил – сгорал и снова возрождался
И, неуёмный, ты не знал покоя.
К таким, как ты, покой приходит сразу
И навсегда, и он зовётся – «вечный»...
...Поверить в это просто невозможно,
Что ты лежишь под холмиком зелёным –
Недвижимо, безгласно, бездыханно,
Ты – в этой тесноте неимоверной!..
Душа, иум, и сердце - всё бунтует
От невозможности постичь потерю.
И вновь, и вновь идут к твоей могиле,
Но – парадокс! – не к мёртвому. К живому.
Как много раз ты сам был беззащитен,
Но сколько раз спасал ты наши души!
О, голос твой – стремительный и резкий!
О, слов точнейших яростная россыпь!
Страдал ты вместо тех, кому не больно.
Переживал сам вместо равнодушных,
И возвращал надежду потерявшим,
И ненавидел, и любил, и верил...
И столько жизней прожито тобою,
И столько песен отдано живущим,
Что ни на жизнь твою и ни на песню
Ни времени, ни силы не осталось.
Как мчали кони, как летели кони!
Напрасно ты просил их бег замедлить.
И Гамлет на подмостках театральных
В последний раз упал – и не поднялся...
... Пять лет прошло, но время – как застыло:
Оно не в силах вылечить от боли.
Охапками цветы тебе приносят
В надежде, что, быть может, станет легче.
Но облегченья нет: такие раны
Не заживают – кровоточат, ноют.
Не хватит слёз и слов тебя оплакать.
Глаза сухи и губы скорбно немы.
Людская память – памятник тебе.
1985
Сообщение отредактировал Елена_Фёдорова - Вторник, 15 Дек 2009, 08:34 |
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 28 Дек 2009, 00:36 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | Памяти Сергея Александровича Есенина

Поэты русские,
друг друга мы браним -
Парнас российский дрязгами засеян.
но все мы чем-то связаны одним:
любой из нас хоть чуточку Есенин.
И я - Есенин,но совсем иной.
В колхозе от рожденья конь мой розовый.
Я, как Россия, более суров,
и, как Россия, менее березовый.
Есенин, милый, изменилась Русь!
но сетовать, по-моему, напрасно,
и говорить, что к лучшему, -
боюсь, ну а сказать,
что к худшему,- опасно...
Какие стройки,
спутники в стране!
Но потеряли мы
в пути неровном
и двадцать миллионов на войне,
и миллионы -
на войне с народом.
Забыть об этом,
память отрубив?
Но где топор, что память враз отрубит?
Никто, как русскиe,
так не спасал других,
никто, как русскиe,
так сам себя не губит.
Но наш корабль плывет.
Когда мелка вода,
мы посуху вперед Россию тащим.
Что сволочей хватает, не беда.
Нет гениев - вот это очень тяжко.
И жалко то, что нет еще тебя
И твоего соперника - горлана.
Я вам двоим, конечно, не судья,
но все-таки ушли вы слишком рано.
Когда румяный комсомольский вождь
На нас, поэтов, кулаком грохочет
и хочет наши души мять, как воск,
и вылепить свое подобье хочет,
его слова, Есенин, не страшны,
но тяжко быть от этого веселым,
и мне не хочется, поверь,
задрав штаны,
бежать вослед за этим комсомолом.
Порою горько мне, и больно это все,
и силы нет сопротивляться вздору,
и втягивает смерть под колесо,
Как шарф втянул когда-то Айседору.
Но - надо жить.
Ни водка,ни петля,
ни женщины - все это не спасенье.
Спасенье ты, российская земля,
спасенье - твоя искренность, Есенин.
И русская поэзия идет
вперед сквозь подозренья и нападки
и хваткою есенинской кладет
Европу, как Поддубный, на лопатки.
Е.Евтушенко
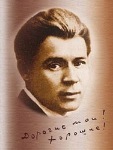
Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безбольно догореть.
Но не дано российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.
Всего верней свинец в душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.
А.Ахматова

Поэтов многих пела Русь.
Да так, что их поет планета.
Но сердцу русскому, клянусь,
Родней Вас не было поэта.
Есенин, Вы один такой.
И, глядя в завтра человека,
Я рад, что Вашею строкой
Встает пред миром совесть века…
А.Сенин

Не позвонить, не долететь
До милой сердцу стороны…
Где детство прошлое своё
Провёл у речки, у Оки!
Там Константиново стоит,
И колосится в поле рожь,
От этой мысли, от одной,
Уже бросает меня в дрожь!
До боли там знакомо всё!
Берёзы стройные рядком,
Что навевали мне стихи
И обдавали холодком…
Колодец старый с журавлём
И одуванчиков гряда,
И дом высокий за столбом,
Усадьба, Кашиных видна!
Но не поёт уже гармонь,
Как раньше, растянув меха…
Другой Сергунька над Окой
Бросает камешки с холма!
О.Гузь

...И не жалость - мало жил,
И не горечь - мало дал, -
Много жил - кто в наши жил
Дни, все дал - кто песню дал.
М.Цветаева

Неуютно мне, друг, неуютно
На пиру средь друзей и подруг.
То ли точит мне душу подспудно
Надоевшая ласка их рук.
То ли утром, смотря на иконы,
Что я прячу от сглаза людей,
Мне все чудится горькие стоны
По России забытых церквей.
То ли в вечер, идя по бульвару,
По аллеям деревьев пустых,
Мы вдвоем с моей тенью на пару,
Ненаписанный слушаем стих.
Неуютно мне, друг, неуютно,
Сам собою куда-то гоним.
Я плыву, как пиратское судно,
Погасив бортовые огни.
Не тревожат меня ни эпоха,
Ни дела и ни судьбы друзей.
В ожиданье последнего вздоха
Сердце бьется ровней и ровней.
Неуютно мне друг, неуютно.
Ну хоть ты мне всю правду скажи!
Для кого в ожидании утра
Сохранил я остатки души?
А.Чирков

Я помню первый знак знакомства – знак зеленый.
То переплета цвет? А может, цвет строки?
Его зеленый мир… Хотелось непреклонно
Испить его простор, хлебнуть его тоски.
Эх, взять бы загулять в есенинском раздолье!
В живительной струе набраться свежих сил.
Его беспечный мир… Была же чаша боли
Наполнена по край. Ее он не допил.
Растратить не успел талант певца до капли.
Да разудалый нрав сполна не раздарил.
Его разгульный мир… Но посреди спектакля
Вдруг занавес упал, от жизни отделил.
Ничтожно мал был срок, отпущенный для взлета.
Но он сумел рвануть туда, где высь поет.
Его прекрасный мир разрушил кто-то.
Жестоко прерван был чарующий полет.
Яник Ласко

На Ваганьковском кладбище осень и охра,
Небо - серый свинец пополам с синевой.
Там лопаты стучат, но земля не оглохла -
Слышит, матушка, музыку жизни живой.
А живые идут на могилу Есенина,
Отдавая ему и восторг, и печаль.
Он - Надежда. Он - Русь. Он - её Вознесение.
Потому и бессмертье ему по плечам.
Кто он? Бог иль безбожник?
Разбойник иль ангел?
Чем он трогает сердце
В наш атомный век?
Что все лестницы славы,
Ранжиры и ранги
Перед званьем простым:
Он - душа-человек!
Всё в нём было - И буйство,
и тишь, и смиренье.
Только Волга оценит такую гульбу!
Не поэтому ль каждое стихотворенье,
Как телок, признавалось: - Я травы люблю!
И снега, и закаты и рощи, и нивы
Тихо, нежно просили: - От нас говори! -
Не поэтому ль так охранял он ревниво
Слово русское наше, светившее светом зари.
Слава гению час незакатный пробила,
Он достоин её, полевой соловей.
Дорога бесконечно нам эта могила,
Я стою на коленях и плачу над ней!
В.Боков

Любой березняк –
По Есенину звонница!
Никто уже так
Перед ней не помолится.
У нас деревень
Нынче тыщи разрушено.
И злато полей
По ветрам буйным пущено.
Увечье земли
Как от гнёта тиранского.
К чему мы пришли
Без уклона крестьянского?
Как храм, березняк
В честь Поэта возносится.
Никто уже так
На нож правды не бросится.
Т.Смертина

Полыхает зарницею запад
Горизонт весь багрянцем горит,
И душистой черемухи запах
Про Есенина мне говорит.
Про его бесшабашную юность,
Пылкость страсти и нежность души,
Про печаль, про любовь, и угрюмость
Под Рязанью. В деревне, в тиши.
Был поэт чисто-русской закваски,
Он, любил беззаветно свой край.
Его песни про Русь, – словно сказки
Про березовый, ситцевый рай…..
Не лукавил душой. Не чурался
С мужиками сидеть в кабаках.
Напивался частенько, ругался.
И мечтами парил в облаках.
Для него, как лекарство от стресса;
Верный друг Айседора Дункан,
Словно фея из венского леса
Танцевала французский канкан.
«Шаганэ» ему нежно и мило
Напевала восточный мотив,
А луна серебрилась уныло,
Осветив весь персидский залив.
Рок зловещий, в рулетку играя,
Смысл жизни, как ластиком стёр.
Довела черствость быта, до края.
Жизнь прожглась, как рябины костер.
Небо в звездах. С востока на запад,
Ночь, всю землю одела в вуаль.
И душистой черемухи запах,
Уплывает в безмолвную даль.
Спи поэт. Да, земля тебе пухом.
Время лечит унынье и грусть.
О тебе, возрожденная духом.
Будет помнить, Великая Русь!
Дачник
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 26 Июл 2010, 23:16 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 
Ты вышел до зари, ты вышел «Накануне»,
Охотник-чародей, всю Русь ты исходил,
Родную нашу Русь, – и ты ходил не втуне:
Когда вернулся ты, ягдташ твой полон был...
Духовной пищи в нём для многих поколений,
Птенцов «Дворянских гнёзд», «Отцов» и их «Детей»,
Ты много нам принёс, могучий русский гений,
Охотник-чародей!
А.Александров,

Но я предупреждаю вас,
Что я живу последний раз.
Ни ласточкой, ни клёном,
Ни тростником и ни звездой,
Ни родниковою водой,
Ни колокольным звоном -
Не буду я людей смущать
И сны чужие навещать
Неутоленным стоном.
А.Ахматова

От молнии, ударившей в висок,
на небесах не остается шрама.
Страну изъездив вдоль и поперек,
я не нашел могилы Мандельштама.
В ненастный день во всей моей стране
стонали сосны на ветру жестоком.
Я не нашел ее на Колыме,
Не обнаружил под Владивостоком.
Повсюду – жесткий, как короста, наст.
Ни номера, ни даты, ни завета.
И я не смог букет военных астр
oставить у надгробия поэта.
Окрест лежали горы и поля.
И люди шли и шли вперед упрямо.
И я подумал – Русская земля!
Ты вся, как есть – могила Мандельштама.
Г.Григорьев

В ветвях олеандровых трель соловья.
Калитка захлопнулась с жалобным стуком.
Луна закатилась за тучи. А я
Кончаю земное хожденье по мукам,
Хожденье по мукам, что видел во сне –
С изгнаньем, любовью к тебе и грехами.
Но я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию - стихами.
Г.Иванов

На острове моих воспоминаний
Есть серый дом. В окне цветы герани,
ведут три каменных ступени на крыльцо.
В тяжелой двери медное кольцо.
Над дверью барельеф - меч и головка лани,
а рядом шнур, ведущий к фонарю.
На острове моих воспоминаний
я никогда ту дверь не отворю!..
Н.Тэффи
Павел Васильев
Последние стихи

Друзья, простите за всё – в чем был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.
Ваши руки стаями на меня летят –
Сизыми голубицами, соколами, лебедями.
Посулила жизнь дороги мне ледяные –
С юностью, как с девушкой,
распрощаться у колодца.
Есть такое хорошее слово – родныя,
От него и горюется, и плачется, и поется.
А я его оттаивал и дышал н него,
Я в него вслушивался.
И не знал, я сладу с ним.
Вы обо мне забудете, – забудьте! Ничего,
Вспомню я о вас, дорогие мои, радостно.
Так бывает на свете – то ли зашумит рожь,
То ли песню за рекой заслышишь, и верится,
Верится, как собаке, а во что – не поймешь,
Грустное и тяжелое бьется сердце.
Помашите мне платочком за горесть мою,
За то, что смеялся, покуль полыни запах…
Не растут цветы в том дальнем, суровом краю,
Только сосны покачиваются на птичьих лапах.
На далеком, милом Севере меня ждут,
Обходят дозором высокие ограды,
Зажигают огни, избы метут,
Собираются гостя дорогого встретить как надо.
А как его надо – надо его весело:
Без песен, без смеха, чтоб тихо было,
Чтобы только полено в печи потрескивало,
А потом бы его полымем надвое разбило.
Чтобы затейные начались беседы…
Батюшки! Ночи-то в России до чего ж темны.
Попрощайтесь, попрощайтесь,
дорогие, со мной, – я еду
Собирать тяжелые слезы страны.

Снегири взлетают красногруды
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом, северном краю.
Будем мы печальны, одиноки
И пахучи, словно дикий мед.
Незаметно все приблизит сроки,
Седина нам кудри обовьет.
Я скажу тогда тебе, подруга:
«Дни летят, как по ветру листьё,
Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши всё…»
1937г. Лубянка

Жестокого мира певучесть,
Крылатых существ письмена...
Дана мне чудесная участь
Чужие любить имена.
Как славно, живя по-сиротски,
К щемящим взывать именам -
Есенин, Ахматова, Бродский...
Цветаева, Блок, Мандельштам... -
И к ним приходить на свиданья
Под пенье летучих цитат,
И не находить оправданья
Себе, и молчать невпопад.
И.Лиснянская

О, мой застенчивый герой,
ты ловко избежал позора.
Как долго я играла роль,
не опираясь на партнера!
К проклятой помощи твоей
я не прибегнула ни разу.
Среди кулис, среди теней
ты спасся, незаметный глазу.
Но в этом сраме и бреду
я шла пред публикой жестокой -
все на беду, все на виду,
все в этой роли одинокой.
О, как ты гоготал, партер!
Ты не прощал мне очевидность
бесстыжую моих потерь,
моей улыбки безобидность.
И жадно шли твои стада
напиться из моей печали.
Одна, одна - среди стыда
стою с упавшими плечами.
Но опрометчивой толпе
герой действительный не виден.
Герой, как боязно тебе!
Не бойся, я тебя не выдам.
Вся наша роль - моя лишь роль.
Я проиграла в ней жестоко.
Вся наша боль - моя лишь боль.
Но сколько боли. Сколько. Сколько.
Б.Ахмадулина

Конечно, Баратынский схематичен,
Бесстильность Фета всякому видна,
Блок по-немецки втайне педантичен,
У Анненского в трауре весна,
Цветаевская фанатична Муза,
Ахматовой высокопарен слог,
Кузмин манерен, Пастернаку вкуса
Недостает: болтливость вот порок,
Есть вычурность в строке у Мандельштама,
И Заболоцкий в сердце скуповат...
Какое счастье даже панорама
Их недостатков, выстроенных в ряд!
А.Кушнер
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 31 Авг 2010, 23:26 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | Памяти Марины Цветаевой

С большою нежностью - потому,
Что скоро уйду от всех, -
Я все раздумываю, кому
Достанется волчий мех,
Кому - разнеживающий плед
И тонкая трость с борзой,
Кому - серебряный мой браслет,
Осыпанный бирюзой...
И все записки, и все цветы,
Которых хранить невмочь...
Последняя рифма моя - и ты,
Последняя моя ночь!

«Пушкин! - Ты знал бы по первому взору,
кто у тебя на пути.
И просиял бы, и под руку в гору
не предложил мне идти...»
(М.Цветаева, «Встреча с Пушкиным»)
Марина, как же ты цвела!
Цветаева цвела... Иначе
Ты очевидно не могла,
Влекомая своей "удачей"
Родиться в год, и день, и час,
И миг... Чуть мимо - всё пропало!
Мы не узнали бы о Вас -
Вы были бы и Вас не стало б.
Я Вас не знаю - что скрывать?!
Я Вас трагически не знаю.
Лишь начинаю открывать,
И от восторга замираю.
Простите этот мой "восторг" -
Вы понимаете о чём я.
Я слышу Ваш печальный вздох,
Одновременно облегчённый.
Я, как и Вы о двадцать лет,
Уверен, был бы узнан Вами
При первой встрече - как Поэт
Узнал Вас там в Крыму... Горами
Ещё гуляли вместе вы,
И ваши руки не касались -
Мы обошли бы пол Москвы,
Вы всё курили б и смеялись.
И первый огонёк в окне,
Как и тогда, велел забыться б...
И я позвал бы Вас ко мне.
И Вы сумели б мне присниться.
Ю.Цыганков

Белый фрак пришит к могиле
веревкой с шеи. Август день.
Я за лицо, святое имя
бросаю взгляд в строку теней.
Ты - беглое сырое поле,
ты - чистота цветного сна,
ты - бесконечный знак покоя,
ты - фраза ищущего дня.
За силой, страхом и судьбою
к тебе придут еще не раз;
ты не брани людей тоскою,
они руки твоей наказ.
Я тихо, ветрено, игриво
читаю бережно слова
и переписываю строки;
ты для меня всегда жива.
Ульяна

Четверть века, Марина, тому,
как Елабуга ластится раем
к отдохнувшему лбу твоему,
но и рай ему мал и неравен.
Неужели к всеведенью мук,
что тебе удалось как удача,
я добавлю бесформенный звук
дважды мною пропетого плача?
Две бессмыслицы - мертв и мертва,
две пустынности, два ударенья -
царскосельских садов дерева,
переделкинских рощиц деревья.
И усильем двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.
Впрочем, в этой утрате суда
есть свобода и есть безмятежность:
перед кем пламенеть от стыда,
оскорбляя страниц белоснежность?
Как любила! Возможно ли злей?
Без прощения, без обещанья
имена их любовью твоей
были сосланы в даль обожанья.
Среди всех твоих бед и плетей
только два тебе есть утешенья:
что не знала двух этих смертей
и воспела два этих рожденья.
Б.Ахмадулина

Марина! Мне твое участье
Сквозь заточенье немоты -
И окна настежь, взгляды настежь,
А в окна - желтые листы!
Какая осень! Сколько ветра!
А вот, чуть мимо не прошла...
Я холодом ее согрета,
Я сумраком ее светла.
По старым улицам трамваи
Гуськом бредут в ночном бреду,
Я их огни одна встречаю,
Я никого уже не жду.
А город спит. И вихрем кружат
Над сонным городом стихи!
Но все мучительней, все глуше
В земную ночь твои шаги.
З.Ященко

Невидимка, двойник, пересмешник...
Что ты прячешься в черных кустах?
То забьешься в дырявый скворешник,
То блеснешь на погибших крестах...
То кричишь из Маринкиной башни:
"Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной!
Поглотила любимых пучина,
И разграблен родительский дом..."
Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет...
А вокруг погребальные звоны
Да московские хриплые стоны
Вьюги, наш заметающей след.
А.Ахматова

Посылаю мысли в небо,
Предо мною океан.
Погружаюсь постепенно
Глубже, дальше и назад.
Перестраиваю время,
Вспять часы идут, идут.
Ускоренье, ускоренье.
Промедленье - нет минут.
Вот и стрелки циферблата
Перешли все рубежи.
Тридцать первое - расплата,
Август месяц, подожди.
Сорок первый год, година,
Погружает в страх страну.
Ах, Елабуга. Марина,
Я спасти тебя спешу.
Не могу смириться, слышишь,
Выйдем из дому скорей.
Время быстро нас уносит
Из Елабуги ввысь, вверх.
Закружили канители,
Звёздной пыли рукава.
Посмотри, душа не верит.
Ты жива, жива, жива.
Яркой звёздочкой сияешь,
Освещая небосвод.
И строка звучит сквозь время,
Дарит миру только взлёт.
Я спешу домой обратно,
В небо звёздное смотрю.
Просыпаюсь: сон иль явь всё.
Нет пределов для любви.
Е.Бабий

Я вернусь к тебе, Таруса,
За глотком из родника –
Незабвеннее нет вкуса –
Поцелуй издалека.
Утолю ожогом губы,
Пепел слов разворошу,
Бальной осени раструбы
До обносков изношу.
Берегом пойду навстречу,
Как послушница постом,
Храму, что раскинул плечи
Над дорогою крестом…
Все слова молитв похожи,
Как цветы, что принесли…
И еще: прости нас, Боже,
Что Марину не спасли.
Г.Данильева

Средь могил елабужских кладбищ
Есть одна обитель под землёю,-
Нет над ней холма, но чередою
Льнут сюда изгнанники судбищ.
Горько тут – Немое отцвело.
На земле бестравой – кисть рябины…
Вот и всё, что сталось от Марины.
После жизни праху повезло –
Даль вокруг раздольна и былинна.
И светло. О, боже, как светло!
Только возле входа, как беда,
Лёг громоздкий камень. От собратьев
По перу. Вослед былым проклятьям.
Как похмелье рабьего стыда –
Никому неправда никогда
Не разжала горловых объятий.
Ей легко, наверно,
Оттого, что её не камнем придавили…
Подвели к черте и погубили,
Вот и – кроме строчек – ничего.
Горько тут. Томит видений рой.
Над могилой – ни креста, ни слова.
Что ж, Марина, доля здесь христова –
Жизнь поэта краше в жизни той.
Признаёт страна поэтов снова
После ночи страшной, гробовой.
Жизнь, как остров, твердь на берегу,
Смерть с бессмертьем-морем.
Вал наивно даже богу слабой половины
В штормовом осаживать скаку.
… Оттого ль при имени Марина
Пенный плеск качается в мозгу?
Рок – проклятье хрупких в смутный час.
За границей душно невозможно!
Муж-красавец, дочка, сын… Как тошно
Знать теперь, что ожидало вас.
Лиха ждать того и не могли вы!
Заманили люди ли, судьба?
Да не подло ль жизнь всегда права,
Над упавшим встав кустом крапивы?!
Пред глотком свинца его мольба :
- Были б только дочка с мамой живы…
(Тридцать невозможных, гиблых лет.
Сотни тысяч канули в трясине.
Клеек мёртвый хват той паутины –
Монумента им и ныне нет.)
Палачи всеруки и глумливы.
Повторить осталось путь других…
- Как тут жить, когда огнём под дых!
И вдали, склоняясь, плачут ивы.
С верой легче оставлять живых :
- Были б только дочка с сыном живы…
Завлекли российские поля,
Век счастливый был в мечтах отмерен…
Мнёт судьба иначе: муж расстрелян,
Лагеря – одной, другой – петля,
И могилы нет – лишь тополя…
Мир стоит в смирение потерян.
П.Матюхин

Была б жива Цветаева,
пошёл бы в ноги кланяться,
пускай она седая
и в самом старом платьице.
С собой взял водку белую
и пару вкусных шницелей -
присел бы зорким беркутом,
знакомиться?! мириться ли?!
Пускай была бы грустная,
а скатерть даже грязная,
но только б слышать с уст её
то - розовое, разное.
Но только б видеть глаз её
фиалковые тени
и чудо чёлки ласковой
и чокнуться в колени.
Жила на свете меточка
курсисточкой красивой,
в бумажном платье девочка
петлю с собой носила.
Писала свитки целые,
курила трубку чёрную,
любила спать за церковью,
ходить в пацанских чёботах.
И доигралась, алая,
и потеряла голову,
одно лишь слово балуя,
ты засыпала голая.
Один лишь стол в любовниках,
одна лишь ночь в избранницах.
Ах, от тебя садовнику
навеки не избавиться!
Небесному - небесное,
земному лишь земное,
и ты летишь над бездною
счастливейшей звездою.
Всё поняла - отвергнула,
поцеловала - ахнула,
ну а теперь ответа жди
от золотого ангела.
Пусть сыну честь - гранатою,
а мужу слава - пулей,
зато тебя с солдатами
одели и обули.
Ни милости, ни благости -
божественная ягода,
ты удавилась в августе
над табуреткой Дьявола.
И ничего не вспомнила,
перекрестилась толечко.
Налей стаканы полные,
заешь всё лунной корочкой.
Здоровье пью рабы твоей,
заложницы у вечности,
над тайнами разрытыми
страстями подвенечными.
Какое это яблоко
по счёту, своевольное?
Промокшая Елабуга,
печаль моя запойная.
Была б жива Цветаева,
пришёл бы в ноги кланяться,
за то, что не святая,
а лишь Страстная Пятница.
И грустная, и грешная,
и горькая, и сладкая,
сестрица моя нежная,
сестрица моя славная.
Дай Бог в аду не горбиться,
седые патлы путая,
малиновая горлица
серебряного утра!..
Была б жива Цветаева,
Пошёл бы в ноги кланяться
За то, что не святая,
А лишь Страстная Пятница.
Л.Губанов
|
| |
| |
| Юлия_Михайловна | Дата: Пятница, 24 Сен 2010, 17:04 | Сообщение # 6 |
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 30
Статус: Offline | Можно мне внести свой небольшой вклад в вашу поэтическую копилку.
Это стихотворение я нашла в моих детских тетрадях. Автор Наташа Захарова. Кто эта девочка и откуда у меня эти стихи - не знаю. Но, по-моему, очень искренне.
Сергею Есенину

По-весеннему,
А, точнее, по-своему,
Верю Есенину,
Верю ему особенно.
В зори синие,
В синие ливни утром,
В тоненькие осины,
Обнаженные, необутые.
В месяц над огородом,
Уснувший на теплом сене.
Верю, как только можно,
Верю, Сергей Есенин.
Ночью в моем окошке
Звездные карусели…
Когда-то ты был Сережкой.
Когда-то ты стал Есенин.
Когда-то любил, быть может.
Когда-то себя растратил.
Когда-то мечтал в сторожке
О девушке в синем платье.
Когда-то глаза синели,
А небо бледнело и блекло.
Когда-то глаза умели
Не от дождя быть мокрыми.
Когда-то искал красивое,
Когда-то терял большое.
Когда-то писал про синее,
А осень сквозила желтым.
А для меня остались
Пять томов сочинений.
А для меня остался
На переплете Есенин.
Редкие кадры хроники:
Легкий кивок головой,
Словно пшеница – волосы,
Словно в глазах – прибой.
А тот, кто верит в весеннее,
В синее, в солнце строчек,
Просит: «Не прячьте Есенина,
Покажите еще разочек!»
Простите, но вот поэтому
Есенин шагает с веком…
Не хвалите только поэта –
Есенин был человеком.
Березка Есенина
Когда-то в день рождения поэта
Я посадил березку у окна,
И с той поры в такое ж бабье лето
В отцовском доме стало больше света, -
Так жарко разгорается она.
Простор березке, рыжей и вихрастой,
На все четыре стороны открыт.
И я горжусь, завидуя ей часто:
Встречая солнце, первой шепчет
«Здравствуй!»,
Последней «До свиданья!» говорит.
Движения спокойны и неброски,
Ничем не знаменита и скромна,
Стоит у двух дорог на перекрестке,
И от нее, от маленькой березки,
Вся Родина огромная видна.
Трубят над нею с самого рассвета,
Зовут ее в дорогу журавли,
Но Русь, Россия, Родина поэта,
Кем так она любима и воспета,
Дороже ей любых краев земли.
Еще засвищут ветры-листобои,
Еще захлещут проливни-дожди,
Но как не верить в небо голубое,
И в добрый шум зеленого прибоя,
И в Май, что ожидает впереди!
Она стоит, у дома пламенея,
Горит, неотразима и чиста,
Такая - даже солнце перед нею
В октябрьский день становится бледнее
И прячется за тучи неспроста.
Едва ее листва зашевелится,
И на ветру вздохнет она едва,
Мне кажется - листаются страницы,
И стоит к ней щекою прислониться,
Как зазвучат знакомые слова.
Как зазвучат стихи… И потому я
Всегда, всегда во сне и наяву,
Зеленую, багряную, седую,
Мою березку солнечно-прямую
Березкою Есенина зову.
Кипит в России буйно бабье лето,
И вновь живу я думою одной:
Чтоб в каждом доме было больше света,
Давайте в день рождения поэта
Сажать березки на земле родной.
Дм.Блынский
|
| |
| |
| Анастасия | Дата: Четверг, 18 Ноя 2010, 23:38 | Сообщение # 7 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 236
Статус: Offline | Сергею Есенину
Иней. Снег. Декабрь. Тишина.
Тишина не бывает тише.
Малярийная бродит луна
Рыжей кошкой по черным крышам.
Ах, кому она, к черту, нужна,
И собаки ее не съели...
От метели и до вина,
От вина до крутой метели,
От стихов до пустой зари
(Тишина, тишина какая...
Непотушенные фонари...
Непроснувшиеся трамваи...)
Ты ходил под этой луной
(Дьявол, холодно...
«Пиво — воды».
«Ресторан».
«Подаеца вино»)
Мимо памятника Свободы,
Мимо домика, где я жил,
Мимо счастья на горностае.
Что ты думаешь, расскажи,
Что стихи чужие листаешь,
Что ты думаешь?
Что молчишь?
Что рука опять задрожала?
Зябко очень. Такая тишь.
Закурить? Закурю, пожалуй.
Хочешь, все расскажу?
Про снег,
Как сказала, что «нет»,
Про горе,
Как приснилося мне во сне
Без предела и края море,
Как заснеженным декабрем
Я любил, надеялся, путал,
Как, любовь потеряв, обрел
Тот покой, что дается круто.
Хочешь, все расскажу?
Молчишь.
Улыбаешься. Милый... Милый...
Тишь... Совсем заметает тишь,
Видишь, комнатку завалило.
Полчетвертого. Мы одни.
Очень холодно. Тихо очень.
...Ах, какие морозные дни...
Ах, какие морозные ночи...
П.Коган
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 12 Янв 2011, 15:24 | Сообщение # 8 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 
И вновь кладбище. Сосны и трава.
Ограды. Плиты. И цветы кипрея.
И жалкие надгробные слова,
Что не прочтешь без страха, не краснея.
И только слышишь – скрипнул коростель.
Да чуешь гул со сводов мирозданья...
И вот – стучит бессменная капель:
Ни имени. Ни отчества. Ни званья.
Н.Тряпкин

Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.
Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить - что за дивная участь!
Какая удача, что тени легли
вкруг елок и елей, цветущих повсюду,
и вечнозеленая новость любви
душе внушена и прибавлена к чуду.
Откуда нагрянули нежность и ель,
где прежде таились и как сговорились!
Как дети, что ждут у заветных дверей,
я ждать позабыла, а двери открылись.
Какое блаженство, что надо решать,
где краше затеплится шарик стеклянный,
и только любить, только ель наряжать
и созерцать этот мир несказанный...
Б.Ахмадулина

Высоцкий. Мы так много говорим
О нем, когда его приходят даты.
Давайте просто вместе помолчим,
Осознавая весь масштаб утраты.
И вспомним все: его глаза, слова,
Гитары звук, разбуженной утрами,
То время, когда злобная молва
Перекрывалась чуткими сердцами.
Он был один. Он есть один средь нас
(в природе повторений не бывает).
Из мира тонкого его я слышу глас.
Стихи читаю. Нам он присылает
Устами женщин - и на разных языках.
По-прежнему он зорок и печален,
И будто больше снега на висках.
Он слышит нас из недоступной дали...
Давайте просто вместе помолчим,
Осознавая весь масштаб утраты...
С.Ким
Николай Рубцов

В минуты музыки печальной
Я представляю желтый плес,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берез,
И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей...
Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю.
Но все равно в жилищах зыбких -
Попробуй их останови! -
Перекликаясь, плачут скрипки
О желтом плесе, о любви.
И все равно под небом низким
Я вижу явственно, до слез,
И желтый плес, и голос близкий,
И шум порывистых берез.
Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чем...
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чем.

На душе
соловьиною трелью
Не звените, далекие дни!
Тихий дом,
занесенный метелью,
Не мани ты меня, не мани!
Неужели так сердце устало,
Что пора повернуть и уйти?
Мне ведь так еще мало, так мало,
Даже нету еще двадцати...

Погружены в томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенели!
Оцепенели маленькие ели,
И было небо темное, без звезд.
Какая глушь! Я был один живой
Один живой в бескрайнем мертвом поле!
Вдруг тихий свет-пригрезившийся, что ли?
Мелькнул в пустыне, как сторожевой...
Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу (последняя надежда!),
И услыхал, отряхивая снег:
- Вот печь для вас и теплая одежда...
Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде жизни было мало,
И, неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала...
Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне и поразил
Сиротский смысл семейных фотографий!
Огнем, враждой земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет...
- Скажи, родимый, будет ли война?
И я сказал: - Наверное, не будет.
- Дай бог, дай бог...
Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет...-
И вдруг опять: - Не будет, говоришь?
- Нет,- говорю,- наверное, не будет!
- Дай бог, дай бог...
И долго на меня
Она смотрела, как глухонемая,
И, головы седой не поднимая,
Опять сидела тихо у огня.
Что снилось ей?
Весь этот белый свет,
Быть может, встал пред нею в то мгновенье?
Но я глухим бренчанием монет
Прервал ее старинные виденья...
- Господь с тобой! Мы денег не берем.
- Что ж,- говорю,- желаю вам здоровья!
За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...
Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далек.
За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле, и нет тебе покоя...

Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе, о русская земля! -
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было все: смиренье и гордыня -
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!
Мрачнее тучи грозный Иоанн
Под ледяными взглядами боярства
Здесь исцелял невзгоды государства,
Скрывая боль своих душевных ран.
И смутно мне далекий слышен звон:
То скорбный он, то гневный и державный!
Бежал отсюда сам Наполеон,
Покрылся снегом путь его бесславный...
Да! Он земной! От пушек и ножа
Здесь кровь лилась... Он грозной
был твердыней! Пред ним
склонялись мысли и душа,
Как перед славной воинской святыней.
Но как - взгляните - чуден этот вид!
Остановитесь тихо в день воскресный -
Ну, не мираж ли сказочно-небесный -
Возник пред вами, реет и горит?
И я молюсь, о русская земля! -
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного Кремля
И на его таинственные звоны...

Мы сваливать не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет - тот и правит,
Поехал - так держись!
Я повода оставил.
Смотрю другим вослед.
Сам ехал бы и правил,
Да мне дороги нет...
Памяти Николая Рубцова

Над могилой твоей -
Ни берёзки, ни тополя,
Над могилой твоей -
- Свет вечерней звезды!
Только ветер в ночи,
Разбежавшийся по полю,
Горько жестью звенит,
Задевая кусты!
Ах, как хочется жить!
Будто вольная птица,
Набирать высоту
До задумчивых звёзд...
Но в уютном тепле
Снова ночью мне снится
Скрип тяжёлых шагов
И крещенский мороз!..
В.Мишенев

Я читаю тебя частенько,
Добрым строчкам радуясь всласть.
Где-то спит твоя деревенька,
Что Николой с детства звалась.
Там мечталось о жизненной сути
И о чём-то прочном всерьёз.
А увидел ты столько мути,
Столько горя, когда подрос!
И мотало тебя по свету.
Был неласков тот белый свет.
Оказалось, что счастья нету
Даже средь счастливых примет.
От сует столичного круга
Ты ушёл бедовать в глуши,
Только не было равного друга
Для твоей совестливой души.
Неприкаянный, одинокий,
И в застолье ином не речист,
Был ты в тратах матросски широким,
А душой, как ребёнок, чист.
Всё пытался в себе разобраться
И по жизни ходил напрямик,
Чтобы быть, ане просто казаться,
Ты сжигал себя каждый миг.
И лепил очень зримый слепок
Угловатой своей судьбы.
И погиб как-то очень нелепо
На пороге мирской избы.
Боль души ли была причиной?
Кто теперь подскажет ответ?
Но душой своей лебединой
Ты оставил перед кончиной
Людям тихий, пронзительный свет...
А.Коршунов
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 10 Июл 2011, 02:13 | Сообщение # 9 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 
Какая участь нас постигла,
как повезло нам в этот час,
когда бегущая пластинка
одна лишь разделяла нас!
Сначала тоненько шипела,
как уж, изъятый из камней,
но очертания Шопена
приобретала всё слышней.
И забирала круче, круче,
и обещала: быть беде,
и расходились эти круги,
как будто круги по воде.
И тоненькая, как мензурка
внутри с водицей голубой,
стояла девочка-мазурка,
покачивая головой.
Как эта, с бедными плечами,
по-польски личиком бела,
разведала мои печали
и на себя их приняла?
Она протягивала руки
и исчезала вдалеке,
сосредоточив эти звуки
в иглой исчерченном кружке.
Б.Ахмадулина
Анна Ахматова

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие своё,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берёт ее, -
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: "Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид".
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Всё расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?
Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес,-
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

худ. Н. Тырса, 1927.
Опять подошли «незабвенные даты»,
И нет среди них ни одной не проклятой.
Но самой проклятой восходит заря...
Я знаю: колотится сердце не зря -
От звонкой минуты пред бурей морскою
Оно наливается мутной тоскою.
И даже сегодняшний ветреный день
Преступно хранит прошлогоднюю тень,
Как тихий, но явственный стук из подполья,
И сердце на стук отзывается болью.
Я все заплатила до капли, до дна,
Я буду свободна, я буду одна.
На прошлом я черный поставила крест,
Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест,
Что ломятся в комнату липы и клены,
Гудит и бесчинствует табор зеленый.
И к брюху мостов подкатила вода? -
И всё, как тогда, и всё, как тогда.
Все ясно - кончается злая неволя,
Сейчас я пройду через Марсово Поле.
А в Мраморном крайнее пусто окно,
Там пью я с тобой ледяное вино,
И там попрощаюсь с тобою навек,
Мудрец и безумец - дурной человек.
Иосиф Бродский

Ни родины, ни дома, ни изгнанья,
забвенья - нет, и нет - воспоминанья,
и боли, вызывающей усталость,
из прожитой любови не осталось.
Как быстро возвращаются обратно
встревоженные чувства, и отрадно,
что можно снова радостно и нервно
знакомым улыбаться ежедневно.
Прекрасная, изысканная мука -
смотреть в глаза возлюбленного друга
на освещённой вечером отчизне
и удивляться продолженью жизни.
Я с каждым днём всё чаще замечаю,
что всё, что я обратно возвращаю -
то в августе, то летом, то весною -
какой-то странной блещет новизною.
Но по зиме и по земле холодной
пустым, самоуверенным, свободным,
куда как легче, как невозмутимей
искать следы любви невозвратимой.
Но находить полузнакомых женщин,
тела, дома и голоса без трещин,
себя - бегущим по снегу спортсменом,
всегда себя таким же неизменным.
Какое удивительное счастье
узнать, что ты над прожитым не властен,
что то и называется судьбою,
что где-то протянулось за тобою.
Моря и горы - те, что переехал,
твои друзья, которых ты оставил,
и этот день посередине века,
который твою молодость состарил -
всё потому, что, чувствуя поспешность,
с которой смерть приходит временами,
фальшивая и искренняя нежность
кричит, как жизнь, бегущая за нами.

Сжимающий пайку изгнанья
в обнимку с гремучим замком,
прибыв на места умиранья,
опять шевелю языком.
Сияние русского ямба
упорней - и жарче огня,
как самая лучшая лампа,
в ночи освещает меня.
Перо поднимаю насилу,
и сердце пугливо стучит.
Но тень за спиной на Россию,
как птица на рощу, кричит
да гордое эхо рассеян
засело по грудь в белизну.
Лишь ненависть с Юга на Север
спешит, обгоняя весну.
Сжигаемый кашлем надсадным,
все ниже склоняясь в ночи,
почти обжигаюсь. Тем самым
от смерти подобье свечи
собой закрываю упрямо,
как самой последней стеной.
И это великое пламя
колеблется вместе со мной.
Булат Окуджава
Памяти Надежды Обуховой

Когда б вы не спели тот старый романс,
я верил бы, что проживу и без вас,
и бы вы по мне не печалились и не страдали.
Когда б вы не спели тот старый романс,
откуда нам знать, кто счастливей из нас?
И наша фортуна завиднее стала б едва ли.
И вот вы запели тот старый романс,
и пламень тревоги, как свечка, угас.
А надо ли было, чтоб сник этот пламень тревоги?..
И вот вы запели тот старый романс,
но пламень тревоги, который угас,
опять разгорелся, как поздний костёр у дороги.
Зачем же вы спели тот старый романс?
Неужто всего лишь, чтоб боль улеглась?
Чтоб боль улеглась, а потом чтобы вспыхнула снова?
Зачем же вы пели тот старый романс?
Он словно судьба расплескался меж нас,
всё, капля по капле, и так до последнего слова.
Когда б вы не спели тот старый романс,
о чём бы я вспомнил в последний свой час,
ни сердца, ни голоса вашего не представляя?
Когда б вы не спели тот старый романс,
я умер бы, так и не зная о вас,
лишь чёрные даты в тетради души проставляя.

Круглы у радости глаза и велики - у страха,
И пять морщинок на челе от праздненств и обид...
Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха,
И все затихло, улеглось и обрело свой вид.
Все стало на свои места, едва сыграли Баха...
Когда бы не было надежд, на черта белый свет!
К чему вино, кино, пшено, квитанции Госстраха
И вам - ботинки первый сорт, которым сноса нет?
Не все ль равно, какой земли касаются подошвы?
Не все ль равно, какой улов из волн несет рыбак?
Не все ль равно, вернешься цел или в бою падешь ты,
И руку кто подаст в беде - товарищ или враг?..
О, чтобы было все не так, чтоб все иначе было,
Наверно, именно за тем, наверно, потому,
Играет будничный оркестр привычно и вполсилы,
А мы так трудно и легко все тянемся к нему.
Ах, музыкант, мой музыкант! Играешь, да не знаешь,
Что нет печальных, и больных, и виноватых нет,
Когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь,
Ах, музыкант, мой музыкант, черешневый кларнет!

Песчаный путь
В еловый темный лес.
В зеленый пруд
Упавшие деревья
И бирюза,
И огненные перья
Ночной грозою
Вымытых небес!
Желтея грустно,
Старый особняк
Стоит в глуши
Запущенного парка -
Как дико здесь!
Нужна покрепче палка,
Чтоб уложить
Крапиву кое-как...
Покрывшись пеплом,
Гаснет бирюза.
И там, во тьме
Унылого строенья,
Забытого навек
Без сожаленья,
Горят кошачьи
Желтые глаза.
Не отыскать
Заросшие следы,
Ничей приход
Не оживит картины,
Лишь манят, вспыхнув,
Ягоды малины
Да редких вишен
Крупные плоды.
Здесь барин жил.
И может быть, сейчас,
Как старый лев,
Дряхлея на чужбине,
Об этой сладкой
Вспомнил он малине,
И долго слезы
Катятся из глаз...
Подует ветер!
Сосен темный ряд
Вдруг зашумит,
Застонет, занеможет,
И этот шум
Волнует и тревожит,
И не понять.
О чем они шумят.
Н.Рубцов

В те ночи светлые, пустые,
Когда в Неву глядят мосты,
Они встречались как чужие,
Забыв, что есть простое ты.
И каждый был красив и молод,
Но, окрыляясь пустотой,
Она таила странный холод
Под одичалой красотой.
И, сердцем вечно строгим меря,
Он не умел, не мог любить.
Она любила только зверя
В нём раздразнить - и укротить.
И чуждый - чуждой жал он руки
И север сам, спеша помочь
Красивой нежности и скуке,
В день превращал живую ночь.
Так в светлоте ночной пустыни,
В объятья ночи не спеша,
Гляделась в купол бледно-синий
Их обречённая душа.
А.Блок
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 10 Фев 2012, 23:50 | Сообщение # 10 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | Светлой Памяти Александра Сергеевича Пушкина

Сонные звезды над лесом пылают,
Кони храпят, снег алеет с рассветом,
Трость у камина, свеча оплывает,
Лист не дописан и ждут пистолеты...
Что наши дни? Капли с весел Харона,
Искры желаний, песчинки событий...
Да, но не ездите, но непреклонно
Пишите, Пишите, Пишите!
Скорбная маска в соборе угрюмом,
Слезы друзей и покой саркофага
Вместо красавиц, волнующих думы,
Дружеской чаши и жженки на шпагах.
Что наши дни? - Это солнце в зените,
Реки весной, океаны пред бурей.
Полно, не ездите! Нет, погодите!
Сядем к камину, покурим....
О, колдовство ваших слов сокровенных,
Полных то льдом, то кипящею лавой!...
Вспыхнет ужель на устах несравненных
Слово последнее пеной кровавой?!
Что наши дни? - Это слава России,
Это стихи, словно истина, вечны.
Бросьте, не ездите, будьте же сильным!
Слышите, звякнул бубенчик?..
Слышите, выстрел за озером треснул?
Слышите, горе грохочет над миром?
Слышите, как благородно и честно
Панцирь звенит под гвардейским мундиром?!
Что наши дни? - Это молнии в полночь,
Судеб и песен неслыханных нити.
Сударь, вы едете?.. Бог вам на помощь!
Не промахнитесь... не промахнитесь...
А.Краснопольский

А мне приснился сон,
Что Пушкин был спасён
Сергеем Соболевским…
Его любимый друг
С достоинством и блеском
Дуэль расстроил вдруг.
Дуэль не состоялась,
Остались боль, да ярость,
Да шум великосветский,
Что так ему постыл…
К несчастью, Соболевский
В тот год в Европах жил.
А мне приснился сон,
Что Пушкин был спасён.
Всё было очень просто:
У Троицкого моста
Он встретил Натали.
Их экипажи встали.
Она была в вуали –
В серебряной пыли.
Он вышел поклониться,
Сказать – пускай не ждут.
Могло всё измениться
За несколько минут.
К несчастью, Натали
Была так близорука,
Что, не узнав супруга,
Растаяла вдали.
А мне приснился сон,
Что Пушкин был спасён…
Под дуло пистолета,
Не опуская глаз,
Шагнул вперёд Данзас
И заслонил поэта.
И слышал только лес,
Что говорил он другу…
И опускает руку
Несбывшийся Дантес.
К несчастью, пленник чести
Так поступить не смел.
Остался он на месте,
И выстрел прогремел.
А мне приснился сон,
Что Пушкин был спасён…
А.Дементьев

Вздыхает ветер. Штрихует степи
Осенний дождик – он льет три дня...
Седой, нахохленный, мудрый стрепет
Глядит на всадника и коня.
А мокрый всадник, коня пришпоря,
Летит наметом по целине.
И вот усадьба, и вот подворье,
И тень, метнувшаяся в окне.
Коня – в конюшню, а сам – к бумаге.
Письмо невесте, письмо в Москву:
"Вы зря разгневались, милый ангел, –
Я здесь, как узник в тюрьме, живу.
Без вас мне тучи весь мир закрыли,
И каждый день безнадежно сер.
Целую кончики ваших крыльев
(Как даме сердца писал Вольтер).
А под окном, словно верный витязь,
Стоит на страже крепыш дубок...
Так одиноко! Вы не сердитесь:
Когда бы мог – был у ваших ног!
Но путь закрыт госпожой Холерой...
Бешусь, тоскую, схожу с ума.
А небо серо, на сердце серо,
Бред карантина – тюрьма, тюрьма..."
Перо гусиное он отбросил,
Припал лицом к холодку стекла...
О, злая Болдинская осень!
Какою доброю ты была!
Так много Вечности подарила,
Так много русской земле дала!..
Густеют сумерки, как чернила,
Сгребает листья ветров метла.
С благоговеньем смотрю на степи,
Где он на мокром коне скакал.
И снова дождик, и снова стрепет –
Седой, все помнящий аксакал.
Ю.Друнина

У старых тополей из пушкинских времён
Так зелена листва и так свежо дыханье…
Я вижу добрый знак в их мерном колыханье,
Ответить рада им поклоном на поклон.
Поглажу старый ствол, представив на мгновенье,
Что за спиной шаги далёкого певца…
И в бликах золотых мне вдруг блеснёт виденье,
Окрасит счастьем день черты его лица.
Пусть жизнь моя идёт своею чередою,
И далеко не всё вокруг ласкает слух,
Но старых тополей покоен властный дух
Над Мойкою — знакомою рекою…
И есть возможность тронуть ствол рукою,
Поймать губами тополиный пух.
И.Малярова

А он и вправду бесподобный гений,
Неповторимый в просверках мгновений
И незабвенный в памяти веков, –
Таков вердикт всемирных языков.
И всё же, всё же, говоря по-русски,
Он сам себе оценщик: "Ай да Пушкин!"
И озорник на поприще амура.
Он весь – душа и ум без перехмура.
Е.Исаев

Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?..
А.Ахматова

К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор?..
М.Ю. Лермонтов
Он умиленьем нашим сыт уже
И восхищенья больше не приемлет.
О чем его мечтается душе?..
Что юный друг венец его потреплет?
Что, возвратившись в Царское Село,
К семье весёлых отроков-поэтов,
Поймет он: и потомков с ним свело,
Не жаждущих ни лести, ни наветов?..
Что недоступна больше Натали;
Ни сплетням, ни злословью, ни участью,
Что где-то там, в заоблачном «вдали»,
Открылся путь к загаданному счастью?..
Что упоенье сладостных минут
Не сменится тревогой роковою,
Что предсказанья тяжкие – мину;т,
Не сжав курка устройство спусковое?..
А после смерти – жалость и упрёк
Уже не столь важны, не столь всесильны.
Преемник слово истое изрёк…
Что наши слезы, хоть они обильны?!
И восхищеньем, умиленьем вновь
Не будем досаждать душе Поэта…
Быть может, лишь безмолвную любовь
Он примет, удостоивши ответа.
Кнарик Хартавакян

И впредь шуметь его глаголам
По городам по всем, по селам,
По всей родной земле шуметь,
Будить к добру булат и медь,
Бессмертным эхом кочевать,
И жечь сердца, и врачевать.
Е.Исаев

Подумать только! - два столетья
Твои стихи не сходят с уст!
Не сомневаюсь - минет третье -
Кумира храм не будет пуст!
Непререкаемое Время
Всё осенит своим крылом…
Но как при жизни хрупок Гений,
Как беззащитен перед злом!
Легко ли гордость год за годом
Смирять, как предок Ганнибал,
И быть в глазах других - уродом,
С красавицей явясь на бал...
О, русский Гений, бедный Пушкин!
Как нестерпимо ты страдал,
Когда не стоивший полушки,
Холёный чванился вандал...
Пусть на обиды, униженья
Твоя Судьба была щедра,
Но, покоряясь Провиденью,
Не кровь - ЛЮБОВЬ текла с пера!
И Случай, Бог-изобретатель,
Всё ж выпал, как козырный туз!
Сердца отдал тебе читатель -
Поклонник и ценитель муз!
Не оставляет ощущенье,
Что дышим воздухом одним!
И застываешь в восхищенье -
Ай, Пушкин! Ай да сукин сын!
Л.Луткова

Россия на всем протяжении
истории мрачной своей
была палачом в отношении
отмеченных Богом людей.
Талантливый очень опасен:
догадлив не в меру и смел.
И вывод, конечно же, ясен:
на дыбу, в тюрьму, под расстрел.
Военный – под пули отправить,
писатель – перо отобрать,
художник – без красок оставить,
скрипач – не позволить играть…
Россия, войну с населением
победно закончила ты:
на каждого русского гения
один миллион пустоты.
А.Смирнов
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 07 Июн 2012, 08:56 | Сообщение # 11 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...
А.С. Пушкин

С Днем рожденья, Пушкин, дорогой!
Шла к тебе я с детскою мечтой:
На кота, с златою цепью дуб
И русалку милую взглянуть!
Н.Ильичева

Любезный Александр Сергеевич!
Я к Вам пишу, чего скрывать,
Давно уже незримо с нами,
Вы, вдохновляя нас опять,
На творчество и на «пирушки»,
Газет издание и книг.
Вам посвящаем ныне, Пушкин,
И этот незабвенный миг!
Вы числитесь по всей России:
По селам и по городам,
Где жили Вы и где любили,
Там ставят памятники Вам!
Есть скверы, улицы, проспекты,
Что называли в вашу честь.
Внесла и Кохма свою лепту –
Здесь улица и бюст Ваш есть.
Мы Вас не мыслим без героев
Творений ваших ни на час –
И Рыбка, Лебедь, Кот Ученый
С Русалкой окружают Вас.
И в нашем кохомском музее
Живете Вы уж много дней,
И с каждым часом все живее
В рисунках взрослых и детей,
В значках и книгах, сувенирах,
И на листе календаря,
На фотографиях старинных,
И даже в грамотах царя.
Вы помогаете, коль просим,
И обещаем Вам сейчас,
Что в Вашу Болдинскую осень
Отправимся мы в этот раз!
Где упоенно так писали,
Поверив в счастье и любовь,
Где всему миру доказали,
Что русская течет в Вас кровь.
Никто, как Вы, понять не сможет
Народа душу, быт и нрав,
Как он любить и верить может,
В чем уязвим он, где неправ.
Вы – словно Солнце для поэтов,
Кудесник Вы, Вы – наше всё!
В День Пушкинский, в начале лета
Примите творчество моё!
Н.Цикулина

Иду в Михайловские лесом,
Без указательных столбов...
Роса искрится под навесом
Высоких сосен и дубов.
И вот он - дом на возвышенье,
Ворота, пряслица, сады.
Вот островок уединенья
В кольце задумчивой воды.
В лесу часовенка, беседка,
Ветвей движение и скрип.
В аллее солнечная сетка
И сладковатый запах лип.
Вхожу в уютный домик няни:
Кровать и коврик на полу.
Вот закуток старинной бани
С полком и каменкой в углу.
Вот связка веников, кадушка...
А во дворе, на чурбаке,
Стоит игрушечная пушка
С затвором медным на шнурке.
Здесь все хранит следы поэта:
С дубовой дверцей погребок,
В который он из пистолета
Стрелял, уперши руку в бок.
И под амбарной крышей «било»,
И эта ступа, и весы –
Когда-то радостно служило
Ему в беспечные часы.
Т.Белозеров

В кружево прозрачного тумана
Солнышко вплетает свой узор,
Осветилась парка панорама,
Гроздь рябины - праздничный костер.
В октябре всегда приходят люди
В скромный флигель царского дворца.
Ни один из нас не позабудет
Пушкинского юного лица.
На куртинах побурели травы,
Ветер шумно листьями шуршит...
Пусть в приволье Пушкинской дубравы
Выплеснутся звуки из души.
Пусть багряный лист красой сверкает,
Пусть, кружась, на землю упадет.
Это фея-осень золотая
В день Лицейский к Пушкину зовёт.
Согретый солнцем шаловливый ветер
Ласкает всех. Мелками и углем
Рисуют в парке на асфальте дети
На конкурсе бесхитростном своем.
Рисуют дети пушкинские сказки
(О них мы очень много говорим).
Сюжет рисунка, образы и краски
Фантазия подсказывает им.
Смотри: раскинул ветви дуб громадный,
И песню намурлыкивает кот,
А богатырь Руслан - могучий, ладный -
Всю вражескую силу разобьет.

Рисуют дети вдумчиво, серьезно
Арапа Ганнибала и Петра,
Поэмы иллюстрируют и прозу:
Буран в степи, цыганы у шатра.
Сияет небо ярко-синей смальтой.
В рисунках детских ни малейшей лжи.
Рисуют в парке дети на асфальте,
А это значит - Пушкин будет жить.
Н.Иванова

«Я Вам пишу – чего же боле?» -
То ваши строки, мой поэт,
То Ваши мысли, Ваша воля
И этих строк дороже нет.
Для нас, потомков тех столетий,
Они как чистый бриллиант,
Что драгоценней есть на свете.
Чем Ваш божественный талант?
И мы теперь Вам пишем строки
Из уважения в стихах.
Признать должны, что это сложно...
Но Вас читая, мы никак
Предположить бы не смогли,
Каким трудом Вы создавали,
Все то, что мы потом читали
И что в историю внесли.
Поэмы, повести и драмы,
Стихи и сказки, эпиграммы –
Вы сочиняли, вдохновляясь,
Сиюминутно, неустанно!
Бывало, мыслью пораженный,
Застигнут музой был в ночи,
И вот сидел один, бессонный,
При слабом свете от свечи...
Рука дрожащая бежала,
Глаза блестели, как огонь,
Перо отчаянно сжимала
Поэта крепкая ладонь.
А рифма змейкой ускользала,
Теряясь в сумерках, смеясь...
То появлялась, то мешала...
И злость охватывала Вас.
В порыве страстном Вы бросали –
Перо, бумагу – с глаз долой.
Листы по комнате кидали,
Быть может, плакали, стонали
Ведомый яростной волной.
Душа мятежна. В эту ночь
Найти покой смогла б едва ли...
Вы гнали сон куда-то прочь,
И Вам никто не мог помочь,
Пока Вы рифму догоняли...
Поэт! Поэт! Зачем же так
Судьба безжалостно-жестоко
Толкнула Вас на этот шаг,
Суровый путь немого рока?
И Вашей смерти искупить
Не могут тысячи Дантесов,
Ведь их не будут так любить,
Им не занять так много места!
Любовь России Вам дана,
И помнить Вас уже привычно,
Знакомый гость во всех домах,
Поэт великий нам обычен!
Ведь стал понятным и родным,
Как солнца свет над той опушкой,
Но Вы по-прежнему любим
Поэт от Бога, Саша Пушкин!
О.Александрова
Геннадий Шпаликов
Три посвящения Пушкину

Люблю Державинские оды,
Сквозь трудный стих блеснет строка,
Как дева юная легка,
Полна отваги и свободы.
Как блеск звезды, как дым костра,
Вошла ты в русский стих беспечно,
Шутя, играя и навечно,
О легкость, мудрости сестра.
***
Влетел на свет осенний жук,
В стекло ударился, как птица,
Да здравствуют дома, где нас сегодня ждут,
Я счастлив собираться, торопиться.
Там на столе грибы и пироги,
Серебряные рюмки и настойки,
Ударит час, и трезвости враги
Придут сюда для дружеской попойки.
Редеет круг друзей, но - позови,
Давай поговорим как лицеисты
О Шиллере, о славе, о любви,
О женщинах - возвышенно и чисто.
Воспоминаний сомкнуты ряды,
Они стоят, готовые к атаке,
И вот уж Патриаршие пруды
Идут ко мне в осеннем полумраке.
О собеседник подневольный мой,
Я, как и ты, сегодня подневолен,
Ты невпопад кивай мне головой,
И я растроган буду и доволен.
***
Вот человеческий удел -
Проснуться в комнате старинной,
Почувствовать себя Ариной,
Печальной няней не у дел.
Которой был барчук доверен
В селе Михайловском пустом,
И прадеда опальный дом
Шагами быстрыми обмерен.
Когда он ходит ввечеру,
Не прадед, Аннибал-правитель,
А первый русский сочинитель
И - не касается к перу.
Вот человеческий удел -
Проснуться в комнате старинной,
Почувствовать себя Ариной,
Печальной няней не у дел.
Которой был барчук доверен
В селе Михайловском пустом,
И прадеда опальный дом
Шагами быстрыми обмерен.
Когда он ходит ввечеру,
Не прадед, Аннибал-правитель,
А первый русский сочинитель
И - не касается к перу.

Уникальная купюра, выпущенная к 200-летию Поэта, но так и не принятая к обращению.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 26 Апр 2013, 22:24 | Сообщение # 12 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 
Прощай! Завидую тебе -
Твоей поездке, не судьбе:
Я гордостью, ты знаешь, болен
И не сменяю ни на чью
Судьбу плачевную мою,
Хоть очень ею недоволен.
Ты счастлив. Ты воскреснешь вновь;
В твоей душе проснется живо
Всё, чем терзает прихотливо
И награждает нас любовь,-
Пора наград, улыбок ясных,
Простых, как молодость, речей
Ночей таинственных и страстных
И полных сладкой лени дней!
Ты знал ее?.. Нет лучшей доли!
Живешь легко, глядишь светлей,
Не жалко времени и воли,
Не стыдно праздности своей,
Душа тоскливо вдаль не рвется
И вся блаженна перед той,
Чье сердце ласковое бьется
Одним биением с тобой...
Счастливец! из доступных миру
Ты наслаждений взять умел
Всё, чем прекрасен наш удел:
Бог дал тебе свободу, лиру
И женской любящей душой
Благословил твой путь земной...
Н.Некрасов, 21 июля 1856
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...
Ал.Блок

Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!
Ее равнины снеговые,
Ее цыгане кочевые, -
Ах, им ли радость не дана?
Ее порывы огневые,
Ее мечты передовые,
Ее писатели живые,
Постигшие ее до дна!
Ее разбойники святые,
Ее полеты голубые
И наше солнце и луна!
И эти земли неземные,
И эти бунты удалые,
И вся их, вся их глубина!
И соловьи ее ночные,
И ночи пламно-ледяные,
И браги древние хмельные,
И кубки, полные вина!
И тройки бешено степные,
И эти спицы расписные,
И эти сбруи золотые,
И крыльчатые пристяжные,
Их шей лебяжья крутизна!
И наши бабы избяные,
И сарафаны их цветные,
И голоса девиц грудные,
Такие русские, родные,
И молодые, как весна,
И разливные, как волна.
И песни, песни разрывные,
Какими наша грудь полна,
И вся она, и вся она -
Моя ползучая Россия,
Крылатая моя страна!
И.Северянин

В пол-оборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.
Зловещий голос - горький хмель -
Души расковывает недра:
Так - негодующая Федра -
Стояла некогда Рашель.
О.Мандельштамм

Утром, вставя ногу в стремя,-
ах, какая благодать!-
ты в теперешнее время
умудрился доскакать.
(Есть сейчас гусары кроме:
наблюдая идеал,
вечерком стоят на стреме,
как ты в стремени стоял.
Не угасло в наше время,
не задули, извини,
отвратительное племя:
"Жомини да Жомини".)
На мальчишеской пирушке
В Царском,- чтоб ему!- Селе
были вы - и ты и Пушкин -
оба-два навеселе.
И тогда тот мальчик черный
прокурат и либерал,
по-нахальному покорно
вас учителем назвал.
Обождите, погодите,
не шумите - боже мой!-
раз вы Пушкина учитель,
значит, вы учитель мой!
Н.Заболоцкий

Мой обожаемый поэт,
К тебе я с просьбой и с поклоном:
Пришли в письме мне твой портрет,
Что нарисован Аполлоном.
Давно мечты твоей полет
Меня увлек волшебной силой,
Давно в груди моей живет
Твое чело, твой облик милый.
Твоей камене - повторять
Прося стихи - я докучаю,
А все заветную тетрадь
Из жадных рук не выпускаю.
Поклонник вечной красоты,
Давно смиренный пред судьбою,
Я одного прошу - чтоб ты
Во всех был видах предо мною.
Вот почему спешу, поэт,
К тебе я с просьбой и поклоном:
Пришли в письме мне твой портрет,
Что нарисован Аполлоном.
А.Фет

Когда устану уставать
От беспорядочных сомнений,
Я перестану воевать
И упаду в твои колени.
И пусть огнем горят дела,
Что толку в них?
Одно расстройство,
От них ни света, ни тепла,
А только боль и беспокойство
сомнительного свойства.
Когда в последний раз сорвусь,
Он близок - этот раз последний,
Я знаю, что не разобьюсь,
Я упаду в твои колени.
И пусть простят меня стихи
И недописанные песни-
Немые спутники тоски
И затянувшихся депрессий,
Мои стихи и песни...
Ну, а когда порвется нить
И сгинут разом все волненья,
Меня не надо хоронить,
Я упаду в твои колени.
И.Тальков

Читаю мемуары разных лиц.
Сопоставляю прошлого картины,
что удается мне не без труда.
Из вороха распавшихся страниц
соорудить пытаюсь мир единый,
а из тряпья одежки обветшалой -
блистательный ваш облик, господа.
Из полусгнивших кружев паутины -
вдруг аромат антоновки лежалой,
какие-то деревни, города,
а в них - разлуки, встречи, именины,
родная речь и свадеб поезда;
сражения, сомнения, проклятья,
и кринолины, и крестьянок платья...
Как медуница перед розой алой -
фигуры ваших женщин, господа...
И не хватает мелочи, пожалуй,
чтоб слиться с этим миром навсегда.
Б.Окуджава

Поглядишь, как несметно
разрастается зло -
слава богу, мы смертны,
не увидим всего.
Поглядишь, как несмелы
табуны васильков -
слава богу, мы смертны,
не испортим всего…
А.Вознесенский
Валерию Агафонову

Светлый храм одинокой души
Под пологом осенних небес,
И качает ветвями в тиши
Золотисто-коричневый лес -
Светлый храм одиноких сердец -
Кто средь шума поймет голос твой?
Только вздрогнет, проснувшись, певец,
Откликаясь на старую боль.
И гитара, подруга его,
Вновь послушно сойдет со стены
И напомнит, что было давно,
Пробудившимся звуком струны.
Вновь воскресшую память свою -
Как свечу на окошко в ночи.
Если предал ты сердце огню,
Об ожоге пропой, не молчи!
О.Котова
Памяти Булата Окуджавы

Он проходит у всех на виду,
Краем сцены на лобное место -
Как по хрупкому тонкому льду
До незримой черты чародейства.
И уже он не с нами, он там -
Вне волненья и вне микрофонов.
На мгновенье сжимает уста,
К светлой музыке приговорённый.
Ах, седой гитарист
с виду столь неказист.
Отчего же так души
трепещут?
И сегодня ему,
лишь ему одному
Даже боги - и те
рукоплещут.
В зале взглядов чужих решето
Жаждет боли, и он это знает.
Нынче сцена - его эшафот,
А душа - словно рана сквозная.
Время замерло, надо успеть
Напоследок с гитарой обняться
И пронзительно песню допеть,
Как последней весной надышаться.
Ах, седой гитарист
с виду столь неказист.
Отчего же так души
трепещут?
И сегодня ему,
лишь ему одному
Даже боги - и те
рукоплещут.
Как умеет он тронуть струну,
Как поёт - только слушать и слушать!
Не свою, а чужую вину
Он проносит сквозь светлую душу.
Словно шелест листвы на ветру
Долетают его ощущенья.
Чистый голос росой поутру
Нам дарует грехов отпущенье.
Отзвучал, растворяясь, аккорд -
Потаенно и непринужденно.
Он встает, и печален, и горд,
Казнь познавший, но вновь возрожденный.
Осыпаемый морем цветов,
Он стеснительно ловит мгновенья,
Хоть весь мир покаянно готов
Преклонить пред Талантом колени.
Ах, седой гитарист
с виду столь неказист.
Отчего же так души
трепещут?
И сегодня ему,
лишь ему одному
Даже боги - и те
рукоплещут.
И.Кулёв
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 18 Окт 2013, 22:54 | Сообщение # 13 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ДИКСОН
(16.03. 1900–17.12. 1929)

В.В. (Уолтерович) Диксон родился в Сормове Нижегородской губернии. Отец его, Уолтер Фрэнк Диксон, американский инженер, приехал в Россию в 1895 г. работать на паровозном заводе Сормова. В 1898 г. он женился на Л.И. Биджевской (дед ее был поляком). В 1900 г. семья Диксонов вместе с трехмесячным сыном Владимiром переехала в Подольск Московской губернии, где отец стал работать в компании "Зингер". Воспитанием сына занималась мать и гувернантка-француженка. В 9 лет он, ученик Подольского реального училища, говорил по-французски, по-английски, писал стихи по-русски. С детства имел глубокое религиозное чувство. Окончил училище в 1917 г.
Затем начинается американский период жизни – родители отправили его на родину отца подальше от революции. В феврале 1918 г. Владимiр поступил в Массачусетский технологический институт на курс инженеров-механиков. Великая война близилась к концу, тем не менее через три месяца после зачисления в институт он вступил в Офицерский подготовительный корпус, а когда был объявлен набор 18-х, служил солдатом. Готовилось его назначение в штаб генерала Першинга переводчиком (Диксон к тому времени владел четырьмя языками), но после окончания войны 11 ноября 1918 г. он демобилизовался и продолжил занятия в институте, который окончил в июне 1921 г. со степенью бакалавра. Спустя два месяца стал аспирантом Гарвардского университета и в июле 1922 г. получил степень магистра. В 1923 г. молодой инженер благодаря рекомендации отца становится ведущим инженером в филиале компании "Зингер" в Париже.
Переезд в Париж – литературную столицу русского Зарубежья – коренным образом изменил его жизнь. Там Владимiр включился в жизнь русской эмиграции, нашел близких друзей-единомышленников, много писал и переводил стихи молодых русских поэтов-эмигрантов на английский язык. Ему помогал советами литератор и переводчик князь Дм. Шаховской, один из его верных товарищей, оказавших на мiровоззрение молодого писателя большое влияние. Он познакомил Владимiра с обширным кругом писателей и литераторов "русского Парижа": Дм.Святополк-Мирским, А.Ремизовым, В.Набоковым, высоко оценившим талант В.Диксона как литератора, «имевшего образный, чистый язык и поэтический голос». В его поэтическом мiре, человека религиозного, значительное место часть занимают стихотворения духовного содержания, в которых отразились мучительные поиски смысла жизни и нравственного пути самого автора. Много стихотворений посвящено России, родине его детства, к которой он сохранил в душе своей теплую любовь. Россия для него – это "земля вовек святая", а всё, что не Россия, то для Диксона – духовная "чужбина", пустыня... Он обработал и переложил на современный русский язык цикл легенд, посвященных бретонским святым. Ремизов связывает это увлечение Диксона историей Бретонии и Ирландии с историей рода Диксона: по отцовской линии предки его были шотландцы, и один из них за верную службу королю Вильгельму III Оранскому был одарен землей в Ирландии. Но самому поэту виделась во всем этом неуловимая духовная связь с Россией.
«Эта связь идет не во времени и не в крови, а как-то под временем и в духе. Особенно эта связь сильна в понимании святости; в понимании жизненности веры; в какой-то неисчезающей, неизъяснимой надежде. И нечто совсем русское чувствуется мне в судьбах и страданиях Бретонских святых...» – говорил он. В 1924 г. в Париже был издан сборник стихов "Ступени", очень благожелательно встреченный русскими эмигрантами, а в 1927 г. – книга прозы, уже упомянутые "Листья".

Все они были выпущены издательством "Вол", основанным Владимiром при серьезной поддержке его друзей и родных. У издательства и молодого автора было много планов: издавать переводы, ежемесячное литературное обозрение – журнал. Сам Диксон задумал перевести на английский А.Блока, стихи которого очень любил. Однако литературный успех молодого поэта не был для него высшим смыслом жизни. Узнав, что князь Шаховской уезжает на Афон для принятия иноческого пострига, Владимiр пишет ему 2 июля 1926 г.: «Как я рад за вас, что вы будете в Церкви. Вне Христа – гибель... Я сам томлюсь ужасно: но нет во мне благодати, чтоб отречься от всего, чем спутан. И не правы вы, говоря, что уходите от "литературы по слабости; – по благодати уходите. Не бегство – а исход. И вы мне теперь сразу стали очень близки, и я вас очень полюбил... В наши дни (всегда, но в наши дни особенно – я чувствую) Дух Святой веет над Россией...».
Поэта, «одаренного всем, что есть у Бога» (по словам А.Ремизова), Бог же и призвал к себе неожиданно в возрасте 29 лет. 17 декабря 1929 г. в Американском госпитале Парижского предместья Нейи-сюр-Сен Владимiр Диксон умер на десятый день после операции аппендицита от эмболии (нарушение кроветворения ведущее к образованию тромбов в организме, отеку легких). Похоронили его в американском городе Пленфилд, где жили родители. В гроб положили горсточку русской земли. В 1930 г. стараниями близких и друзей Владимiра был выпущен сборник "Стихи и Проза", с предисловием Ремизова. В сборник вошло все написанное Диксоном в 1926-1929 годах: сказки, цикл бретонских легенд, переложения жития святых, стихи, рассказы-миниатюры о детстве, живо воссоздающие уклад дореволюционной России. В книге, оформленной рисунками самого Владимiра – у него были неплохие способности и в этой области, – бережно собраны все его фотографии, дан указатель всех произведений из трех его сборников с датами и местом их написания.
И.А. Ильин откликнулся на посмертный сборник В.Диксона "Стихи и проза" в проникновенном исследовании "Россия в русской поэзии": «Как отзывается русская поэзия на настоящее и будущее России? Видит ли она ее и нашу трагедию? И как мыслит она себе наше призвание? Я должен сказать, что ни у одного из современных поэтов я не находил такого глубокого и тонкого чутья этой духовной трагедии, как у скончавшегося в возрасте 29 лет В.Диксона. Прислушаемся к его неподдельной и беззаветной патриотической тоске: "Это вечное слово – Россия"... Поэт постиг до конца религиозную природу того, что совершается в России; он постиг, что русский народ в муках и унижениях, в страхах и томлении – выстрадывает себе новую веру, новое христианство, новую чистую и героическую душу...»
Из стихов Владимiра Диксона
Это вечное слово – "Россия" –
Словно ангельский свет для меня,
Словно совести зовы простые,
Словно вихри снегов и огня.
Не напрасен мой путь, не случаен;
Там – Россия, там – пламя и лед;
Но до мудрых, безумных окраин
Серединная жизнь не дойдет.
Надо сердце иметь не такое,
Надо душу иную иметь,
Надо жить неземною тоскою,
Надо песни нездешние петь.
Глаз не видит и уши не слышат,
Запечатаны болью уста;
Там – Россия страдает и ищет,
Ищет Божьего Сына – Христа.
Июнь 1928, Орлеан
+ + +
На сей земле, от века и до века,
Во всех от Бога данных временах
Одна бывает мать у человека,
Одно бывает солнце в небесах.
И сердце верное не может измениться,
И сердце верное не может изменять:
Пускай раба не милует царица,
Пускай о сыне не горюет мать,
Пускай меня Россия позабудет
Россия – родина, Россия – мать моя:
Нет у меня и никогда не будет
Иной любви, иного бытия.
Июнь 1926, Орлеан
+ + +
Так было в сказочной России:
Пушистый снег, холодный час,
О вечера мои родные,
Сегодня вспоминаю вас.
Несутся маленькие санки,
Березы белые бегут...
На молчаливом полустанке
Ищу от сумрака приют.
Под песню тонкую печурки
Для чая греется вода.
Я с памятью играю в жмурки:
Ловлю минувшие года.
Но на чужом, на незнакомом,
На непонятном языке
Поет о чем-то перед домом
Ребенок с куклою в руке:
И сразу боль в душе проснулась,
Погас опять мгновенный свет:
Глаза и сердце обманулись
России нет, России нет.
28 марта 1926, Hamar
+ + +
Здесь намечено и размерено,
Все по правилу, по струне:
Только сердце мое потеряно
В этой вылощенной стране.
У нас не такие сажени,
Совсем другая верста,
Наши лошади не запряжены,
И конюшня давно пуста.
У нас – колеи глубокие,
Тяжело бежать колесу;
Васильки голубоокие
Пьют холодную росу.
У нас дорога проселочная
И таинственна и длинна:
Хорошо вспоминать про солнечные,
Про веселые времена.
У нас не такие дороги.
Совсем иные пути:
Вся наша надежда – в Боге,
Больше некуда нам идти.
Май 1928, Берн
http://www.rusidea.org/?a=25121708

У каждого своя забота в мире,
Свой счет веселий, песен и потерь.
Стоит зима в неведомой Сибири
И много снега в Галиче теперь.
Примчится вихрь и душу вдруг задует,
Как задувает звезды на заре.
Еще весна в Рязани не колдует
И лед не тронулся на маленькой Пахре.
А ближе к нам - в морозе мерзнет Киев
И не размяк душистый чернозем.
У нас теперь заботы не такие,
В иных краях мы иначе живем.
И даже здесь, где мы - почти немые,
Где пенье слов души не веселит,
Мы ведаем, как там - у нас - в России
Холодный вечер медленно горит.
И как блестит на ветвях белый иней,
И как полозья на пути хрустят,
И как звезда горит в пустыне синей,
И голоса родные говорят.
27 февраля 1929, Брюссель

Я помню звезд бесчисленные свечи,
Как угольки в мерцающей золе.
Мне кажется, я не на этой встречной,
Любимой больно, родился земле.
Я только гость, оставшийся случайно
На перепутье переночевать,
И лишь заря займется на окрайне,
Оставлю я случайную кровать.
И снова в путь искать родное поле,
Где много звезд и много васильков,
Где жизнь без лжи, без горя и без боли,
Течет ручьем у тихих берегов.
А на земле останется за мною
Лишь слабый свет моих немногих слов,
Как снег, упавших тонкой пеленою
В прозрачной дали долгих вечеров.
Июль 1929, Кельн
«ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ ОТ БОГА ПРЕКРАСНОГО, ДАНО ЕМУ БЫЛО...»
Арбат жил обычной своей суетой: многоликая, разномастная толпа растекалась по проспекту; от проносившихся нескончаемым потоком автомобилей стоял непрерывный гул; серые башни из железобетона, сверкавшие витринами, от света, однако - заслоняли; упавшая тень не спасала от духоты и зноя. Я сидела в маленьком полупустом кафе, отрешенно вглядываясь в лица, фигуры людей, спешащих и праздно гуляющих, и пыталась представить среди них его - красивого темноволосого юношу с лучистым взглядом серых глаз и губами, застывшими в полуулыбке. Напрасно: никак не вписывался он в сие окружение.
... И в городе лживом и сером
Одиноким останусь я вновь...
Вспомнила только что прочитанные стихи. Да и не вспомнила даже - воспроизвела в памяти, потому как еще находилась под впечатлением, с неохотой покинув читальный зал архива русского зарубежья в доме-музее М.Цветаевой. Три книжечки - маленькие, очень скромно оформленные, потрясли меня безмерно: я встретилась с В.Диксоном. Не берусь судить о литературных достоинствах произведений, скрытых под тонкой обложкой, есть на то свидетельства современников автора, отмечавших в его стихах "чистоту языка, "зависимость от традиций всей русской поэзии" и "подлинный поэтический голос". А В.Набоков писал о прекрасном языке и образной простоте его рассказов. Но для меня не это было важно. Хотелось понять, узнать его поближе. Кажется, удалось - отчасти, ведь в душу не заглянешь, хоть и писал Владимир искренне:
Верю в родины тайную силу
И храню молчаливый завет:
Без нее мне и солнце уныло,
Без нее мне и радости нет...
Официально он являлся гражданином Северо-Американских Соединенных Штатов, но родиной своей всегда считал Россию. Сюда, назначенный зав.паровозостроительным отделением сормовских заводов, прибыл в 1895 году его отец, который женился на русской подданной. А вскоре судьба накрепко связала их с Подольском небольшим уездным городком под Москвой, где компания «Зингер» основала первый и единственный в России завод швейных машин. Его строительством и затем крупнейшим по тем временам производством вплоть до 17-го руководил Василий Васильевич (так, на русский манер, именовали директора) Диксон. Когда семья из Сормова переехала в Подольск, сыну, едва исполнилось три месяца. Что касается имени, то ни сверстникам, ни взрослым не было надобности переиначивать его: звали Диксона-младшего Владимир. По-русски... Да он и был русским. Даже в истории своего рода (предки по отцовской линии были шотландцы, одного из них за военные заслуги английский король Вильгельм III Оранский одарил землей в Ирландии) открыл однажды Владимир неуловимую духовную связь страны его предков с Россией: «Эта связь идет не во времени и не в крови а как-то под временем и в духе. Особенно эта связь сильна в понимании святости; в понимании жизненности веры; в какой-то неизъяснимой надежде».
Воспитанием мальчика занимались мать и гувернантка-француженка. Отца видел нечасто - тот был занят на службе, но встречи с ним доставляли особую радость. Родителей он очень почитал, иначе не посвятил бы им первую свою творческую удачу - сборник стихов "Ступени". В последующих же изданиях отец и мать, присутствуют, можно сказать, зримо: некоторые рассказы во многом автобиографичны, а место действия, события, люди, проходящие через восприятие героя, легко узнаваемы: "Саша говорит, что лошади поданы, и Митя с мамой едут кататься. Мама сама правит и знает, как повернуть шарабан и как его остановить. Хорошо, когда в шарабан запряжен Барс. Он легкий и летит легко; Васька - тяжелый, на Ваське ездят в городе, а если кататься - то всегда Барса или Змея. Шоссе - белое и по обе стороны - лес до самых Дубровиц; потом поле, а после Кривого моста - опять лес. За Кривым мостом - имение Елены Павловны - "Кузнечики" - там летом по вечерам лягушки и кузнечики заливаются и летают мушки, у которых брюшко светится... "
Не думаю, что Диксон оказался исключением среди воспитанников реального училища, на которых весьма благотворное влияние оказало пребывание в этих стенах, где царила атмосфера товарищества и творчества, где каждый преподаватель, не говоря уже о директоре В.Н. Ферри, не только прекрасно знал предмет, но и представлял собой личность уникальную. На учениках это, разумеется, не могло не отразиться: из училища вышло немало замечательных людей. С одним из них академиком, дважды Героем соцтруда, лауреатом Ленинской и Государственной премий, главным конструктором первой в мире АЭС Н.А. Доллежалем, посчастливилось мне встретиться не единожды. О Подольске, где прошли его детство и юность, вспоминал Николай Антонович с особой теплотой. А доброе напутствие директора «перед предстоящим выходом в такую новую и многообещающую
жизнь» он приводит в своей книге «У истоков рукотворного мира» почти дословно: «Древняя пословица гласит: «Будь тем, кем хочешь казаться». А каждому из вас я уверен, хочется слыть в той среде, в которой предстоит жить и трудиться, всесторонне полезным и приятным в общежитии человеком. У вас, друзья мои, и семья, и, смею надеяться, училище воспитали трудолюбие, порядочность, заложили основы нравственного поведения. Скоро эти свойства души подвергнутся самому строгому испытанию испытанию жизнью. Вам предстоит в очень непростых условиях определять, где проходит граница между добром и злом, какой поступок вписывается в рамки морали, а какой нет. Не раз вы станете перед выбором: близкое вашей душе, полезное народу дело или сиюминутная выгода, материальная корысть. И чтобы не ошибиться в выборе, не потерять своего лица, не переставайте образовывать себя!..»
Напутствие это выпускники 1917-го запомнили на всю жизнь. Во многом оно оказалось пророческим. "За годы, проведенные здесь, не один из вас раскрыл задатки яркой, одаренной личности. Возьмите Володю Диксона - он уже сейчас пишет вполне зрелые стихи и обещает стать незаурядным поэтом" - сказал Вячеслав Николаевич. Так оно и вышло. Много лет спустя, в 29-м, В.Диксон, известный уже поэт и прозаик, пришлет из Парижа своему другу Н.Доллежалю письмо - в стихах! - где возвратится к старым, добрым временам, друзьям своим и наставникам. - Очень умный, красивый мальчик, - рассказывал мне о Владимире Николай Антонович.- Фотографироваться любил в профиль. Талантливый писал прекрасные стихи. Каждому из нас он посвящал шутливые строчки.
- И ты, непревзойденный воин,
Хохол Микола Доллежаль,
В суровой битве был спокоен
И шашкой храбро гнал печаль...
Вообще выдумщик был, каких поискать. Однажды Боб Заливский похвастался, что любые ноты с ходу, с листа сыграет. Фортепиано он действительно хорошо владел, но когда Володя принес похоронный марш в ритме танго - растерялся. Мы ведь с Диксоном даже в одну девочку были влюблены. И хотя она меня предпочла, на отношениях наших это ничуть не отразилось. Остались друзьями. А потом случилась революция. Вовлеченные в водоворот событий, люди воспринимали их по-разному. Одни - с восторгом и надеждой. Иные..".
В "Рассказе о Мите есть эпизод про сон, который "...всегда возвращался, который был непонятен. Начиналось так: было темно, и тьма медленно надвигалась; где-то гудело и воздух дрожал, но шума не было слышно. Потом из тьмы вырастали огромные черные столбы. Они поднимались высоко в небо и конца их не было видно. Из-за столбов внезапно, бесшумно выкатывалось огромное черное колесо и начинало гоняться за Митей. Митя хотел от колеса влезть на столб, но столбы были скользкие, и Митя только беспомощно прыгал перед ними и обнимал их и боялся; а черное колесо смеялось..".
Не стал ли этот сон явью тогда, в 17-ом? Колесо истории сделало очередной виток, круто изменив судьбы России и Диксона. Он покинул родину, не теряя надежды на возвращение. Сбыться которой - увы! - не было суждено...
Очень теплые, доверительные отношения сложились у Владимира с А.Ремизовым, который писал об их дружбе: "Нас соединяла Россия и книги. Все часы после службы он посвящал ученью. Бретонские легенды и Византия, мне близкое, занимали его, и наши свидания заполнялись кельтами и византийскими веками. Пытливость и жажда знания меня трогали в нем, а еще и сердце. В первый раз, когда он пришел ко мне, я подумал, глядя на его глаза: "Вестник с опущенными крыльями! И за шесть лет нашей дружбы я понял и благословил его приход... "Пытливость и жажда знания... Так и хочется поставить рядом слова В.Н. Ферри из памятной речи накануне выпуска из училища, говорившего об образовании как о сумме качеств, которые делают человека не способным к дурному поступку, «...ибо образование умственное и нравственное есть культура...».

Сборники «Ступени» и «Листья» вышли с перерывом в три года (1924 и 1927 гг.). Третья книга "Стихи и проза увидела свет в, основанном В.Диксоном, издательстве "Волуже" после его смерти, в 1930 г. Автор вступления и послесловия - А.Ремизов: "Мне хочется говорить о свете - о дарах света, когда я думаю и вспоминаю В.Диксона. Все, что есть от Бога прекрасного, дано ему было. Мне хочется словами повторить взгляд человека, отмеченного cветом... У Диксона была заветная память детства: плюшевый белый медвежонок. Когда я остался один в его комнате среди книг, где собраны были большие сокровища, сотни любимых имен окружили меня, я их различал и в сумерки, и вдруг увидел в углу у книг белого медвежонка. Он сидел с растопыренными лапами, вытянув черный свой нос. А как одинок, но и как нечеловечески покорен судьбе, посмотрел он на меня, застыв с распростертыми лапами. Вещь не только вещь, но и знак. И я понимаю. Но как трудно человеку покориться. ...Еще не утихла боль. Невосполнима потеря близкого друга, которого смерть вырвала неожиданно - молодого, в самом расцвете сил и творчества: в американском госпитале в Нейи-Сюр-Сен близ Парижа на 10-й день после операции аппендицита, продолжавшейся более двух часов, Владимир умер от эмболии. Было ему всего 29 лет. Похоронили его в Америке, городе Плонфильде, где жили его родители. "...В гроб ему положили русскую землю, лепестки розы из надгробного венка А.Блока - любимого его поэта, и камушек с Северной Двины из Сольвычегодска - русская память...
Через много лет А.Ремизов вспоминал: "Случай с В.Диксоном: во время его болезни, я видел в моих снах подробности его смерти. И что будет дальше. Последняя его книга вызвала много откликов в прессе. ".
"От претензионности первой книги у Диксона не осталось и следа - чем дальше, тем несомненно проще и углубленнее становится его творчество... Этот русский американец, родившийся и выросший в России и лишь после революции попавший в Америку, остро чувствовал и любил свою вторую Русь. Русь васильковую..." - писал Г. Струве.
Высоко оценил творчество Диксона и Б.Сосинский, особо отметив его прозу: "Тут мы встречаемся с совершенно новой в русской литературе манерой письма. В.Диксон попытался с точностью фонографа записать цепь случайных размышлений, проходящих в уме человека, пребывающего в одиночестве с самим собою, - и эффект получился разительный. Наверное, мое отношение к нему слишком субъективно, чтобы давать ему оценку как литератору. Для меня это прежде всего человек, для которого Подольск стал родиной (не малой, не большой - просто родиной!), притягивающей к себе какой-то неведомой - "тайной силой. Он искренен во всем - я не сомневаюсь. В страданиях своих, в поисках духовного пути к Богу, к своей "небесной отчизне - России. Поэт постиг до конца религиозную природу того, что совершается в России; он постиг, что русский народ в муках и унижениях, в страхах и томлении - выстрадывает себе новую веру, новое христианство, новую чистую и героическую душу...».
«Это вечное слово "Россия» - именно так и была названа новая книга В.Диксона, увидевшая свет в издательстве Дома-музея Марины Цветаевой. В родные края он все-таки вернулся своим творчеством. Встреча с соотечественниками состоялась, и так, вероятно, было угодно судьбе. Иначе как объяснить удивительное, на первый взгляд, стечение обстоятельств, волею которых оказалась я в Доме-музее Цветаевой, где, собственно, и родилась идея издания сборника. И не просто родилась воплотилась в жизнь. А сколько единомышленников обрела я, задумав осуществить казалось бы невыполнимое. Поддержал идею морально и материально гендиректор НП «ЗИНГЕР-СКИФ» Г. Комаренко, воздав должное заслугам Вальтера Диксона, основателя, первого директора Подольского завода швейных машин компании «Зингер», и таланту его сына Владимира.
Отзывы о книге добрые, искренние грели душу. «Не напрасен твой путь, не случаен», - обращалась я к поэту его же несколько перефразированной поэтической строкой. Волею случая вновь убедилась в этом, получив письмо из Самары от незнакомой мне (разве назовешь знакомством единственный телефонный разговор, где прозвучала просьба помочь приобрести сборник, что, собственно, для меня не составляло особого труда) женщины - письмо короткое, но очень проникновенное, теплое. «С тех времен, - перечитываю в который раз, - когда еще что-то застревало в голове, осталась фраза, что если бы строили дом счастья, то самое большое помещение пришлось бы отвести под зал ожидания. Спасибо вам огромное! И за недолгое пребывание в «большом помещении», и за редкостное нынче счастье быть услышанной, и за глупое блаженство той минуты, когда мне вручили вашу бандерольку. С 93-го года крохи диксоновских строк из «Одинокого художника» Ильина как-то теплились в сердце. И вот теперь эта книжечка. В сущности, близких-то людей в этой земной глуши так мало. Он как брат мне родной...» А вскоре узнала я, что на местном радио прозвучала передача о В.Диксоне, ему намерены посвятить две рубрики в «Духовном собеседнике» православном русском журнале о русских людях. «Я даже на старую швейную машину смотрю теперь другими глазами, - призналась моя новая знакомая в следующем письме, - вроде как она родственница всем некоторым образом» И, прощаясь, добавила: «Низко кланяюсь вам, Подольску и маленькой Пахре».
Рядом с книгой Диксона стоят у меня теперь присланные из Самары два номера «Духовного собеседника» с подборками стихов и прозы нашего соотечественника. Вступительная статья в журнале о его творчестве завершается словами: «Глубоко верующий человек - он вернулся в Россию, очищенную страданием и освященную верой:
И вот стою пред родиной суровой,
Как грешный люд стоит пред алтарем.
«Жертву чистую, дар души» принес поэт на алтарь своей родины, утраченной в черный день и обретенной в вечности».
Людмила Толстухина
http://podolsk.org/writers/8/tols.htm
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 13 Ноя 2013, 17:28 | Сообщение # 14 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | Памяти Ольги Берггольц
38 лет со дня смерти..
ОЛЬГА ФЕДОРОВНА БЕРГОЛЬЦ
(16.05. 1910 - 13.11. 1975)

... голос Ольги Берггольц стал голосом долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда.
Поэтесса, Лауреат Госпремии (1951, за поэму «Первороссийск»), Кавалер ордена Ленина (1967), Кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1960), награждена медалями «За оборону Ленинграда» (1943) и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»

А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мной лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
Нет невоспринятых миров,
нет мнимо розданных даров,
любви напрасной тоже нет,
любви обманутой, больной,
ее нетленно чистый свет
всегда во мне, всегда со мной.
И никогда не поздно снова
начать всю жизнь,
начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы – ни слова,
ни стона бы не зачеркнуть.
О.Берггольц родилась в Петербурге. Ляля, как называли ее родители, была первым ребенком в семье Федора Христофоровича Берггольца, потомка обрусевшего шведа, взятого в плен при Петре I, и Марии Тимофеевны. Отец Ольги, врач-хирург и выпускник Дерптского университета, работал по специальности, а мама воспитывала Лялю и младшую дочку Мусю (Марию) и обожала поэзию, сумев передать эту любовь и девочкам. Детство Ольги прошло в двухэтажном доме на Невской заставе, в обычном для интеллигентной семьи тех лет жизненном укладе – няня, гувернантка, любовь и забота родителей. А потом в России грянули перемены.

М.Т. Берггольц с дочерьми Ольгой (внизу) и Марией.
Отец ушел на фронт полевым хирургом, а в 1918 г. голод и разруха привели Марию Тимофеевну с дочерьми в Углич, где они жили в одной из келий Богоявленского монастыря. Только в 1921-ом доктор Берггольц, прошедший две войны, приехал в Углич за своей семьей, и они вернулись на Невскую заставу. Родительские мечты об институте благородных девиц и медицинском образовании Ляли бесследно канули, и Ольга стала ученицей 117-й трудовой школы, а в 1924 г. она уже была пионеркой, превратившись из набожной интеллигентной девочки в пролетарскую активистку, вскоре вступившую в комсомол.

В 1925г. вступила в литературную молодежную группу "Смена", а в начале 1926 познакомилась там с Б.Корниловым - молодым поэтом, незадолго до этого приехавшим из приволжского городка и принятым в группу. Через некоторое время они поженились, родилась дочка Ирочка. В 1926г. Ольга и Борис стали студентами Высших госкурсов искусствоведения при Институте истории искусств. Борис на курсах не задержался, а Ольга несколько лет спустя была переведена в Ленинградский университет. В 1930 г. она окончила филфак Ленинградского университета и по распределению уехала в Казахстан, где стала работать разъездным корреспондентом газеты "Советская степь". В это же время Берггольц и Корнилов развелись ("не сошлись характерами") и Ольга вышла замуж за Н.Молчанова, с которым училась вместе в университете. Вернувшись из Алма-Аты в Ленинград, Ольга Берггольц поселилась вместе с мужем на ул. Рубинштейна, 7 - в доме, называвшемся "слезой социализма".

Тогда же была принята на должность редактора "Комсомольской страницы" газеты завода "Электросила", с которой сотрудничала в течении трех лет. Позднее работала в газете "Литературный Ленинград". Через несколько лет умерла младшая дочь О.Берггольц - Майя, а спустя два года - Ира. В декабре 1938 г. Ольгу по ложному обвинению заключили в тюрьму, но в июне 1939 выпустили на свободу. Беременная, она полгода провела в тюрьме, где после пыток родила мертвого ребенка.

В декабре 1939 г. она писала в своем тщательно скрываемом дневнике: "Ощущение тюрьмы сейчас, после пяти месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. Не только реально чувствую, обоняю этот тяжелый запах коридора из тюрьмы в Большой Дом, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы. Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: "живи".
В годы блокады 1941-1943 О.Берггольц находилась в осажденном фашистами Ленинграде. В ноябре 1941 ее с тяжело больным мужем должны были эвакуировать из Ленинграда, но Н.Молчанов умер и Ольга Федоровна осталась в городе. В.К. Кетлинская, руководившая в 1941 Ленинградским отделением СП, вспоминала, как в первые дни войны к ней пришла Берггольц, Оленька, как ее все тогда называли, видом - еще очень юное, чистое, доверчивое существо, с сияющими глазами, "обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности", но теперь - взволнованная, собранная. Спросила, где и чем она может быть полезна. Кетлинская направила ее в распоряжение литературно-драматической редакции ленинградского радио. Спустя самое недолгое время тихий голос Берггольц стал голосом долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда. Это превращение показалось едва ли не чудом: из автора мало кому известных детских книжек и стихов, про которые говорилось "это мило, славно, приятно - не больше", О.Берггольц в одночасье вдруг стала поэтом, олицетворяющим стойкость Ленинграда. В Доме Радио она работала все дни блокады, почти ежедневно ведя радиопередачи, позднее вошедшие в ее книгу "Говорит Ленинград".

Умерла Ольга Федоровна Берггольц в Ленинграде. Похоронена на Литераторских мостках. Несмотря на прижизненную просьбу писательницы похоронить ее на Пискаревском мемориальном кладбище, где высечены в камне ее слова "Никто не забыт и ничто не забыто", "глава" Ленинграда Романов отказал писательнице. Н.Соколовской был впервые получен доступ к засекреченному ранее следственному делу О.Берггольц. «Не обнаруженное» 20 лет назад дело сохранилось в архивах ФСБ в Петербурге, и хотя большая его часть до сих пор остается закрытой, автор публикации считает случившееся "прорывом".
«Вот и похоронили Ольгу,Ольгу Федоровну Берггольц». Первая строка рассказанной Д.Граниным истории о похоронах О.Берггольц 18 ноября 1975 г. Строка как строка. Но что-то в ней цепляло. Интонация. Цезура, прозой не предусмотренная. Обрыв. Пауза длиною в жизнь. Из этой паузы возник сборник «Память». Составить его было несложно: избранные стихотворения, книга «Дневные звезды». Сложно было остановиться, вынырнуть из этой уже не чужой судьбы. Особенно обжигали стихи, подписанные: «Январь 1939. Камера 33», «Апрель 1939. Одиночка 17», «Апрель 1939. Арсеналка. Больница», «Май. Одиночка 29». То, что с 14 декабря 1938 г. по 3 июля года 1939 О.Берггольц находилась под арестом, известно. Об этих днях сохранились и ее дневниковые записи. До последнего времени оставалось неясным, по какому делу она проходила, что собственно инкриминировалось будущей «Блокадной музе», «Голосу блокадного города». В воспоминаниях современников осталась ироничная реплика Берггольц об обвинении ее «в пятикратных попытках убить Жданова». Первый запрос в КГБ с целью ознакомления с делом О.Ф. Берггольц был сделан 4 октября 1989 г. и подписан зампредседателя правления Ленинградской писательской организацией. Запись об этом есть в архиве критика Н.Банка, хранящемся ныне в Российской национальной библиотеке. Надо полагать, инициатором запроса и была она, близкий Ольге Федоровне человек, исследователь ее творчества.
27 ноября из КГБ пришел ответ (документ за № 10/28-015832): «В результате поисковой работы наличия в архивах КГБ МВД уголовного дела по обвинению О.Ф. Берггольц не обнаружено». Это странный ответ. Если и есть в отечестве организация, где не пропадает ничего, то это именно КГБ. Предположить, что человек там был, а дела на него не сохранилось, сложно. Ответ из архивов КГБ МВД следовало принять на веру. Во всяком случае, попыток получить доступ к делу О.Берггольц больше не предпринималось (Н.Банк не стало в 1997 г.). Спустя почти 20 лет, в августе 2009 г., в связи с готовящейся к выходу книгой стихотворений, прозы, дневников и писем О.Ф. Берггольц, было сделано еще одно обращение в Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и ЛО с просьбой о получении доступа к делу. Сила инерции могла сработать и в этом случае: зачем запрашивать то, что уже «не обнаружено». Собственно, мысль повторно запросить следственные материалы принадлежит Д.А. Гранину. «Интересно было бы посмотреть на дело». - «Но ведь оно не сохранилось». - «А вы попробуйте». И вот архивное следственное дело № П-8870 лежит передо мной на столе в одном из кабинетов на Литейном, 4.
Из «Справки о наличии сведений»:
«Бергольц О.Ф. (в деле фамилия Берггольц везде пишется с ошибкой. - Н. С.) было предъявлено обвинение в том, что она являлась активной участницей контрреволюционной террористической организации, ликвидированной в Кирове, готовившей террористические акты над т. Ждановым и т. Ворошиловым; в том, что квартира Бергольц в г. Ленинграде являлась явочной квартирой террориста Дьяконова, который в 1937 г. приезжал к ней и совместно с ней намечал план убийства т. Жданова, т. е. в пр. пр. ст. 58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР. Постановлением Управления НКВД ЛО от 2 июля 1939 следственное дело по обвинению Бергольц О. Ф. за недоказанностью состава преступления производством прекращено. 3 июля 1939 г. Бергольц О.Ф. из-под стражи освобождена».
Напомним, что статья 58-8 подразумевает «высшую меру социальной защиты» - расстрел. О Л.Дьяконове читаем в дневнике О.Берггольц от 20 мая 1942 г: «Вчера были у Матюшкиной, тетки Тамары Франчески. Тамара - сестра Игоря Франчески и близкая подруга Леньки Анка, двух людей из шести, которые оговорили меня в 38-м году, и из-за них я попала в тюрьму. Они не виноваты, их очень пытали, но все же их показания чуть-чуть не погубили меня…»
Анк - журналистский псевдоним Л.Дьяконова. Упоминается его имя и в подготовительных материалах ко второй, ненаписанной части «Дневных звезд»: «Это был 1931 год. Чума, холера, черная оспа. Там хранили воду в выдолбленных тыквах и пытались замостить почти болотистые улицы Алма-Аты. Все было далеко не только до социализма, до нормальной человеческой жизни. Но мы круто повернули, послушные дороге-пути, и сразу открылась сверкающая красота земли.
- Вот, ребята, - сказал Ленька, - вот так мы войдем в социализм.
И мы молча и безоговорочно согласились с ним…Это был 1931 год, мы были молоды, очень молоды, я и Коля (муж О.Берггольц), приехавшие работать в казахскую газету, и друг наш Леонид Д. - сотрудник той же газеты».
Шестой лист из 226 листов, составляющих дело О.Берггольц, - «Постановление об избрании меры пресечения и предъявления обвинения». Лист седьмой - ордер на арест № 11/046. Постановление утверждено комиссаром 2-го ранга Гоглидзе. Комиссар Гоглидзе назван в дневниковой записи от 1 марта 1940 г.
«Я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться), не записываю моих размышлений. Сам комиссар Гоглидзе искал за словами о Кирове, полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня в терроре. О, падло, падло. А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделал следователь? На самых высоких, самых горьких страницах! Так и видно, как выкапывали «материал» для идиотских и позорных обвинений. И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе…»
Об изъятых дневниках, которые будут «загажены», тоже есть в деле. Лист восьмой. Протокол обыска. Под №7 значатся «15 записных книжек», под №10 - «10 тетрадей». Неоднократно в деле встречается и фамилия И.Мусатова, следователя следчасти УНКВД ЛО.
«Он добивается, чтобы я сказала, какие шифры я передала Лизе Косульниковой (Речь идет о шифре, придуманном О. Берггольц для связи с родными на воле.) Мусатов говорит под конец: - Ольга Федоровна, Вы поступаете нечестно. Я взглянула ему прямо в глаза, и взгляды наши столкнулись и вошли друг в друга, - всепонимающий то был, единый взгляд людей. Взгляд людей друг другу в глаза, взгляд коммунистов - не боюсь сказать. И так мы говорили друг с другом не менее трех секунд, целую вечность.
- Иван Тимофеевич, я поступаю честно, - сказала я, не отводя своего взгляда от его человеческого взгляда (коммуниста), - и вы понимаете это.
- Я понимаю, - ответил он и опустил глаза на мое «дело». И в то мгновение я увидела его веки: темные, темно-коричневые, в частых, выпуклых, вдоль идущих, набегающих друг на друга желтых морщинах, с черной полоской под глазным яблоком, усталые, страшные веки смертельно уставшего человека… Да ведь он устал... устал этот человек. Потому что он - тоже человек.
- Ну так как же, значит, у вас в камере вы врагов народа не обнаружили?
Мы вновь были не людьми, а следователем и подследственной, но то, что хоть на миг блеснуло между нами...»
Под Постановлением об избрании меры пресечения стоит три фамилии: лейтенанта ГБ Резникова, мл.лейтенанта ГБ Кудрявцева, мл.лейтенанта ГБ Дроздова. Дневниковая запись от 14 декабря 1939 г. «Ровно год тому назад я была арестована. Я сначала сидела в «медвежатнике» у мерзкого Кудрявцева, потом металась по матрасу возле уборной - раздавленная, заплеванная, оторванная от близких, с реальнейшей перспективой каторги и тюрьмы на много лет… Ровно год назад Кудрявцев говорил мне: «Ваши преступления, вы - преступница, двурушница, враг народа, вам никогда не увидеть мужа, ни дома, вас уже давно выгнали из партии». Вот на днях меня будут утверждать на парткоме…»
Из кандидатов в члены ВКП/б/ Берггольц исключали дважды. Первый раз, с последующим восстановлением, в мае 1937 г., когда она в качестве свидетеля проходила, вероятно, по делу Л.Авербаха или Б.Корнилова. Так, в «Постановлении о прекращении дела № 58120-38г. по обвинению Бергольц О.Ф.» читаем (синтаксис и стиль оригинала сохранены): «…Что же касается показаний Бергольц, данных ею во время допроса в качестве свидетеля в июле м-це 1937 г., где она показала, что является участником троцкистско-зиновьевской контрреволюционной организации, являются, как установлено следствием, показаниями вынужденными, даны в состоянии очень тяжелого морального и физического состояния, о чем свидетельствует тот факт, что сразу же после допроса Бергольц попала в больницу с преждевременными родами». Второй раз исключили, когда она уже находилась в тюрьме, оговоренная Л.Дьяконовым, И. Франчески, А.Семеновым-Алданом. Спустя годы она делает наброски об этом времени для второй части «Дневных звезд»: «Мои даты: 7/XI-37. Меня выгнали из демонстрации. «Ничего. Я не сержусь на вас. Я еще напишу о вас такое, что вы будете плакать над этим. Парикмахер, который стрижет меня сейчас, когда-нибудь будет гордиться этим…»
Тогда, в 1937-м, «обошлось». В мае выгнали из кандидатов в члены ВКП/б/, потом с октябрьской демонстрации (но, кажется, и тюрьму ей было бы пережить легче, чем эту несправедливость!), а в ноябре выгнали и с «Электросилы» (с 19 декабря 1937 г. по 1 сентября 1938 г. она работала учительницей в школе, даты известны из хранящейся в деле характеристики, данной с места работы по запросу следственной части облсуда). В апреле 1938 г. Берггольц действительно была восстановлена как кандидат в члены ВКП/б/ и возвращается на завод. О повторном исключении в деле имеется Выписка из протокола № 57 заседания Бюро РК ВКП/б/ Московского района по партийной организации завода «Электросила» им. Кирова (лист 182) от 5 января 1939 г.: «Бергольц Ольга Федоровна, г./рожд. 1910, кандидат в члены ВПК/б/ с 1932 года, к/карт. № 0478579, национ. - русская, соц. положение - служащая, работала редактором-автором истории завода «Электросила». Бергольц О.Ф. арестована органами НКВД, как враг народа. П/организация завода исключила Берггольц из рядов ВКП/б/. Постановили: Берггольц О.Ф., как врага народа, арестованную органами НКВД, из кандидатов ВКП/б/ исключить».
Вернемся к справке от 27 ноября 1989 г., выданной КГБ на первый запрос о деле О.Ф. Берггольц: «С 8 апреля 1939 г. находилась во внутренней тюремной больнице (причина болезни не указана), откуда была направлена в областную больницу для составления заключения. Возвращена 22 апреля 1939 г.».

Двух детей схоронила
Я на воле сама,
Третью дочь погубила
До рожденья - стюрьма...
(Апрель. Арсеналка. Больница)
Вот и причина «болезни». Большая часть листов дела вдета в конверты из плотной коричневой бумаги, по-прежнему недоступна. Но даже те немногие «незапечатанные» страницы драгоценны, они свидетельства «крестного пути» большого русского поэта и патриота своей Родины в самом высоком и незамутненном значении этого слова - О.Ф. Берггольц.
«Неразрывно спаять тюрьму с блокадой» - одна из записей ко второй части «Дневных звезд». Но тюрьму она «спаяла» - еще шире - с войной. «Тюрьма - исток победы над фашизмом. Потому что мы знали: тюрьма - это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра - война, и были готовы к ней».
И под огнем на черной шаткой крыше
ты крикнул мне, не отводя лица:
«А если кто-нибудь из нас...
Ты слышишь?
Другой трагедию досмотрит до конца...
Все трагедии века Ольга Берггольц досмотрела до конца.
Наталия Соколовская
http://my.mail.ru/community/sorokplus/17ADE688C4ADD10D.html

Ты будешь ждать, пока уснут,
окостенеют окна дома,
и бледных вишен тишину
нарушит голос мой знакомый.
Я прибегу в большом платке,
с такими жаркими руками,
чтоб нашей радостной тоске
кипеть вишневыми цветами...
И вот в лицо пахнуло земляникой,
смолистым детством, новгородским днем...
В сырой канавке, полной лунных бликов,
светляк мигнул таинственным огнем...
И вновь брожу, колдуя над ромашкой,
и радуюсь, когда, услыша зов,
появятся сердитые букашки
из дебрей пестиков и лепестков.
И на ладони, от букетов липкой,
нарочно обещая пирога,
ношу большую старую улитку,
прошу улитку выставить рога...
Ты все еще меня не покидаешь,
повадка, слух и зрение детей!
Ты радуешь, печалишь, и взываешь,
и удивляешься, пьянея от затей.
Но мне не страшно близкого соседства,
усмешек перестарков не боюсь,
и время героическое детства
спокойно входит в молодость мою.
Рассвет сознания. Открытые миры.
Разоблаченье старших до конца:
разгадано рождение сестры
и появленье птицы из яйца.
Все рушится. Все ширится и рвется.
А в это время - в голоде, в огне -
Республика блокаде не сдается
и открывает отрочество мне.
Сплошные игры держатся недолго,
недолго тлеет сказка, светлячок:
мы ездим на субботники за Волгу,
и взрослый труд ложится на плечо.
Джон Рид прочитан. Месяцы каникул
проводим в пионерских лагерях.
Весь мир щебечет, залит земляникой,
а у костров о танках говорят.
Республика! Но ты не отнимала
ни смеха, ни фантазий, ни затей.
Ты только, многодетная, немало
учила нас суровости твоей.
И этих дней прекрасное наследство
я берегу как дружеский союз,
и слух, и зрение, и память детства
по праву входят в молодость мою.

О девочка, все связано с тобою:
морской весны первоначальный цвет,
окраина в дыму, трамваи с бою,
холодный чай, нетронутый обед...
Вся белизна, сравнимая с палатой,
вся тишина и грохот за окном.
Все, чем перед тобою виновата, -
работа, спешка, неуютный дом.
И все слова, которые ты знала
и, как скворец, могла произносить,
и все, что на земле зовется «жалость»,
и все, что хочет зеленеть и жить...
И странно знать и невозможно верить,
что эту память называем смертью.

Синеглазый мальчик, синеглазый,
ни о чем не спрашивай пока.
У меня угрюмые рассказы,
песенка - чернее уголька.
А душа, как свечка восковая:
пламенея, тает - не помочь.
Ведь ее, ничем не прикрывая,
я несу сквозь ледяную ночь.
Свищет ветер, хлопьями разлуки
мой бездомный путь оледенив.
Мечется и обжигает руки
маленький огонь свечи-души.
Сколько лет друзья корят за это,
свой убогий светик обложив
малыми кульками из газеты,
матовыми стеклышками лжи.
Синеглазый, ты меня не слушай,
ты один совет запомни мой:
ты неси сквозь мрак и ветер душу,
не прикрыв ни песней, ни рукой.

Точно детство вернулось и - в школу.
Завтрак, валенки, воробьи...
Это первый снег. Это первый холод
губы стягивает мои.
Ты - как вестник, как гость издалека,
из долин, где не помнят меня.
Чье там детство?
Чьи парты, снежки, уроки,
окна в елочках и огнях?
А застава? Баюканье ночью?
Петухи и луна на дворе?
Точно первый снег -
первый шаг у дочки,
удивительный, в октябре.
Точно кто-то окликнул знакомым
тайным прозвищем. Точно друг,
проходя, торопясь,
мимоходом припомнил
и в окно мое стукнул вдруг.
Точно кто-то взглянул с укоризной,
и безродный чистый родник
стукнул в сердце, возжаждал жизни,
ждет, чтоб песней к нему приник...
Что же, друг мой, перезимуем,
перетерпим, перегорим...

Всей земною горечью и болью
навсегда во мне останься жить;
не забуду, не скажу - довольно,
не устану бережно любить.
В мире, счастьем, как росой, омытом,
буду щедрой, любящей, простой -
если ты не будешь позабыта,
если ты останешься со мной.

Знаю, знаю - в доме каменном
Судят, рядят, говорят
О душе моей о пламенной,
Заточить ее хотят.
За страдание за правое,
За неписаных друзей
Мне окно присудят ржавое,
Часового у дверей...

Все, что пошлешь: нежданную беду,
свирепый искус, пламенное счастье, -
все вынесу и через все пройду.
Но не лишай доверья и участья.
Как будто вновь забьют тогда окно
щитом железным, сумрачным
и ржавым... Вдруг в этом
отчуждении неправом
наступит смерть - вдруг станет
в с е р а в н о.
2
Не искушай доверья моего.
Я сквозь темницу пронесла его.
Сквозь жалкое предательство друзей.
Сквозь смерть моих возлюбленных детей.
Ни помыслом, ни делом не солгу.
Не искушай, - я больше не могу...
3
Изранила и душу опалила,
лишила сна, почти свела с ума...
Не отнимай хоть песенную силу,
не отнимай, - раскаешься сама!
Не отнимай, чтоб горестный и славный
твой путь воспеть.
Чтоб хоть в немой строке
мне говорить с тобой, как равной
с равной, -
на вольном и жестоком языке!

Нам от тебя теперь не оторваться.
Одною небывалою борьбой,
Одной неповторимою судьбой
Мы все отмечены. Мы - ленинградцы.
Нам от тебя теперь не оторваться:
Куда бы нас ни повела война -
Твоею жизнию душа полна
И мы везде и всюду - ленинградцы.
Нас по улыбке узнают: нечастой,
Но дружелюбной, ясной и простой.
По вере в жизнь. По страшной жажде
счастья.
По доблестной привычке трудовой.
Мы не кичимся буднями своими:
Наш путь угрюм и ноша нелегка,
Но знаем, что завоевали имя,
Которое останется в веках.
Да будет наше сумрачное братство
Отрадой мира лучшею - навек,
Чтоб даже в будущем по ленинградцам
Равнялся самый смелый человек.
Да будет сердце счастьем озаряться
У каждого, кому проговорят:
- Ты любишь так, как любят
ленинградцы...
Да будет мерой чести Ленинград.
Да будет он любви бездонной мерой
И силы человеческой живой,
Чтоб в миг сомнения,
как символ веры,
Твердили имя верное его.
Нам от него теперь не оторваться:
Куда бы нас ни повела война -
Его величием душа полна,
И мы везде и всюду - ленинградцы.

3 июня 1943 г. тысячам ленинградцев были вручены первые медали «За оборону Ленинграда».
Осада длится, тяжкая осада,
невиданная ни в одной войне.
Медаль за оборону Ленинграда
сегодня Родина вручает мне.
Не ради славы, почестей, награды
я здесь жила и все могла снести:
медаль «За оборону Ленинграда»
со мной как память моего пути.
Ревнивая, безжалостная память!
И если вдруг согнет меня печаль, -
я до тебя тогда коснусь руками,
медаль моя, солдатская медаль.
Я вспомню все и выпрямлюсь, как надо,
чтоб стать еще упрямей и сильней...
Взывай же чаще к памяти моей,
медаль «За оборону Ленинграда».
Война еще идет, еще - осада.
И, как оружье новое в войне,
сегодня Родина вручила мне
медаль «За оборону Ленинграда».
3 июня 1943

27 января 1944 г. Ленинград салютовал 24 залпами из 324 орудий в честь полной ликвидации вражеской блокады - разгрома немцев под Ленинградом.
И снова мир с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленинград!
Мы помним осень, сорок первый,
прозрачный воздух тех ночей,
когда, как плети, часто, мерно
свистели бомбы палачей.
Но мы, смиряя страх и плач,
твердили, диким взрывам внемля:
- Ты проиграл войну, палач,
едва вступил на нашу землю!
А та зима... Ту зиму каждый
запечатлел в душе навек -
тот голод, тьму, ту злую жажду
на берегах застывших рек.
Кто жертв не предал дорогих
земле голодной ленинградской -
без бранных почестей, нагих,
в одной большой траншее братской?!
Но, позабыв, что значит плач,
твердили мы сквозь смерть и муку:
- Ты проиграл войну, палач,
едва занес на город руку!
Какой же правдой ныне стало,
какой грозой свершилось то,
что исступленною мечтой,
что бредом гордости казалось!
Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит!
Победоносный Ленинград!
27 января 1944
27 января 1945 года
Сегодня праздник в городе.
Сегодня мы до утра, пожалуй, не уснем.
Так пусть же будет как бы новогодней
и эта ночь, и тосты за столом.
Мы в эту ночь не раз поднимем чаши
за дружбу незапятнанную нашу,
за горькое блокадное родство,
за тех, кто не забудет ничего.
И первый тост, воинственный и братский,
до капли, до последнего глотка, -
за вас, солдаты армий ленинградских,
осадою крещенные войска,
за вас, не дрогнувших перед проклятым
сплошным потоком стали и огня...
Бойцы Сорок второй,
Пятьдесят пятой,
Второй Ударной, -
слышите ль меня?
В далеких странах,
за родной границей,
за сотни верст сегодня вы от нас.
Чужая вьюга
хлещет в ваши лица,
чужие звезды
озаряют вас.
Но сердце наше - с вами. Мы едины,
мы неразрывны, как и год назад.
И вместе с вами подошел к Берлину
и властно постучался Ленинград.
Так выше эту праздничную чашу
за дружбу незапятнанную нашу,
за кровное военное родство,
за тех, кто не забудет ничего...
А мы теперь с намека, с полуслова
поймем друг друга и найдем всегда.
Так пусть рубец, почетный и суровый,
с души моей не сходит никогда.
Пускай душе вовеки не позволит
исполниться ничтожеством и злом,
животворящей, огненною болью
напомнит о пути ее былом.
Пускай все то же гордое терпенье
владеет нами ныне, как тогда,
когда свершаем подвиг возрожденья,
не отдохнув от ратного труда.
Мы знаем, умудренные войною:
жестоки раны - скоро не пройдут.
Не все сады распустятся весною,
не все людские души оживут.
Мы трудимся безмерно, кропотливо...
Мы так хотим, чтоб, сердце веселя,
воистину была бы ты счастливой,
обитель наша, отчая земля!
И верим: вновь
пути укажет миру
наш небывалый,
тяжкий,
дерзкий труд.
И к Сталинграду,
к Северной Пальмире
во множестве паломники придут.
Придут из мертвых городов Европы
по неостывшим, еле стихшим тропам,
придут, как в сказке, за живой водой,
чтоб снова землю сделать молодой.
Так выше, друг, торжественную чашу
за этот день, за будущее наше,
за кровное народное родство,
за тех, кто не забудет ничего...
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 13 Ноя 2013, 18:10 | Сообщение # 15 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 
«Никто не забыт, ничто не забыто» - эти слова известны всем. Автор этих строк – поэтесса О.Берггольц, которую называли «музой блокадного Ленинграда», чьи стихи и голос вселяли в ленинградцев надежду и веру в то, что голод и холод обязательно покинут их ледяные дома.

Достигшей немого отчаянья,
давно не молящейся Богу,
иконку «Благое Молчание»
мне мать подарила в дорогу.
И ангел Благого Молчания
ревниво меня охранял.
Он дважды меня не нечаянно
с пути повернул. Он знал…
Он знал, никакими созвучьями
увиденного не передать.
Молчание душу измучит мне,
и лжи заржавеет печать…
Стихотворение О.Ф. Берггольц написано в 1952 г. В это время военная тема продолжает занимать важное место в литературе. Однако власть призывала писателей сосредоточиться на послевоенных проблемах восстановления страны, мироустройства, на выражении идей развития и процветания Советского Союза. О тяготах военной и послевоенной жизни, правде блокадного Ленинграда вынуждали молчать. Даже майский День Победы в эти годы не являлся большим гос. праздником и выходным днем. К 1952 г. созидательный пафос, социальный оптимизм, которого власть ждала и требовала от литературы, вошли в резкое противоречие с принципами творчества поэтов, в лирике которых преимущественно была отражена личная драма. Суровая критика считала, что авторы ни в коем случае не должны писать о своем пережитом опыте. Осуждались произведения и авторов-бытописателей, обличающих в своих текстах негативные явления действительности, неприглядность советских порядков. Произведения, которые противоречили духу партии, уничтожались, а их создатели попали в обстановку откровенной травли. Серьезные обвинения обрушивались на многих лит. деятелей. Профессиональные литераторы не имели возможности публиковать свои произведения, их исключали из СП, лишали средств. Любые произведения, в которых наблюдался отрыв искусства и литературы от «единственно верной» идеологии, признавались безыдейными и осуждались. Под такой безжалостный контроль попали не только многие поэты и прозаики (Гроссман, Платонов, Исаковский, Твардовский, Алигер и др.), но и крупные журналы («Ленинград», «Звезда»). Абсурдные обвинения и откровенные ругательства звучали в адрес А.Ахматовой и М.Зощенко.

Зощенко был объявлен «пошляком и подонком литературы», мыслящим преступно, по-антисоветски. Поэзию Ахматовой именовали «пустой, безыдейной». Мировоззрение поэтессы было определено как чуждое народу, а сама Ахматова была названа «не то блудницей, не то монахиней, у которой блуд смешан с молитвой». Известный поэт, ученик Н.Гумилёва, Н.Тихонов, который когда-то был членом литобъединения «Серапионовы братья» вместе с Зощенко, был уволен с поста председателя правления СП СССР. О. Берггольц не печатали, так как она когда-то тесно общалась с опальной А.Ахматовой.

Над авторами нависала прямая угроза ареста. В этих условиях О.Берггольц, которая не могли вычеркнуть из жизни и творчества события войны, пишет стихотворение «Отрывок». Cтихотворения Ольги Федоровны практически каждый день звучали в эфире ленинградского радио, ее слово воодушевляло жителей города, помогало им бороться. Она выросла в религиозной семье. В дневниках описывает свое состояние после литургии в деревянной церкви Казанской иконы Богоматери: «Выходя, я бросила прощальный взгляд и подумала: “Хорошо, если бы в душе каждого человека была такая церковка!”». Позднее она вспоминала: «Я очень горячо верила в Бога, в силу молитвы, и светлый, горячий восторг, который нередко охватывал меня в церкви на богослужениях, помню до сих пор».
В 20-х годах активизировалась антирелигиозная комиссия. Узнав о кампании по вскрытию мощей, Ольга откликается на эти события так: «Мы молчали и молча помогали отбирать святые храмы, мы отдавали все это сами - мы, православные христиане, славящиеся своим благочестием! И теперь наших царей вскрывают, поругивают, а мы… молчим. Что же?! Мы, вероятно, будем молчать до тех пор, пока нас не будут расстреливать. Так, за здорово живешь».
О.Берггольц много раз бывала у А.Ахматовой. После одной из таких встреч она делает в дневнике отчаянную запись: «Её собрание сочинений “допустили к печати»”, выкинув колоссальное количество стихов. Слова Бог, Богородица - запрещены. Подчеркнуты и вычеркнуты. Сколько хороших стихов погибло!»
В блокадные годы Берггольц работала в литературно-драматической редакции радио Ленинграда. Она практически каждый день вела радиопередачи, сопереживая ленинградцам, поддерживая их поэтическим словом, внушая жителям веру в победу над страданиями.
Так как Берггольц была журналисткой, она имела возможность выбираться из осажденного города в Москву по направлению Радиокомитета. Она переживала, что тот ужас, который испытывает блокадный город, замалчивается за стенами Ленинграда. Об одной из московских командировок в 1942 г. Берггольц вспоминает: «Здесь - заговор молчания вокруг Ленинграда, о Ленинграде правды не знают, правду о нем говорить запрещено. Будет ли возможность сказать когда-нибудь правду о Ленинграде, будет ли она когда-нибудь сказана?»
В ее произведениях часто звучал молитвенный призыв. Поэтесса никогда не скрывала, что она верующий человек, и использовала в стихотворениях религиозные образы и мотивы. Так, в своём стихотворении «Ленинградская осень» (1942) блокадного периода она пишет:
Над авторами нависала прямая угроза ареста. В этих условиях О.Берггольц, которая не могли вычеркнуть из жизни и творчества события войны, пишет стихотворение «Отрывок». Ее называли музой блокадного Ленинграда и стихотворения Ольги Федоровны практически каждый день звучали в эфире ленинградского радио, ее слово воодушевляло жителей города, помогало им бороться. Она выросла в религиозной семье. В дневниках описывает свое состояние после литургии в деревянной церкви Казанской иконы Богоматери: «Выходя, я бросила прощальный взгляд и подумала: “Хорошо, если бы в душе каждого человека была такая церковка!”». Позднее она вспоминала: «Я очень горячо верила в Бога, в силу молитвы, и светлый, горячий восторг, который нередко охватывал меня в церкви на богослужениях, помню до сих пор».
В 20-х годах активизировалась антирелигиозная комиссия. Узнав о кампании по вскрытию мощей, Ольга откликается на эти события так: «Мы молчали и молча помогали отбирать святые храмы, мы отдавали все это сами - мы, православные христиане, славящиеся своим благочестием! И теперь наших царей вскрывают, поругивают, а мы… молчим. Что же?! Мы, вероятно, будем молчать до тех пор, пока нас не будут расстреливать. Так, за здорово живешь».
О.Берггольц много раз бывала у А.Ахматовой. После одной из таких встреч она делает в дневнике отчаянную запись: «Её собрание сочинений “допустили к печати»”, выкинув колоссальное количество стихов. Слова Бог, Богородица - запрещены. Подчеркнуты и вычеркнуты. Сколько хороших стихов погибло!»
Личная жизнь Ольги Берггольц складывалась несчастливо: она потеряла троих детей, ее первого мужа расстреляли, а второй, литературовед Молчанов, болевший эпилепсией, погиб в блокадные годы. В 30-е годы она работала корреспондентом, редактором, выпустила несколько книг. Но в 1938 г. ее ложно обвинили в участии в контрреволюционном заговоре против власти. Находясь под арестом, родив мёртвого ребенка, она сама чуть не поплатилась жизнью. Через полгода Берггольц отпустили. Об этом поступке она записала в дневниках: «Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: "живи"». В блокадные годы Берггольц работала в литературно-драматической редакции радио Ленинграда. Она практически каждый день вела радиопередачи, сопереживая ленинградцам, поддерживая их поэтическим словом, внушая жителям веру в победу над страданиями.
Так как Берггольц была журналисткой, она имела возможность выбираться из осажденного города в Москву по направлению Радиокомитета. Она переживала, что тот ужас, который испытывает блокадный город, замалчивается за стенами Ленинграда. Об одной из московских командировок в 1942 г. Берггольц вспоминает: «Здесь - заговор молчания вокруг Ленинграда, о Ленинграде правды не знают, правду о нем говорить запрещено. Будет ли возможность сказать когда-нибудь правду о Ленинграде, будет ли она когда-нибудь сказана?»
В ее произведениях часто звучал молитвенный призыв. Поэтесса никогда не скрывала, что она верующий человек, и использовала в стихотворениях религиозные образы и мотивы. Так, в своём стихотворении «Ленинградская осень» (1942) блокадного периода она пишет:

Вот женщина стоит с доской в объятьях;
угрюмо сомкнуты её уста,
доска в гвоздях - как будто часть распятья,
большой обломок русского креста.

кадр из фильма "Противостояние"
http://spb-tombs-walkeru.narod.ru/2016/5.htm
М/Берггольц, сестра поэтессы, оставила воспоминания о том, как на 40-й день смерти Ольги в 1975 г. её муж отправился подавать поминальную записку. У него спросили: «Скажите, это не об Ольге Берггольц?» Муж ответил, что о ней. Тогда церковный служащий указал на целую гору записок – все они были за Ольгу Федоровну. На самом богослужении ее имя звучало много-много раз. Так была выражена любовь народа к ней. Поэтесса всегда переживала о том, что не имеет возможности говорить о военной правде во весь голос. Однажды мама поэтессы подарила ей икону «Ангел Благое Молчание», которую Ольга хранила всю свою жизнь. Молчаливая надежда, безропотность, которые символизирует эта икона, молитва перед этим образом, помогли Берггольц не погибнуть в военные годы. Во весь голос она говорила в своем запретном дневнике, который опубликовали только в начале XXI в. Она писала: «Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Всё-таки в них много правды. Если выживу - пригодятся, чтобы написать всю правду».
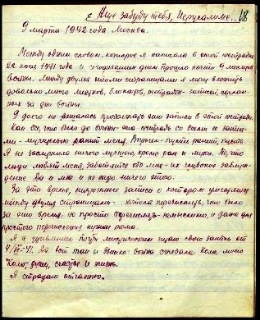
Страница из дневника Берггольц
В стихотворении "Отрывок" есть несколько загадочных строк: Берггольц пишет о том, что ангел Благого Молчания дважды повернул ее с пути. Нельзя с точностью сказать, что имеет в виду автор. Но речь определенно идет о событиях, в которых Ольга видела Божий Промысл. Возможно, что здесь она вспоминает не только свое пребывание в блокадном Ленинграде, но и довоенные репрессии, когда поэтессу дважды арестовывали.

Спас Благое Молчание - именно этот иконографический образ упоминается в тексте стихотворения О.Берггольц. Это очень редкий тип изображения Иисуса Христа. Здесь он предстает до своего воплощения и явления людям - в виде Ангела. Появление этого образа исследователи относят к XV в. Руки Ангела прижаты к груди, как во время таинства Причастия. Это жест молитвенного смирения, покоя и жертвенности. Нимб вокруг ангельской головы подобен восьмиконечной звезде, которую образуют 2 квадрата. Один из них обозначает Божественную природу Творца, а другой - непостижимость Божества. Икона трудна для толкования. Считается, что основой символизма этого образа стали слова ветхозаветного пророка Исаии, предвещающие страдания Христа: Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих (Ис 53:7). Ангел здесь - это олицетворение того великого смирения и покорности, с которыми Христос принял страдания и смерть. Это созвучно мотивам стихотворения Берггольц - молчаливое недеяние перед лицом гибели, страха и страданий. У Берггольц молчание окрашено в мучительные тона. Для нее молчание было необходимо для того, чтобы выжить, и именно эта икона помогала ей в этом молчании. Спас являет собой пример внутренней молитвы и будто призывает к ней созерцающего икону. Молчание здесь - символ смирения. Оно оказывается выше, благостнее любого гласа. И в этом безмолвии заключена великая тайна и спасение.
Ольга Берггольц читает свои стихи. Архивное видео:

Памятник музе блокадного Ленинграда в Петербурге
Ася Занегина
http://foma.ru/50-veli....ya.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 19 Ноя 2013, 23:26 | Сообщение # 16 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | «Про меня ж, бедового, спойте вы…»
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ
(1910-1937)

Я помню Есенина в Санкт-Петербурге,
Внезапно поднявшегося над Невой,
Как сон, как виденье, как дикая вьюга,
Зелёной листвой и льняной головой.
Я помню осеннего Владивостока
Пропахший неистовым морем вокзал
И Павла Васильева с болью жестокой,
В ещё не закрытых навеки глазах…
Рюрик Ивнев, март 1965
Для современников его талант был очевиден. Строки Р.Ивнева - далеко не единственные, в которых этот патриарх русской поэзии сравнивал П.Васильева с С.Есениным, своим близким другом. А. Толстой отозвался о нём, как о советском Пушкине, А.Луначарский считал его восходящим светилом новой русской поэзии. В.Солоухин ставил его имя сразу вслед за именами Пушкина, Лермонтова, Блока и Есенина, а Б.Пастернак в 1956 г. написал о нём такие слова: "В начале 30-х годов П.Васильев производил на меня впечатление приблизительно того же порядка, как в своё время, раньше, при первом знакомстве с ними, Есенин и Маяковский. Он был сравним с ними, в особенности с Есениным, творческой выразительностью и силой своего дара и безмерно много обещал, потому что, в отличие от трагической взвинченности, внутренне укоротившей жизнь последних, с холодным спокойствием владел и распоряжался своими бурными задатками. У него было то яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров которого в такой мере я уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы…"
На поэтическом сайте рассказывается обо всех, кто оставил в нашей поэзии хоть сколько-нибудь заметный след. Там и корифеи, и не очень. Есть там и те талантливые молодые поэты послереволюционных лет, чьи жизни оборвались так рано и так трагически: П.Коган, Б.Корнилов, И.Уткин, Д.Кедров, С.Гудзенко. Кого там только нет… Павла Васильева там - нет.

Сначала пробежал осинник,
Потом дубы прошли, потом,
Закутавшись в овчинах синих,
С размаху в бубны грянул гром.
Плясал огонь в глазах сажённых,
А тучи стали на привал,
И дождь на травах обожжённых
Копытами затанцевал.
Стал странен под раскрытым небом
Деревьев пригнутый разбег,
И всё равно как будто не был,
И если был - под этим небом
С землёй сравнялся человек.
Май 1932. Лубянка. Внутренняя тюрьма
Целых 20 лет его имя и его стихи были под полным, абсолютным запретом. Что уж там говорить об обычных читателях - по воспоминаниям поэта К.Ковальджи, даже студенты Литинститута, вся жизнь которых проходила в лит. среде, наставниками которых были самые известные советские литераторы, не имели ни малейшего представления не то что о стихах, но и о самом имени П.Васильева. Об имени поэта, чей талант был вполне сравним с талантом Есенина или Мандельштама…
Вся ситцевая, летняя приснись,
Твоё позабываемое имя
Отыщется одно между другими.
Таится в нём немеркнущая жизнь.
Тень ветра в поле, запахи листвы,
Предутренняя свежесть побережий,
Предзорный отсвет, медленный и свежий,
И долгий посвист птичьей тетивы.
И тёмный хмель волос твоих ещё.
Глаза в дыму. И, если сон приснится,
Я поцелую тяжкие ресницы,
Как голубь пьёт - легко и горячо.
И, может быть, покажется мне снова,
Что ты опять ко мне попалась в плен.
И, как тогда, всё будет бестолково -
Весёлый зной загара золотого,
Пушок у губ и юбка до колен.
1932 год
Он был молод и красив, этот сибирский парень. Его любили женщины, а он любил их. Он был задирист, самоуверен и зачастую несносен. Н.Асеев в 1956 г., в официальном документе для прокуратуры - обрисовал его психологический портрет: "Характер неуравновешенный, быстро переходящий от спокойного состояния к сильному возбуждению. Впечатлительность повышенная, преувеличивающая всё до гигантских размеров. Это свойство поэтического восприятия мира нередко наблюдается у больших поэтов и писателей, как, например, Гоголь, Достоевский, Рабле. Но все эти качества ещё не были отгранены до полного блеска той мятущейся и не нашедшей в жизни натуры, которую представлял из себя П.Васильев. Отсюда его самолюбивые порывы, обидчивость на непризнание его полностью и даже некоторая, я бы сказал, озлобленность на быстрые и незаслуженные успехи других поэтов, менее даровитых, но более смышлёных и приноравливающихся к обстоятельствам времени…"
Родился и вырос он далеко-далеко от столичных культурных центров России - в Зайсане, местечке близ Павлодара (ныне этот город находится в Казахстане), в семье учителя математики, выходца из казаков. Очень рано начал читать, сочинять первые свои стихи и проявлять свой неуёмный, непокорный характер. После одной крупной размолвки с отцом 15-летний Павел просто убежал из дома. Добрался до Омска, там тоже не задержался и отправился к Тихому океану, во Владивосток. Именно там его и приметил оказавшийся там в командировке Р.Ивнев, который помог Павлу с публикацией в местной газете и организовал его первое публичное выступление. Там же, в Омске, Павел познакомился со своей первой женой. Услышав, как он читает свои стихи, 17-летняя Галина Анучина была им покорена: «Я полюбила его сразу. Он был красив и писал прекрасные стихи». И Павел влюбился в неё смертельно. К нему пришла большая любовь. Может быть, в первый раз… но далеко не в последний. Это случилось летом 1928 г., а в 1930-ом они поженились, но жили в разлуке: осенью 1929 г. Павел окончательно перебрался в Москву, поступив на Высшие литературные курсы. У него появились новые друзья и новые поклонники. Его стихи печатались в самых солидных изданиях. И сам он прекрасно отдавал себе отчёт в величине своего таланта и не считал нужным скрывать это. Казалось, ещё немного и он займёт в поэзии место безвременно ушедшего Есенина. Поэт С.Клычков, один из пресловутой тройки «Клычков - Клюев - Есенин», отозвался о нём следующим образом: "Период так называемой крестьянской романтической поэзии закончен. С приходом П.Васильева наступает новый период - героический. Поэт видит с высоты нашего времени далеко вперёд. Это юноша с серебряной трубой, возвещающий приход будущего…"
«Прокатилась дурная слава, // Что похабник я и скандалист», - эти строки написал о себе С.Есенин. К сожалению, «дурная слава» о П.Васильеве не уступала есенинской. Ещё в Сибири за ним тянулся длинный шлейф попоек, скандалов и милицейских протоколов. Но время наступило уже другое: не начало 20-х, как у Есенина, а начало 30-х…Окончив в 1931 г. Омский строительный техникум, Галина приехала к мужу в Москву. Однако, их совместная московская жизнь, полная бытовых неурядиц и переживаний, продлилась не слишком долго: в декабре 1932 г. Павел отвёз свою беременную жену обратно, в Омск. Их молодая семья распалась. Но нет худа без добра: именно это ведь и спасло - всего через несколько лет - и ее саму и единственную дочь П.Васильева, родившуюся в 1933-м…
Какой ты стала позабытой, строгой
И позабывшей обо мне навек.
Не смейся же! И рук моих не трогай!
Не шли мне взглядов длинных из-под век.
Не шли вестей! Неужто ты иная?
Я знаю всю, я проклял всю тебя.
Далекая, проклятая, родная,
Люби меня хотя бы не любя!
1932 год
1932 г. в жизни Васильева был богат на события. В марте того года «юноша с серебряной трубой» был арестован по так называемому делу антисоветской группы «Сибиряки». Это была первая его серьёзная встреча с органами госбезопасности. Тогда всё обошлось для него сравнительно безболезненно: он получил условный срок. Другим же поэтам, проходившим по этому делу, повезло меньше. Вероятно, Павлу помогло заступничество И.М. Гронского - в то время очень влиятельного в литературных кругах человека, ответственного редактора газеты «Известия» и председателя оргкомитета Съезда советских писателей. Именно с тех пор он стал своеобразным ангелом-хранителем Васильева, стараясь, по возможности, уберечь юного поэта от грозивших ему бед. Насколько это вообще было тогда возможно его уберечь…

Г. Анучина была первой большой любовью поэта и его первой женой. А в конце 1932 г в его жизнь ворвалась другая женщина, которая на следующий год станет его женой и всего лишь через 5 лет его вдовой. Ей придётся пройти через многие обиды и через многие несчастья, но свою любовь к Павлу она сохранит до самого конца.

Е.Вялова приходилась И.Гронскому свояченицей (она была родной сестрой его жены Лидии). В его доме они и познакомились. Вернувшись из Омска, Васильев через некоторое время пришёл к Елене, в её небольшую комнатку на 1-м этаже.
«Больше всех натерпелась с ним его вторая жена Елена Вялова»… Елена по-настоящему любила Павла и прощала ему всё. Но ведь было множество людей, которые прощать ему что-либо не могли и не желали. У очень многих этот яркий, безумно талантливый, знающий себе цену и такой неосторожный человек вызывал искреннюю неприязнь. Нет, высовываться из общих рядов, конечно, дозволялось, но не слишком далеко и только в «правильную» сторону. С.Есенин был старше Васильева на 15 лет. Вот эта разница - и оказалась для Павла роковой. Начало 20-х ушло безвозвратно. За окнами была середина годов 30-х… В отличие от Есенина или Мандельштама, Васильев был поэтом скорее эпическим, чем лирическим. Лучшие его произведения - это не короткие стихи о любви, а эпические поэмы. Нередко он писал о том, о чём писать было слишком опасно. Например, о казаках. Не о красных или белых казаках, а просто о людях. Он писал совсем не то, что требовалось победившему пролетариату в текущий момент. Он вёл себя совсем не так, как должен был себя вести пролетарский поэт. Всего этого было вполне достаточно для того, чтобы его уничтожить. Примерно с начала 1933 г. травля Васильева неуклонно набирает обороты. «Певец кондового казачества», «осколок кулачья», «мнимый талант», «хулиган фашистского пошиба» - это всё он, П.Васильев.
Летом 1930-го в ход была пущена «тяжёлая артиллерия». Одновременно две центральные и две «литературные» газеты опубликовали 14 июня 1934 г. первую часть большой статьи М.Горького под названием «Литературные забавы». В этой статье мудрый наставник советских литераторов, в частности, указывал: "Жалуются, что поэт П.Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил С.Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, другие восхищаются его даровитостью, «широтой натуры», его «кондовой мужицкой силищей». Но порицающие ничего не делают для того, чтоб обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом Васильева, не делают никаких попыток, чтоб перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно «взирают» на порчу литературных нравов, на отравление молодёжи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа».
И Васильев в январе 1935 г. был исключён из ССП. Тучи над ним сгущались. В 1999 г. в архивах ФСБ была обнаружена докладная записка начальника Секретно-политического отдела Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД Г.А. Молчанова на имя наркома внутренних дел Г.Ягоды, датированная 5 февраля 1935 г. В ней говорилось о том, что поэт отнюдь не оставил своих «антисоветских настроений», и в качестве иллюстрации приводилось нигде не опубликованное и добытое «оперативным путем» его стихотворение «контрреволюционного характера»:
Неужель правители не знают,
Принимая гордость за вражду,
Что пенькой поэта пеленают,
Руки ему крутят на беду.
Неужель им вовсе нету дела,
Что давно уж выцвели слова,
Воронью на радость потускнела
Песни золотая булава.
Песнь моя! Ты кровью покормила
Всех врагов. В присутствии твоём
Принимаю звание громилы,
Если рокот гуслей - это гром.
Санкции на немедленный арест, однако, не последовало: вероятно, наркому Ягоде, близкому другу «буревестника революции», вхожему даже в его семейный круг, показалось, что одного лишь этого стихотворения для раскрутки сугубо политического дела будет маловато. Ягода наложил свою резолюцию: «Надо подсобрать ещё несколько стихотворений». Но зато материалов на раскрутку дела о «хулиганстве на грани фашизма» и тому подобное Павел давал предостаточно. И вот 24 мая 1935 г. газета «Правда» опубликовала «Письмо в редакцию», текст которого принадлежал перу «комсомольского поэта» А.Безыменского и в котором коллеги Васильева требовали от властей принять к нему «решительные меры»: "В течение последних лет в литературной жизни Москвы почти все случаи проявления аморально-богемских или политически-реакционных выступлений и поступков были связаны с именем поэта П.Васильева. Последние факты особенно разительны. Васильев устроил отвратительный дебош в писательском доме по проезду Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождая дебош гнусными антисемитскими и антисоветскими выкриками и угрозами расправы по адресу Асеева и других советских поэтов. Этот факт подтверждает, что Васильев уже давно прошёл расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма… Мы считаем, что необходимо принять решительные меры против хулигана Васильева, показав тем самым, что в условиях советской действительности оголтелое хулиганство фашистского пошиба ни для кого не сойдёт безнаказанным…"
Ниже стояли 20 подписей, среди которых, увы, мы видим имена Б.Корнилова, И.Уткина, С.Кирсанова, Н.Асеева - друзей поэта (другой вопрос, как там появились эти подписи).
«Он избил поэта Алтаузена»… Отвратительный дебош с избиением поэта Джека Алтаузена заключался в том, что когда Алтаузен в присутствии Васильева позволил себе оскорбительно отозваться о Н.Кончаловской (а ведь о влюблённости Павла, о его «Стихах в честь Натальи» и о многих других адресованных ей стихах - все его друзья, знакомые и просто коллеги прекрасно ведь знали), то Павел не сдержался и ударил «комсомольского поэта». Думаю, что ударил с наслаждением… Было бы наивностью полагать, что газета «Правда» публиковала письма читателей все подряд, по мере их поступления в редакцию. Публикация в «Правде» означала, что уж на этот раз к Васильеву будут, наконец, приняты «решительные меры». Суд над ним состоялся 15 июля 1935 г.. Вспоминает Е.Вялова: "В Рязань к Павлу я ездила почти каждую неделю. Не знаю, чем было вызвано подобное расположение, но начальник тюрьмы был со мной крайне любезен. Он не только смотрел сквозь пальцы на мои частые и долгие свидания с заключённым мужем, он снабжал Павла бумагой и карандашами- давал возможность писать стихи".
Удивительно, но в тюрьме, где даже у самого жизнерадостного человека оптимизма заметно убавляется, а Павел пишет поэму «Принц Фома» - лёгким пушкинским слогом, полную юмора и иронии. Его совершенно неожиданно для меня освободили весной 1936 г. А уже в сентябре Ягоду на посту наркома внутренних дел сменил Н.Ежов. В марте 1937 г. бывшего наркома, «потерявшего классовое чутьё», арестовали, и ещё через год он был расстрелян. В том же марте, даже немного раньше Ягоды, арестовали и его более бдительного подчинённого - Г.Молчанова (расстрелян в октябре 1937 г.). Секретно-политический отдел стал теперь называться 4-ым отделом ГУГБ, его начальники, сменившие Г. Молчанова, один за другим «теряли классовое чутьё», арестовывались, расстреливались или кончали жизнь самоубийством, но всё это никоим образом не могло что-либо изменить в судьбе П.Васильева: меняя свои названия и своих руководителей, отдел продолжал и продолжал накапливать «сведения», и железное кольцо вокруг слишком много о себе возомнившего поэта-скандалиста с дурной славой - смыкалось…
Субботу 6 февраля 1937 г. Васильев с женой проводили в гостях у друзей. Павел ненадолго отлучился на Арбат, в парикмахерскую, побриться. Назад он уже не вернулся: на выходе из парикмахерской его поджидала машина. Вспоминает Е.Вялова: "Поздно ночью ко мне пришли с обыском. Перерыли всё в нашей тринадцатиметровой комнатке - стол, тумбочку, шкаф, полки. Забрали со стола незаконченные рукописи, всё неопубликованное из ящиков стола, несколько книг и журналов с напечатанными стихотворениями Васильева, все фотографии, письма. Перерыв всё, ушли. Оставшись одна в комнате, я опустилась на стул, бессмысленно глядя на разбросанные по комнате вещи. На другой день пошла в МУР узнать, где находится Васильев и по каким обстоятельствам он задержан. Начались мои бесконечные хождения по соответствующим учреждениям, прокуратурам, разным справочным бюро, всюду, где я могла бы узнать о судьбе Васильева."
Это стихотворение, вероятно, последнее его стихотворение - было написано поэтом вскоре после ареста. В нём он обращается к своей жене Елене:
Снегири [взлетают] красногруды…
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом, северном краю.
Будем мы печальны, одиноки
И пахучи, словно дикий мёд.
Незаметно все приблизит сроки,
Седина нам кудри обовьёт.
Я скажу тогда тебе, подруга:
«Дни летят, как по ветру листьё,
Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши всё…»
Февраль 1937. Лубянка. Внутренняя тюрьма
Но увидеть «волчьи изумруды в нелюдимом, северном краю», пусть даже и «на беду», - ему было не суждено. Вспоминает Е.Вялова: "Через четыре месяца я нашла его в Лефортовской тюрьме - там у меня приняли передачу в размере 50-ти руб.. Это было 15 июня 1937 г. Сказали, что следующая передача будет 16 июля. Я приехала в назначенный день. Дежурный сказал, что заключённый выбыл вчера, куда - неизвестно. Я сразу поехала на Кузнецкий мост, 24, где находилась прокуратура. Там давали сведения о тех, у кого следствие было закончено. На мой вопрос ответили: «Десять лет дальних лагерей без права переписки»…
«Это было 15 июня 1937 года»… А двумя днями ранее зам. прокурора СССР Г.Рогинский утвердил обвинительное заключение, в котором говорилось: "B 4 отдел ГУГБ поступили сведения о том, что литератор-поэт Васильев Павел Николаевич был завербован в качестве исполнителя террористического акта против товарища Сталина. Следствием установлено, что обвиняемый Васильев на протяжении ряда лет до ареста высказывал контрреволюционные фашистские взгляды. Ранее, в 1932 г., обвиняемый Васильев П.Н. как участник контрреволюционной группы из среды литераторов был осуждён к 3 годам тюремного заключения условно. В 1935 г. обвиняемый Васильев за избиение комсомольца поэта Джека Алтаузена был осуждён к полутора годам ИТЛ. Будучи допрошен в качестве обвиняемого, Васильев П.Н. полностью признал себя виновным…"
Из письма обвиняемого Васильева П.Н. на имя наркома внутренних дел Н.И. Ежова: "С мужеством и прямотой нужно сказать, что вместо того, чтобы положить в основу своё обещание ЦК заслужить честь и право называться гражданином СССР, я дожил до такого последнего позора, что шайка террористов наметила меня как оружие для выполнения своей террористической преступной деятельности. Своим поведением, всем своим морально-бытовым и политическим обликом я дал им право возлагать на меня свои надежды. Я выслушивал их контрреволюционные высказывания, повторял их вслед за ними и этим самым солидаризировался с врагами и террористами, оказывался у них в плену и таким образом предавал партию, которая вчера только протянула мне руку помощи и дала свободу…"
«Сказали, что следующая передача будет 16 июля. Я приехала в назначенный день. Дежурный сказал, что заключённый выбыл вчера, куда - неизвестно»… Накануне, 15 июля 1937 г., в закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством В.В. Ульриха, «без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей», состоялось скорое разбирательство дела, после чего поэт был расстрелян. Его обвинили ни много ни мало - в намерении лично убить Сталина. Судя по протоколам, обвиняемый и в ходе следствия, и на суде виновным себя признал. Менее чем через месяц по такому же обвинению был расстрелян Георгий (Юрий) Есенин - старший сын С.Есенина…
Когда-нибудь сощуришь глаз,
Наполненный теплынью ясной,
Меня увидишь без прикрас,
Не испугавшись в этот раз
Моей угрозы неопасной.
Оправишь волосы, и вот
Тебе покажутся смешными
И хитрости мои, и имя,
И улыбающийся рот.
Припомнит пусть твоя ладонь,
Как по лицу меня ласкала.
Да, я придумывал огонь,
Когда его кругом так мало.
Мы, рукотворцы тьмы, огня,
Тоски угадываем зрелость.
Свидетельствую — ты меня
Опутала, как мне хотелось.
Опутала, как вьюн в цвету
Опутывает тело дуба.
Вот почему, должно быть, чту
И голос твой, и простоту,
И чуть задумчивые губы.
И тот огонь случайный чту,
Когда его кругом так мало,
И не хочу, чтоб, вьюн в цвету,
Ты на груди моей завяла.
Все утечёт, пройдёт, и вот
Тебе покажутся смешными
И хитрости мои, и имя,
И улыбающийся рот,
Но ты припомнишь меж другими
Меня, как птичий перелёт.
1932 год
Е.Вялову арестовали 7 февраля 1938 г. Она в полной мере познала участь ЧСИР - «члена семьи изменника родины» (впрочем, как и отец Павла, как и все его родные)…Только лишь в 1956 г. П. Васильев был официально реабилитирован, и о нём стало возможным хоть как-то говорить. Его стихи вновь стали печатать, но велика сила инерции: до сих пор даже не все профессиональные поэты знают это имя. Одно из стихотворений Р.Ивнева, написанное им уже в феврале 1963 г., начинается такими строфами:
Окно закрыто плотной ставнею
От диких бурь, в ночи бушующих.
Я вспоминаю тени давние
Друзей уже не существующих.
Я вижу, как перед Есениным
Санкт-Петербург склоняет голову,
И васильковых глаз цветение,
И щёк безжизненное олово…
вижу Осю Мандельштама,
Его лирическое зодчество,
Путями дерзостно-упрямыми
Переходящими в пророчество…
Я вижу Павлика Васильева,
С его улыбкой ослепительной,
С катастрофическою гибелью
Таланта юного сказителя…
П.Н. Васильев погиб в возрасте 27 лет. Он был далеко не ангелом и совсем не героем. Он был всего лишь поэтом колоссального таланта.
Я сегодня спокоен,
ты меня не тревожь,
Лёгким, весёлым шагом
ходит по саду дождь,
Он обрывает листья
в горницах сентября.
Ветер за синим морем,
и далеко заря.
Надо забыть о том,
что нам с тобой тяжело,
Надо услышать птичье
вздрогнувшее крыло,
Надо зари дождаться,
ночь одну переждать,
Феб ещё не проснулся,
не пробудилась мать.
Лёгким, весёлым шагом
ходит по саду дождь,
Утренняя по телу
перебегает дрожь,
Утренняя прохлада
плещется у ресниц,
Вот оно утро - шёпот
сердца и стоны птиц.
На сайте «Могилы знаменитостей» собраны фотографии около полутора тысяч могил. В спецразделе там собраны сведения о могилах двух с половиной сотен наших литераторов - от Пушкина, Гоголя и Есенина до А.Барто, В.Инбер и В.Василевской. Напрасно было бы искать среди них имя П.Васильева: место его захоронения толком не известно, и лишь многие десятилетия после расстрела на свет явилась справка, что он был захоронен в общей могиле № 1 на Донском кладбище в Москве...

Своей могилы у него нет. В разделе упомянутого сайта, названном «У кого нет могилы», имён совсем немного. Мы видим там имена поэтов Н.Львовой, покончившей с собой в 1913 г. (её могила впоследствии была утеряна), Н.Гумилёва, расстрелянного под Петроградом в августе 1921 г., С. Клычкова, расстрелянного осенью 1937 г. в Москве, Н.Клюева, расстрелянного тогда же в Томске, О.Мандельштама, сгинувшего в пересыльном лагере под Владивостоком в декабре 1938 г. Имени русского поэта Павла Васильева - там просто-напросто нет.
Валентин Антонов, октябрь 2009 года
http://www.vilavi.ru/sud/171009/171009.shtml

Все так же мирен листьев тихий шум,
И так же вечер голубой беспечен,
Но я сегодня полон новых дум,
Да, новых дум я полон в этот вечер.
И в сумраке слова мои звенят -
К покою мне уж не вернуться скоро.
И окровавленным упал закат
В цветном дыму вечернего простора.
Моя Республика, любимая страна,
Раскинутая у закатов,
Всего себя тебе отдам сполна,
Всего себя, ни капельки не спрятав.
Пусть жизнь глядит холодною порой,
Пусть жизнь глядит порой такою злою,
Огонь во мне, затепленный тобой,
Не затушу и от людей не скрою.
И не пройду я отвернувшись, нет,
Вот этих лет волнующихся - мимо,
Мне электрический веселый свет
Любезнее очей любимой.
Я не хочу и не могу молчать,
Я не хочу остаться постояльцем,
Когда к Республике протягивают пальцы,
Чтоб их на горле повернее сжать.
Республика, я одного прошу:
Пусти меня в ряды простым солдатом.
Замолк деревьев переливный шум,
Стих разлив багряного заката.
Но нет вокруг спокойствия и сна.
Угрюмо небо надо мной темнеет,
Все настороженнее тишина,
И цепи туч очерчены яснее.

И имя твое, словно старая песня,
Приходит ко мне. Кто его запретит?
Кто его перескажет? Мне скучно и тесно
В этом мире уютном, где тщетно горит
В керосиновых лампах огонь Прометея -
Опаленными перьями фитилей...
Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей!
У меня ли на сердце пустая затея,
У меня ли на сердце полынь да песок,
Да охрипшие ветры! Послушай, подруга,
Полюби хоть на вьюгу, на этот часок,
Я к тебе приближаюсь. Ты, может быть, с юга.
Выпускай же на волю своих лебедей, -
Красно солнышко падает в синее море
И - за пазухой прячется ножик-злодей,
И - голодной собакой шатается горе...
Если все, как раскрытые карты, я сам
На сегодня поверю - сквозь вихри разбега,
Рассыпаясь, летят по твоим волосам
Вифлеемские звезды российского снега.

Суровый Дант не презирал сонета,
В нем жар любви Петрарка изливал?..
А я брожу с сонетами по свету,
И мой ночлег - случайный сеновал.
На сеновале - травяное лето,
Луны печальной розовый овал.
Ботинки я в скитаньях истоптал,
Они лежат под головой поэта.
Привет тебе, гостеприимный кров,
Где тихий хруст и чавканье коров
И неожидан окрик петушиный...
Зане я здесь устроился, как граф!
И лишь боюсь, что на заре, прогнав,
Меня хозяин взбрызнет матерщиной.

Я боюсь, чтобы ты мне чужою не стала,
Дай мне руку, а я поцелую ее.
Ой, да как бы из рук дорогих не упало
Домотканое счастье твое!
Я тебя забывал столько раз, дорогая,
Забывал на минуту, на лето, на век, -
Задыхаясь, ко мне приходила другая,
И с волос ее падали гребни и снег.
В это время в дому, что соседям на зависть,
На лебяжьих, на брачных перинах тепла,
Неподвижно в зеленую темень уставясь,
Ты, наверно, меня понапрасну ждала.
И когда я душил ее руки, как шеи
Двух больших лебедей, ты шептала: "А я?"
Может быть, потому я и хмурился злее
С каждым разом, что слышал, как билась твоя
Одинокая кровь под сорочкой нагретой,
Как молчала обида в глазах у тебя.
Ничего, дорогая! Я баловал с этой,
Ни на каплю, нисколько ее не любя.

Не добраться к тебе! На чужом берегу
Я останусь один, чтобы песня окрепла,
Все равно в этом гиблом, пропащем снегу
Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом.
Я над теплой губой обозначу пушок,
Горсти снега оставлю в прическе - и все же
Ты похожею будешь на дальний дымок,
На старинные песни, на счастье похожа!
Но вернуть я тебя ни за что не хочу,
Потому что подвластен дремучему краю,
Мне другие забавы и сны по плечу,
Я на Север дорогу себе выбираю!
Деревянная щука, карась жестяной
И резное окно в ожерелье стерляжьем,
Царство рыбы и птицы! Ты будешь со мной!
Мы любви не споем и признаний не скажем.
Звонким пухом и синим огнем селезней,
Чешуей, чешуей обрастай по колено,
Чтоб глазок петушиный казался красней
И над рыбьими перьями ширилась пена.
Позабыть до того, чтобы голос грудной,
Твой любимейший голос - не доносило,
Чтоб огнями и тьмою, и рыжей волной
Позади, за кормой убегала Россия.

Вся ситцевая, летняя приснись,
Твое позабываемое имя
Отыщется одно между другими.
Таится в нем немеркнущая жизнь:
Тень ветра в поле, запахи листвы,
Предутренняя свежесть побережий,
Предзорный отсвет, медленный и свежий,
И долгий посвист птичьей тетивы,
И темный хмель волос твоих еще.
Глаза в дыму. И, если сон приснится,
Я поцелую тяжкие ресницы,
Как голубь пьет - легко и горячо.
И, может быть, покажется мне снова,
Что ты опять ко мне попалась в плен.
И, как тогда, все будет бестолково -
Веселый зной загара золотого,
Пушок у губ и юбка до колен.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 02 Фев 2014, 22:52 | Сообщение # 17 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | Забытая поэтесса Серебряного века
МАРИЯ МОРАВСКАЯ
(12.01. 1890 - 26.06. 1947)

Русская писательница: поэтесса, прозаик, переводчица и литературный критик. Автор нескольких стихотворных сборников, а также ряда прозаических произведений, в том числе детских. Одно из «потерянных» имён Серебряного века, случайно увиденное в какой-то статье. Вот о ней я и хочу вам рассказать, собрав информацию по крупицам, буквально по слову, по строчке, по абзацу, по обронённому упоминанию в контексте вроде этого: - Сколь обширным и разнообразным было поле женской поэзии в начале XX в. Сколько имён ещё известно пока лишь номинально, по поводу чего-либо: Надежда Львова, Лидия Лесная, Паллада Богданова-Бельская, Анна Радлова, Аделаида Герцык, Мария Моравская…

Самые близкие зданья
Стали туманно-дальними,
Самые чёткие башни
Стали облачно-хрупкими.
И самым чёрным камням
Великая милость дарована -
Быть просветлённо-синими,
Легко сливаться с небом.
Там, на том берегу,
Дома, соборы, завод,
Или ряд фиалковых гор?
Правда? - лиловые горы
С налётом малиново-сизым,
С вершинами странно-щербатыми,
Неведомый край стерегут.
Нева, расширённая мглою,
Стала огромным морем.
Великое невское море
Вне граней и вне государств,
Малиново-сизое море,
Дымное, бледное, сонное,
Возникшее чудом недолгим
В белую ночь.
Воздушные тонкие башенки
Чудного восточного храма,
И узкие башни-мечети
И звёздные купола.
Таинственный северный замок
И старая серая крепость,
И шпиль, улетающий в небо
Розоватой тонкой стрелой.
У серых приречных ступеней,
Вечно, вечно сырых,
Нежнее суровые сфинксы
Из дальней, безводной пустыни.
Им, старым, уже не грустно
Стоять на чужой земле,
Их, старых, баюкает бережно
Радужно-сизый туман.
1916
Нескончаемый поэтический фейерверк, взорвавшись над Россией на рубеже XIX и XX столетий, дал миру огромное количество имён - ярких, «разноцветных», взлетевших выше других. Эти имена образовали контур, абрис этого фейерверка, названного позже Серебряным веком русской поэзии. А потом пришли войны и революции, и праздник закончился. Многие уехали - долго и мучительно приживались на новом месте, что-то писали, что-то издавали, оставив нам стихи и воспоминания. Многие разделили судьбу страны, что-то писали, что-то издавали, долго и мучительно привыкали к новым условиям. А некоторые просто исчезли в никуда, растворились в различных советских конторах и учреждениях, растворились в эмиграции, где уже ничего не писали, ничего не издавали, и только скудные сведения об их частной жизни вне поэзии доходили на родину. А ещё были такие, кто уже не ждал от жизни ничего и сводил с нею счёты.

Я жду неожиданных встреч, -
Ведь еще не прошел апрель, -
Но все чаще мне хочется лечь
И заснуть на много недель…
Мосты, пароходы, все встречное,
Как с видами мертвый альбом,
И с набережной приречной
Все тянет ледяным холодком.
Я жду неожиданных встреч,
Но так сер северный апрель…
И все чаще мне хочется лечь
И заснуть - на много недель.
Стихотворение «Белая ночь», которое предваряет рассказ о Моравской, на мой взгляд, самое удачное из того, что мне удалось прочитать. В нём, безусловно, присутствует поэтическое мироощущение и интересный образный ряд. Другие тексты, увы, мне кажутся беспомощными и не дотягивают до лучших образцов поэзии Серебряного века. В этом смысле я согласна с матерью А.Блока Александрой Андреевной - «По-моему, это не поэзия». Поэтому предлагаемый читателям рассказ - это, скорее, история литературы, чем сама литература. Забытая поэтесса Серебряного века М.Моравская, как её часто называют, забыта, да не совсем. Просто её имени многие не замечают… в сборниках стихотворений для детей, появившихся в России в 90-х годах уже прошлого века.
Моравская Мария Магдалина Франческа Людвиговна родилась в Варшаве, в польской католической семье, а умерла в Майами (США). Дата и место смерти требуют уточнения, поскольку не соответствует действительности. Но об этом позже. Итак, М.Моравская родилась в Польше. Мать умерла, когда девочке было два года, отец женился вторично на сестре матери, и семья переехала в Одессу. Отношения с тёткой-мачехой складывались непросто, и 15-летняя Мария покинула родительский дом, уехав в Петербург, где зарабатывала на жизнь уроками. Некоторое время она училась на Высших женских курсах, увлекалась политикой, в частности, польскими проблемами и социалистическими идеями. Даже дважды подвергалась аресту и сидела в тюрьме.
Чёрным ходом, по лестнице длинной,
Я пришла наниматься в бонны.
Распахнув занавески зелёные,
Вышла дама из стильной гостиной.
Говорила так плавно и звонко,
(Было правилом каждое слово!)
Как мне надо лелеять ребёнка,
Ребёнка - мне чужого.
И выпытывать стала искусно,
Где мой дом, кто отец и семья,
И сказала, - как стало мне грустно! -
Чтоб ко мне не ходили друзья.
И мне этого было довольно,
Я ушла, поклонившись даме.
Я пришла лишь изведать, больно ли
Быть служанкой в богатом доме.
Я по лестнице, грязной и липкой,
Возвращалась в томлении жутком
И шептала с печальной улыбкой:
Как легко себя ранить шуткой…
1914 год
Мария очень рано и ненадолго вышла замуж, а первые её стихотворения были напечатаны в газете ещё в Одессе. В 1910 г. она познакомилась с М.Волошиным, сотрудничала в литературном журнале «Аполлон», через год вошла в «Цех поэтов», пользовалась покровительством З.Гиппиус, посещала литературные собрания у Вяч. Иванова. В одном из писем к К.Чуковскому Гиппиус назвала её «чрезвычайно талантливой особой». Первый «Цех поэтов», (1911–1914 гг.) объединил тогдашних акмеистов. В него входили Н.Гумилев, С.Городецкий, Кузьмины-Караваевы, А.Ахматова, М.Лозинский, В.Пяст, В.Нарбут, М.Зенкевич, О.Мандельштам. А с 1915-го Моравская сближается с Г.Адамовичем, Г.Ивановым, сотрудничая с «Новым журналом для всех». Часто печатается в различных журналах - «Вестник Европы», «Ежемесячный журнал», «Журнал журналов», «Заветы», «Современный мир», «Русская мысль». В 1914 г. вышел её первый сборник поэзии «На пристани». Второй - «Стихи о войне» (1914) был подвергнут острой критике. Через год вышли ещё две ее книги - «Прекрасная Польша», посвящённая А.Мицкевичу, и сборник «Золушка думает» («памяти Е.Гуро», оказавшей значительное влияние на творчество Моравской). Второй сборник вызвал насмешливые отклики («Золушка совсем не думает», - называлась одна из рецензий).
Я Золушка, Золушка, - мне грустно!
Просит нищий, и нечего подать…
Пахнет хлебом из булочной так вкусно,
Но надо вчерашний доедать.
Хозяйка квартирная, как мачеха!
(Мне стыдно об этом говорить).
Я с ней разговариваю вкрадчиво
И боюсь, опоздав, позвонить.
На бал позовут меня? Не знаю.
Быть может, всю жизнь не позовут…
Я Золушка, только городская,
И феи за мною не придут.
Умирай, Золушка, умирай, милая,
Тут тебе не место на улицах города,
Тут надо быть смелой, дерзкой и гордой,
Тут нужна сила, пойми, сила!
Умирай, Золушка, нет воскресенья.
Романтичной тенью незачем бродить.
Наберусь мужества, наберусь терпенья, -
Может, удастся её пережить?
Сотрудничество в детских журналах «Тропинка» и «Галчонок», стихи для детей «Апельсинные корки» (1914) и книга рассказов «Цветы в подвале» (1914) принесли Моравской известность и на этом поприще. В 1910-х Марию считали одной из самых талантливых поэтесс, а Волошин предрекал ей роль второй Черубины де Габриак. (Е.Дмитриевой), которая писала М.Волошину 18 января 1910 г.: Я ещё не получила письма от Моравской - очень хочу её видеть, я прочла несколько её стихов Маковскому, он в восторге, хочет её печатать; так что это уже её дело. Аморя, по-моему, ей ничего не даст, ей нужен возврат в католичество, или через него. Диксу её стихи не понравились. А у меня чувство - что я умерла, и Моравская пришла ко мне на смену, как раз около 15-го, когда Черубина должна была постричься. Мне холодно и мертво от этого. А от Моравской огромная радость!
(15 октября 1909 г., в ходе мистификации, поэтесса Черубина де Габриак должна была исчезнуть, якобы постригшись в монахини. С.Маковский - худ. критик и поэт, создатель журнала «Аполлон». Аморя - домашнее имя М.В. Сабашниковой, первой жены М.Волошина. Дикc - псевдоним БЛемана, поэта, критика, педагога).
В стихотворениях Моравской - стремление к одиночеству, мечты о прекрасном Принце, понимание несбыточности надежд, а отсюда - стремление к бегству. Уехать, улететь, уплыть. Даже в названиях стихотворений звучат эти мотивы - «Уехать», «На пристани», «Уходящие поезда», «В крылатый век», «Пленный».
Я купила накидку дорожную
И синее суконное кепи,
И мечтала: увижу безбрежные,
Безбрежные моря и степи!
И висит, покрываясь пылью,
Моё кепи на раме зеркальной.
Но теперь помертвели, остыли
Все мечты о дороге дальней.
Разве долго мечтать я бессильна,
Разве я изменила просторам?
Со стены моя шапка пыльная
Глядит на меня с укором…
***
Туман мутный над городом встал
Облаком душным и нетающим.
Я пойду сегодня на вокзал,
Буду завидовать уезжающим.
Буду слушать торопливые прощанья,
Глядеть на сигналы сквозь туман
И шёпотом повторять названья
Самых далёких стран!
Заблестит над рельсами зелёный сигнал,
Как яркая южная звезда…
Я пойду сегодня на вокзал
Любить уходящие поезда.
Из книги M.Бекетовой «Александр Блок и его мать»: Ал. Ал. всегда находил, что мать его работает и добросовестно, и талантливо. Между прочим, он очень ценил её отзывы о разных литературных произведениях. Иногда он поручал ей писать рецензии на пьесы, которых ему приходилось рассматривать целые груды… Вот образчик рецензий Ал. Андр., единственный из уцелевших её работ этого рода. Не знаю, для чего понадобилась эта рецензия, но интересно то, что на ней есть пометка, сделанная рукой Ал. Ал-ича. Рецензия написана на сборник стихов поэтессы Моравской, одно время (незадолго до войны) прошумевшей в Петербурге. Главные темы сборника касаются стремления на юг, тут и мысли о Крыме, и хождение на вокзал и т. д. Вот рецензия. По-моему, это не поэзия. Но тут есть своеобразное. Очень искренно выказан кусок себялюбивой мелкой души. Может быть, Брюсов и А.Белый думают, что стремление на юг, в котором состоит почти всё содержание - это тоска трёх сестёр и вообще по Земле Обетованной. Они ошибаются. Это просто желание попасть в тёплые страны, в Крым, на солнышко. Если бы было иначе, в стихах бы чувствовалась весна, чего абсолютно нет. Да и вообще ни весны, ни осени, ни зимы, никакого лиризма. Я очень добросовестно прочла всю тетрадь. Это только у женщин такая способность писать необычайно лёгкие стихи без поэзии и без музыки. (Пометка Ал. Ал-ича: «7 июня 1913 года о стихах Моравской. Очень, очень верно».) Речь идёт о рукописной книге стихов, которую Иванов-Разумник отправлял на просмотр некоторым литераторам, в том числе В.Брюсову (его предисловие к стихам Моравской «Объективность и субъективность в поэзии» сохранилось в архиве поэта)

Не веря, склоняю колени пред Ней, -
Преданья так нежно, так ласково лгут…
С тех пор, как у Польши нет королей,
Её Королевою Польской зовут.
Душа отдыхает, вот здесь, у придела,
Где статуя Девы, где свечи ей жгут…
Цвета Богородицы, синий и белый,
Низводят мне в душу печаль и уют.
Я верю, я знаю - наш разум мятежный
В молчанье копьё преклонит перед ней,
Оставит Марию, как памятник нежный
Великих надежд и великих скорбей.
Произведения Моравской анализировали В.Брюсов, А.Гизетти, С.Парнок и мн.др. Сравнивая творчество Н.Львовой, А.Ахматовой и М.Моравской, литературный критик А.Гизетти в статье «Три души» (1915) очень положительно отзывается о возможностях её дальнейшего роста. Из отзывов о лирике М.Моравской - «Тонкий голосок капризной девочки» (К.Луковский), «Это жалость к себе самой» (С. Парнок). «У меня кукольный стиль, трагических жестов мне не простят», - говорила о себе Моравская.
Жалят меня жала мельче иголки,
Оставляют ранки на долгий срок.
Меня волнуют срубленные ёлки
И заблудившийся щенок.
Утром я плакала
над нищенкой печальной,
И была колюча каждая слеза!
Разве так уж страшно
быть сентиментальной,
Если жалость давит глаза?
Среди скупых сведениях о поэтессе существует упоминание о её дружеских отношениях с выдающимся мордовским скульптором Степаном Эрьзя. В 1917 г. Мария уехала в Японию, а оттуда в США. Там она сотрудничала с множеством американских журналов, печатая в них на английском языке короткие рассказы, статьи и очерки. В 1927 г. в Нью-Йорке на английском языке был издан её роман «Жар-птица» о петербургской жизни 1910-х гг., вышедший в Нью-Йорке и Лондоне. Постоянный мотив ее позднего творчества - тоска по России: «Живёшь, как мёртвая, мёртвая для поэзии, потому что тут ведь стихов писать не стоит» («Литературные записки», 1922). А теперь вернёмся к дате смерти поэтессы, которая указана во множестве источников - 1947 г.
Совершенно неожиданно имя М.Моравской всплыло в воспоминаниях поэтессы М.Алигер о К. Чуковском «Долгие прогулки» (1973–1974), отрывок из которых связан с её книгой очерков «Чилийское лето», опубликованной в 1965 г. в журнале «Новый мир»: Прочитав в «Новом мире» мои очерки «Чилийское лето», он вручил мне номер со своими замечаниями, всеми до одного учтёнными мною впоследствии, при отдельном издании книжки о путешествии в Чили. Высказав мне все свои замечания и соображения, он в заключение сказал: «Знакомо ли вам имя Марии Моравской?» Да, я помнила такое имя и милые стихи моего детства, подписанные этим именем. Но при чём тут Чили?
- Так вот, представьте себе - она эмигрировала после революции, и след её совершенно затерялся. Я, пожалуй, и о существовании её забыл, хотя помнил, что она была талантлива и книга её «Апельсиновые корки» мне в своё время очень понравилась. И вдруг несколько лет назад я получил от неё письмо из Чили. Судьба забросила её туда, она вышла замуж за почтальона и с ним доживает свой век. Как было бы интересно вам её повстречать. Представляете, рафинированная петербургская барышня, поэтесса, подруга поэтов, завсегдатай «Бродячей собаки», и вот какой финал супруга чилийского почтальона!
Разговор Алигер с Чуковским мог произойти не ранее 1965 г. - времени публикации «Чилийского лета» в «Новом мире». Фраза Чуковского «И вдруг несколько лет назад я получил от неё письмо из Чили» опровергает дату смерти Моравской - 1947 г. О прошедших двух десятилетиях так не скажешь. И ещё одно свидетельство - книга П.Лукницкого «Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой». В «Указателе имён» значится Моравская Мария Людвиговна (1889–1958) - поэтесса, участница первого Цеха поэтов. Эта дата смерти подтверждает рассказ К.Чуковского.
Я доживу до старости, быть может,
И не коснусь подножки самолёта, -
Как будто он не мною прожит -
День торжества над Тягою земной!
Я доживу до старости, быть может,
Не видя сверху башни - ни одной!
И вниз земля не уплывёт от взора,
И не забьётся сердце в такт мотору,
Надоблачного не увижу кругозора,
Ни на миг от земли не оторвусь…
Какая грусть, Боже, какая грусть!
http://www.vilavi.ru/sud/050408/050408.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 11 Фев 2014, 21:06 | Сообщение # 18 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | Памяти Александра Сергеевича Пушкина

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза.
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем,- в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум.
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:
что видишь?
В.Жуковский

И Пушкин падает в голубоватый
Колючий снег. Он знает - здесь конец...
Недаром в кровь его влетел крылатый,
Безжалостный и жалящий свинец.
Кровь на рубахе... Полость меховая
Откинута. Полозья дребезжат.
Леса и снег и скука путевая,
Возок уносится назад, назад...
Он дремлет, Пушкин. Вспоминает снова
То, что влюбленному забыть нельзя,-
Рассыпанные кудри Гончаровой
И тихие медовые глаза.
Случайный ветер не разгонит скуку,
В пустынной хвое замирает край...
...Наемника безжалостную руку
Наводит на поэта Николай!
Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса
Следит - упорно, взведены ль курки,
Глядят на узкий пистолет Дантеса
Его тупые, скользкие зрачки...
И мне ли, выученному, как надо
Писать стихи и из винтовки бить,
Певца убийцам не найти награду,
За кровь пролитую не отомстить?
Я мстил за Пушкина под Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронес,
Я с Пушкиным шатался по окопам,
Покрытый вшами, голоден и бос.
И сердце колотилось безотчетно,
И вольный пламень в сердце закипал
И в свисте пуль за песней пулеметной
Я вдохновенно Пушкина читал!
Идут года дорогой неуклонной,
Клокочет в сердце песенный порыв...
Цветет весна - и Пушкин отомщенный
Все так же сладостно-вольнолюбив.
Э.Багрицкий

Мы чтить тебя привыкли с детских лет,
И дорог нам твой образ благородный;
Ты рано смолк; но в памяти народной
Ты не умрешь, возлюбленный поэт!
Бессмертен тот, чья муза до конца
Добру и красоте не изменяла,
Кто волновать умел людей сердца
И в них будить стремленье к идеалу;
Кто сердцем чист средь пошлости людской,
Средь лжи кто верен правде оставался
И кто берег ревниво светоч свой,
Когда на мир унылый мрак спускался.
И всё еще горит нам светоч тот,
Всё гений твой пути нам освещает;
Чтоб духом мы не пали средь невзгод,
О красоте и правде он вещает.
Все лучшие порывы посвятить
Отчизне ты зовешь нас из могилы;
В продажный век, век лжи и грубой силы
Зовешь добру и истине служить.
Вот почему, возлюбленный поэт,
Так дорог нам твой образ благородный;
Вот почему неизгладимый след
Тобой оставлен в памяти народной!
А.Плещеев

Ты в жизнь ребенка входишь сказкой.
Игра блестящего ума -
Легко читается и сразу
Запоминается она.
А почему - тут нет вопроса,
Известна истина одна:
Что гениально, то и просто,
И глубоко - не видно дна.
«У Лукоморья дуб зеленый...» -
И сразу необъятный мир
Неведомый, завороженный
И мудрый открываем мы.
Взрослеем, первых чувств томленье -
И строки дивной красоты:
«Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты»!
Вот так по жизни - шаг за шагом -
Стихом и прозой с нами ты,
Поэт вселенского масштаба,
Словесной Мастер чистоты.
Родной язык, прекрасный, сильный,
Вознес ты лирой в облака.
«Визитной карточкой» России
Ты стал для мира на века.
Тебе, как песне, над планетой
Звенеть, лететь под облака,
Пока Великого поэта
Жива хотя б одна строка!
(с)

Читая Пушкина, я радуюсь тому,
Что сопричастность есть на белом свете,
Что он и я – страны единой дети,
Читая Пушкина, я радуюсь тому.
Читая Пушкина, я радуюсь тому,
Что он родился на восходе летнем,
И солнца луч божественный приветней
В годины испытаний стал ему.
Он боль в душе своей не угашал,
«Духовной жаждой» с юности томимый,
Царями, лжепророками гонимый,
Высокий слог Отчизне завещал.
Я время не пытаюсь разгадать:
В мирских делах теченье незаметней,
Но год от года ближе и приметней
Мне пушкинская солнечная стать.
(с)

Власть пушкинских стихов – на все века.
Власть доброты. Высоких дум горенье.
Подчас одна лишь краткая строка
Дарует силу нам и вдохновенье.
Порой в одной строке отражены
Раздумья самых разных поколений.
В его стихах –
И лёгкий всплеск волны,
И шум дубрав,
И грозный гул сражений.
Невиданный открыт для них простор.
Летят они свободно, неустанно.
В Москве они звучат
И средь грузинских гор,
На улицах Норильска и Кургана.
В.Милютин

худ. Лаврентий Жаренко
Речка Чёрная в белых тонула снегах,
Небо серое сеяло пасмурный свет.
Шаг навстречу Судьбе, пистолеты в руках…
Приготовьтесь, сейчас Вы умрёте, Поэт!
Пусть России вовеки не выплакать Вас,
Но в трагедии правда великая есть…
Приготовьтесь, Поэт, Вы умрёте сейчас.
Вы умрёте сейчас за Любовь и за Честь!
Взгляд в Бессмертие гордо несёт голова.
В чистом, праведном пламени – дерзость и риск.
Вы умрёте, Поэт, но завидую Вам,
Доказавшему – Совесть дороже, чем Жизнь! -
Да хранит Вас в покое заоблачный свет.
Я прошу: не глядите в мои времена.
Вы посмертно умрёте от горя, Поэт.
Здесь без власти – народ,
здесь без гимна – Страна.
Здесь так трудно остывшую Веру согреть,
Здесь в безлюбых сердцах холодна пустота…
Я не смерти боюсь, я боюсь умереть
Ни за что ни про что, умереть – просто так! -
Пусть в Кремлёвских курантах, на Русских часах,
Вызревает страны очистительный час.
Позовёт меня звон, отпевающий страх,
Умирать – за Любовь, за Россию, за Вас!
Н.Колычев

Давно чернильница пуста,
Перо гусиное за рамой...
Здесь Пушкин жил и здесь писал
России жизненную драму.
Он в свой жестокий век творил,
Став эхом русского народа,
Ему свой гений посвятил
В борьбе за вольность и свободу.
Дыханье прошлых давних лет
Почувствовал я на минуту.
И Пушкина не меркнет свет,
Он среди нас живой как будто.
Стоит наш гений во весь рост,
А голос музы слышен снова,
Как правда жизни, мудр и прост,
А жизнь была и есть сурова.
Его чернильница пуста.
Перо безмолвное за рамой...
Здесь гений жил и здесь писал
России жизненную драму.
Ю.Левчук

худ. В.А. Бернадин
Полвека протекло, как твой могучий гений
Угас безвременно, народ осиротив...
И голос зависти, вражды и заблуждений,
В высокомерии к тебе несправедлив,
Не раз поколебать пытался твой треножник...
Но годы минули - и вот всего итог:
Твой враг забыт, а ты, властительный художник,
Во всем величии встаешь как полубог!
И мы, кого вскормил твой светлый, дивный гений,
Сегодня, в день твоей кончины роковой,
С благоговением спешим склонить колени,
Поэт-учитель, пред тобой!
Но мы не весь народ. Еще печальной тризне
Далек своей душой вчерашний раб - мужик...
Я верю: день придет, желанный день в отчизне,
Когда твой будущий прозревший ученик,
Воспрянув ото сна, духовно возрожденный
И правдою речей твоих руководим,
В благоговении, толпой многомильонной
Преклонится пред гением твоим.
А.Круглов, 1887.

По-русски говорим мы с детства,
Но волшебство знакомых слов
Мы обретаем, как наследство,
В сиянье пушкинских стихов.
Поэт не стал далекой тенью,
Святыней, отданной в музей.
Он шумно празднует рожденье
Среди бесчисленных друзей…
Как своды античного храма –
Души и материи сплав –
Пушкинской лирики мрамор
Строен и величав.
С.Маршак
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 20 Май 2014, 14:48 | Сообщение # 19 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | «Один, среди зеркал - в ограде отражений…»
АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ
(24.06. 1907 - 27.05. 1989)

Русский поэт и переводчик с восточных языков. Сторонник классического стиля в русской поэзии. Отец кинорежиссёра А.Тарковского. Посмертно награждён Госпремией СССР.
В последний месяц осени, на склоне
Суровой жизни,
Исполненный печали, я вошёл
В безлиственный и безымянный лес.
Он был по край омыт молочно-белым
Стеклом тумана. По седым ветвям
Стекали слёзы чистые, какими
Одни деревья плачут накануне
Всеобесцвечивающей зимы.
И тут случилось чудо: на закате
Забрезжила из тучи синева,
И яркий луч пробился, как в июне,
Как птичьей песни лёгкое копьё,
Из дней грядущих в прошлое моё.
И плакали деревья накануне
Благих трудов и праздничных щедрот
Счастливых бурь, клубящихся в лазури,
И повели синицы хоровод,
Как будто руки по клавиатуре
Шли от земли до самых верхних нот.
«Я как-то очень постарел в последние годы. Мне кажется, что я живу на свете тысячу лет, я сам себе страшно надоел… Мне трудно с собой… с собой жить…» (1982)
«Закат, Арсений Александрович, какой закат!» - сказал я, повернувшись к нему. Он с надеждой и жаждой развернулся налево - и мягкий алый закатный свет нежно выудил его из глубокой тени. Впервые за день его величественная красота не была раздавлена острой физической болью. Он был вновь поразительно красив, но какой-то иной, невиданной мною раньше у него красотой - красотой сквозь и над болью, красотой прощания и прощения… Татьяна Алексеевна несколько мгновений молча внимательно смотрела на полученный портрет мужа, повернулась к нам, потом ещё раз посмотрела на портрет, торжественно звучно поцеловала фотографию, подошла к хмуро и нелюдимо сидевшему Арсению Александровичу и очень громко сказала ему: «Мальчик мой хороший! Ты всегда был, есть и будешь самым красивым мужчиной на свете!..» (Из воспоминаний друга семьи Тарковских А.Н. Кривомазова)
От автора: Мой рассказ о большом русском поэте Арсении Тарковском, в сущности, не вполне мой, то есть, совсем не мой. Говорить о внутреннем мире поэта, о людях, которые его окружали, о женщинах, которые его любили и которых он любил, очень сложно, да и невозможно, если перед тобой только его стихотворения да воспоминания современников. Вот и пусть вместо меня говорят они. Возле текстов некоторых стихов я намеренно не ставила даты написания - на мой взгляд, они над временем, и неважно, кому были посвящены, в какую минуту писались. Так в свое время поступил Андрей Тарковский, рассказывая в фильме «Зеркало» о своей семье, ведь за кадром Арсений Тарковский читает «Первые свидания», посвящённые совсем другой женщине, а не своей первой жене, матери Андрея.
Мой рассказ о поэте и его женщинах - женах, возлюбленных… В них размышления Арсения Тарковского о жизни, в них глубоко интимные переживания человека. Я постаралась выдержать хронологию повествования, насколько это было возможно, не придавая особого значения плавности переходов между отдельными его фрагментами. Мне кажется, для любителей поэзии Тарковского просто появится ещё одна возможность соприкоснуться с его жизнью.
Инна Лиснянская (р.1928) - поэтесса, жена поэта С.Липкина: В фойе Колонного зала я увидела высокого, статного, необыкновенно красивого человека, стоящего отдельно от всех. Тарковский! - поняла я… Но ведь этот, как мне тогда казалось, пожилой, стройный господин, с такой лёгкостью опирающийся о тяжёлую трость, мог быть кем угодно. Нет, не мог. Им мог быть лишь отдельный - Тарковский… Уже на самом вечере, а меня усадили в президиуме между Тарковским и трибуной, я, близорукая, разглядела его лицо: ни одной грубой черты, очень чёткий профиль, несколько монголоидные глаза и скулы, высокие летящие брови, всё - соразмерно: лоб, нос и подбородок, заострённый ровно настолько, чтобы не быть острым. Уже обозначились морщины, но, впрочем, как и после, в 1973 г., они были столь выразительны, что лишь подчёркивали утончённую красоту лица, очень подвижного, нервного, благодаря быстро меняющемуся выражению темно-лучистых глаз. Всё в нём росло с годами - мысль, душа, но только не возраст! Не возраст! Вот потому-то в основном не сверстники, а юные друзья Тарковского, стихотворцы, его ученики, как в устных, так и в письменных воспоминаниях обращают наше внимание на детский характер поэта… Поэт-ребёнок. Такое определение далеко не ко всем поэтам применимо… Детские черты я, к примеру, нахожу у Мандельштама, но не у Ходасевича, замечаю у Цветаевой, но не у Ахматовой. Конечно, свои наблюдения я черпаю из всего, что открыто или даже спрятано в их стихах, из всего, что написано о них воспоминателями, а тем более из того, что поэты сами сказали о себе, включая и мотивы мифотворчества. Но более ярко выраженного детского характера, чем тот, коим обладал Арсений Александрович, я не встречала ни в жизни, ни в мемуарах»

Под сердцем травы тяжелеют росинки,
Ребёнок идёт босиком по тропинке,
Несёт землянику в открытой корзинке,
А я на него из окошка смотрю,
Как будто в корзинке несёт он зарю.
Когда бы ко мне побежала тропинка,
Когда бы в руке закачалась корзинка,
Не стал бы глядеть я на дом под горой,
Не стал бы завидовать доле другой,
Не стал бы совсем возвращаться домой.

Покинул я семью и тёплый дом,
И седины я принял ранний иней,
И гласом вопиющего в пустыне
Мой каждый стих звучал в краю родном.
Как птица нищ и как Иаков хром,
Я сам себе не изменил поныне,
И мой язык стал языком гордыни
И для других невнятным языком.
И собственного плача или смеха
Я слышу убывающее эхо,
И, Боже правый, разве я пою?
И разве так, всё то, что было свято,
Я подарил бы вам, как жизнь свою?
А я горел, я жил и пел — когда-то.
В письме к сыну 7 июля 1950 г. А.Тарковский писал: «У меня тогда… было нечто, что меня спасало и было моей верной путеводной звездой: неукротимая страсть к поэзии; я во всем был подобен тебе, так же легкомыслен и так же подчинялся обстоятельствам и плыл по течению, во всём, кроме поэзии… А теперь о твоей влюблённости. То, что я тебе напишу, безусловно, верно, если допустить, что мы с тобой устроены одинаково, а это так во многом, мы ведь очень похожи по душевному строю. У нас (у меня, я предполагаю, что и у тебя) есть склонность бросаться стремглав в любую пропасть, если она чуть потянет и если она задрапирована хоть немного чем-нибудь, что нас привлекает. Мы перестаём думать о чём-нибудь другом, и наше поле зрения суживается настолько, что мы больше ничего, кроме колодца, в который нам хочется броситься, не видим… Не надо, чтобы любовь тебя делала тряпкой и ещё более - слабым листком, уж совсем неспособным к сопротивлению. Любовь великая сила и великий организатор юношеских сил; не надо превращать любовь в страсть, в бешенство, в самозабвение, я буду счастлив, если твоя влюблённость окажется любовью, а не чумой, опустошающей душу…»
Арсений Александрович родился в Елисаветграде (нынешнем Кировограде), тогда - уездном городе Херсонской губернии, на Украине. В 1923 г. приехал в Москву - там жила его сводная сестра (дочь отца от первого брака). В 1925-м поступил на Высшие лит. курсы, которые были созданы вместо Литинститута, закрытого после смерти В.Брюсова. На Литературных курсах (брюсовских, как их тогда называли), Арсений и познакомился со своей первой женой М.Вишняковой, поступившей на подготовительный курс в том же году. В феврале 1928 г. они поженились.

А.Тарковский в период учёбы (1925–1929) на Литературных курсах
Музе
Что мне пропитанный полынью ветер.
Что мне песок, впитавший за день солнце.
Что в зеркале поющем голубая,
Двойная отражённая звезда.
Нет имени блаженнее: Мария, -
Оно поёт в волнах Архипелага,
Оно звенит, как парус напряжённый
Семи рождённых небом островов.
Ты сном была и музыкою стала,
Стань именем и будь воспоминаньем
И смуглою девической ладонью
Коснись моих полуоткрытых глаз,
Чтоб я увидел золотое небо,
Чтобы в расширенных зрачках любимой,
Как в зеркалах, возникло отраженье
Двойной звезды, ведущей корабли.
1928

М.И. Вишнякова родилась в 1907 г. в Козельске, в семье судьи Ивана Ивановича и Веры Николаевны, урождённой Дубасовой. (Козельск - город в Калужской обл. России на левом берегу реки Жиздра, притока Оки). В этом браке родилось двое детей - Андрей, будущий кинорежиссёр, ( 1932) и Марина (1934).
Л.В. Горнунг «Воспоминания об Арсении Тарковском»: Маруся была единственным ребёнком у матери, которая рано развелась с ее отцом из-за его трудного характера и вышла замуж за талантливого врача Н.М. Петрова. Маруся очень привязалась к своему отчиму… Тарковские были влюблены друг в друга, любили своих друзей, свою работу, литературу и жили большой кипучей жизнью студентов 20-х годов. Они известили родных о своём решении, и мать Маруси, Вера Николаевна, приехала в Москву познакомиться с избранником дочери. Он ей не понравился, и она целую ночь уговаривала дочь не совершать такого опрометчивого шага, как замужество. Увидев, что это бесполезно, она взяла с дочери расписку в том, чтобы та в будущем не упрекала мать, если её жизнь с Арсением окажется неудачной. Брак состоялся, и Вере Николаевне пришлось примириться с фактом. Молодые ежегодно на каникулы приезжали в Кинешму к Петровым… Жизнь молодых пошла своим путём, несколько беспорядочно, богемно, но любовно.
(Лев Владимирович Горнунг — поэт, переводчик, мемуарист. Создал фотолетопись семьи Тарковских)
Все разошлись. На прощанье осталась
Оторопь жёлтой листвы за окном,
Вот и осталась мне самая малость
Шороха осени в доме моём.
Выпало лето холодной иголкой
Из онемелой руки тишины
И запропало в потёмках за полкой,
За штукатуркой мышиной стены.
Если считаться начнём, я не вправе
Даже на этот пожар за окном.
Верно, ещё рассыпается гравий
Под осторожным её каблуком.
Там, в заоконном тревожном покое,
Вне моего бытия и жилья,
В жёлтом, и синем, и красном - на что ей
Память моя? Что ей память моя?
И.Лиснянская: «Ребёнок нуждается в матери. Ею, в какой-то мере, как я понимаю, и была его первая жена Мария Ивановна. Даром ли она, брошенная Тарковским с двумя малыми детьми, всегда, как мне известно со слов опять же Липкина и Петровых, да и из наших с Тарковским бесед о детях, внушала Андрею и Марине, что их отец - поэт, что он добрый и хороший, что на него нельзя обижаться. Так обычно выгораживает мать отбившегося от рук сына перед другими своими детьми».

М.Тарковская: «Расстались родители, когда мы с Андреем были совсем маленькими. Для мамы это была больная тема. Мы это понимали и старались не тревожить её. Папа был человеком, целиком погружающимся в страсть. К маме он испытывал любовь глубокую и безумную, потом, когда чувство к ней перегорело, так же неистово относился к своей второй жене. У него была натура поэта, совершенно лишённая рациональности. Он Андрея предупреждает в письмах, чтобы тот «не бросался в любовь, как в глубокий колодец, и не был, как листок на ветру». Не хотел, чтобы сын повторял его ошибки… А мама наша была нигилисткой, в быту: ей ничего не нужно было, даже занавесок на окнах. Она была вне быта и представляла особый тип женщин, сформировавшийся в 20-е годы, для которых самым важным была духовная жизнь, а всё остальное считалось мещанством. Замуж мама больше никогда не вышла, полагая, что никакой мужчина не заменит нам отца. Она любила только его всю жизнь. И ему всё прощала, но в душе её была боль… И папа в трудные минуты жизни, когда оставался один и с ним случались разные происшествия, всегда звонил маме.
Она была блондинка, с густыми длинными волосами, со спокойными серыми глазами, с нежной кожей. М.С. Петровых говорила, что в молодости у мамы было «лицо как бы озарённое солнцем». Но эта озарённость быстро погасла. Есть пословица - каждый кузнец своего счастья. Мама была плохим кузнецом. Она не умела устраиваться в жизни и как будто нарочно выбирала для себя самые трудные пути. Она пошла работать в типографию с её потогонными нормами, она не поехала в эвакуацию с Литфондом и всё потому, что не могла кривить душой даже перед собой. Казалось, что в жизни ей ничего не нужно - была бы чашка чая с куском хлеба да папиросы. Вся её жизнь была направлена на наше с Андреем благо…»
Женщина в красном и женщина в синем
Шли по аллее вдвоем.
- «Видишь, Алина, мы блекнем, мы стынем, -
Пленницы в счастье своем…»
С полуулыбкой из тьмы
Горько ответила женщина в синем:
- «Что же? Ведь женщины мы!»
М.Цветаева
В 1936 г. Тарковский познакомился с А.Бохоновой, женой критика и литературоведа, друга Маяковского и Бурлюка, В.Тренина. Летом 1937 г. он уходит к ней из семьи, оставляя своих детей на попечение матери и навещая только в их дни рождения. А в новой семье воспитывается дочь Елена от первого брака Антонины.
С.Липкин, 3 июня 2000 г.: «Я знал его первую жену Марусю. Знал так хорошо, что я даже не знаю её отчества. Это была прелестная милая женщина, которая его боготворила. Затем возникла Тоня. Это была женщина красивая, добрая, мягкая, но она не была властной, она была куколкой. Прелестной, милой, доброй, порядочной…»
Во время войны Арсений Александрович потерял ногу. Тогда в госпитале его выходила вторая жена - А.Бохонова. Но закончилась война, его стихи по-прежнему не печатали, и на творческий кризис наложился личный - 2-й брак шёл к своему завершению. Существует версия, что эмоционально Тарковский не перенёс физической зависимости от жены после ампутации ноги. В стихотворении «Полевой госпиталь» есть строка - «Где я лежал в позоре, в наготе». Свою беспомощность поэт воспринимал, как позор, и это якобы позже сказалось на отношениях с женой. Антонина умерла 22 марта 1951 г. Тарковский на смерть 2-й жены отозвался стихами «Жизнь меня к похоронам приучила понемногу» и «Фонари».
Жизнь меня к похоронам
Приучила понемногу.
Соблюдаем, слава Богу,
Очерёдность по годам.
Но ровесница моя,
Спутница моя былая,
Отошла, не соблюдая
Зыбких правил бытия.
Несколько никчемных роз
Я принёс на отпеванье,
Ложное воспоминанье
Вместе с розами принёс.
Будто мы невесть откуда
Едем с нею на трамвае,
И нисходит дождевая
Радуга на провода.
И при жёлтых фонарях
В семицветном оперенье
Слёзы счастья на мгновенье
Загорятся на глазах.
И щека ещё влажна,
И рука ещё прохладна,
И она ещё так жадно
В жизнь и счастье влюблена.
В морге млечный свет лежит
На серебряном глазете,
И за эту смерть в ответе
Совесть плачет и дрожит,
Тщетно силясь хоть чуть-чуть
Сдвинуть маску восковую
И огласку роковую
Жгучей солью захлестнуть.
«Меня всегда привлекают несчастные любови, не знаю почему. Я очень любил в детстве Тристана и Изольду. Такая трагическая любовь, чистота и наивность, уж очень всё это прелестно! Влюблённость - так это чувствуешь, словно тебя накачали шампанским. А любовь располагает к самопожертвованию. Неразделённая, несчастная любовь не так эгоистична, как счастливая; это - жертвенная любовь. Нам так дороги воспоминания об утраченной любви, о том, что было дорого когда-то, потому что всякая любовь оказывает влияние на человека, потому что в конце концов оказывается, что и в этом была заключена какая-то порция добра. Надо ли стараться забыть несчастную любовь? Нет, нет… Это мучение - вспоминать, но оно делает человека добрей…» (Арсений Тарковский).
Чего ты не делала только,
чтоб видеться тайно со мною,
Тебе не сиделось, должно быть,
за Камой в дому невысоком,
Ты под ноги стлалась травою,
уж так шелестела весною,
Что боязно было: шагнёшь -
и заденешь тебя ненароком.
Кукушкой в лесу притаилась
и так куковала, что люди
Завидовать стали: ну вот,
Ярославна твоя прилетела!
И если я бабочку видел,
когда и подумать о чуде
Безумием было, я знал:
ты взглянуть на меня захотела.
А эти павлиньи глазки -
там лазори по капельке было
На каждом крыле, и светились…
Я, может быть, со свету сгину,
А ты не покинешь меня,
и твоя чудотворная сила
Травою оденет, цветами подарит
и камень, и глину.
И если к земле прикоснуться,
чешуйки все в радугах. Надо
Ослепнуть, чтоб имя твоё
не прочесть на ступеньках и сводах
Хором этих нежно-зелёных.
Вот верности женской засада:
Ты за ночь построила город
и мне приготовила отдых.
А ива, что ты посадила
в краю, где вовек не бывала?
Тебе до рожденья могли
терпеливые ветви присниться;
Качалась она, подрастая,
и соки земли принимала.
За ивой твоей довелось мне,
за ивой от смерти укрыться.
С тех пор не дивлюсь я, что гибель
обходит меня стороною:
Я должен ладью отыскать,
плыть и плыть и, замучась, причалить.
Увидеть такою тебя,
чтобы вечно была ты со мною
И крыл твоих, глаз твоих,
губ твоих, рук - никогда не печалить.
Приснись мне, приснись мне, приснись,
приснись мне ещё хоть однажды.
Война меня потчует солью,
а ты этой соли не трогай.
Нет горечи горше, и горло моё
пересохло от жажды.
Дай пить. Напои меня. Дай мне воды
хоть глоток, хоть немного.
В 1945 г. поэт по направлению СП едет в творческую командировку в Грузию для работы над переводами грузинских поэтов. В Тбилиси он знакомится с поэтами, писателями, актёрами. Этот период в жизни Тарковского в связи с некоторыми его стихотворениями сопровождается множеством любопытных рассказов о прекрасных грузинках. С Тбилиси связаны и воспоминания о некой прекрасной Кетеване, жившей в домике у подножия Мтацминды. Пылко любил он и Нату Вачнадзе. Однажды в писательском ресторане Ната проходила мимо столика, за которым сидел Тарковский. Арсений Александрович успел сказать: «У меня есть мечта идиота, что вы со мной немного посидите». Через некоторое время они решили пожениться. Наверное, это была бы самая красивая пара XX в. Специально для того, чтобы выйти замуж за Тарковского, Ната приезжала в Москву. Но история вышла не менее смешная, чем грустная. У поэта были единственные приличные брюки, и предыдущая жена, развод с которой был решён и которая знала о намерениях Тарковского, спешившего на свидание, вызвалась эти брюки выгладить. Положила на них раскалённый утюг, и он провалился сквозь брюки. Имелись ещё потешные короткие брючки, в которых никак нельзя было идти к Нате. Арсений Александрович надел их и, удручённый, поплёлся к соседям, где познакомился с Татьяной Алексеевной, которая и стала его последней женой. Много лет спустя в гостях у Арсения Александровича были молодые грузинские кинорежиссёры, друзья Андрея, и вдруг по глазам он угадал в одном из них сына Наты Вачнадзе. Вот ещё одно «свидетельство»: В Тбилиси Арсений Александрович встречается с молодой женщиной - известно лишь её имя - Кетевана, посвящает ей стихи. Родители Кетеваны возражают против возможного союза их дочери с приезжим поэтом.
Мне твой город нерусский
Всё ещё незнаком, -
Клён под мелким дождём,
Переулок твой узкий,
Под холодным дождём
Слишком яркие фары,
Бесприютные пары
В переулке твоём,
По крутым тротуарам
Бесконечный подъём.
Затерялся твой дом
В этом городе старом.
Бесконечный подъём,
Бесконечные спуски,
Разговор не по-русски
У меня за плечом.
Сеет дождь из тумана,
Капли падают с крыш.
Ты, наверное, спишь,
В белом спишь, Кетевана?
В переулке твоём
В этот час непогожий
Я - случайный прохожий
Под холодным дождём,
В этот час непогожий,
В час, покорный судьбе,
На тоску по тебе
Чем-то страшно похожий.

Ты, что бабочкой чёрной и белой,
Не по-нашему дико и смело
И в моё залетела жильё,
Не колдуй надо мною, не делай
Горше горького сердце моё.
Чернота, окрылённая светом,
Та же чёрная верность обетам
И платок, ниспадающий с плеч.
А ещё в трепетании этом
Тот же яд и нерусская речь.
В 1948-м г. Тарковский едет в Туркменистан для работы над переводами классика туркменской литературы Махтумкули и каракалпакской эпической поэмы «Сорок девушек». Его секретарь - Т.Озерская. Первый ее муж - Н.В. Студенецкий, был журналистом. В 1940-м году у них родился сын Алексей. С Тарковским она познакомилась ещё во время войны, когда после госпиталя он приехал в дом творчества в Переделкино. В конце 1950-го Тарковский развёлся с А.Бохоновой и 26 января 1951-го года женился в 3-й раз на Т.Озерской.

Вечерний, сизокрылый,
Благословенный свет!
Я словно из могилы
Смотрю тебе вослед.
Благодарю за каждый
Глоток воды живой,
В часы последней жажды
Подаренный тобой.
За каждое движенье
Твоих прохладных рук,
За то, что утешенья
Не нахожу вокруг.
За то, что ты надежды
Уводишь, уходя,
И ткань твоей одежды
Из ветра и дождя.

Мало ли на свете
Мне дано чужого, -
Не пред всем в ответе
Музыка и слово.
А напев случайный,
А стихи - на что мне?
Жить без глупой тайны
Легче и бездомной.
И какая малость
От неё осталась, -
Разве только жалость,
Чтобы сердце сжалось,
Да ещё привычка
Говорить с собою,
Спор да перекличка
Памяти с судьбою…

Он у реки сидел на камыше,
Накошенном крестьянами на крыши,
И тихо было там, а на душе
Ещё того спокойнее и тише.
И сапоги он скинул. И когда
Он в воду ноги опустил, вода
Заговорила с ним, не понимая,
Что он не знает языка её.
Он думал, что вода - глухонемая
И бессловесно сонных рыб жильё,
Что реют над водою коромысла
И ловят комаров или слепней,
Что хочешь мыться - мойся, хочешь - пей,
И что в воде другого нету смысла.
И вправду чуден был язык воды,
Рассказ какой-то про одно и то же,
На свет звезды, на беглый блеск слюды,
На предсказание беды похожий.
И что-то было в ней от детских лет,
От непривычки мерить жизнь годами
И от того, чему названья нет,
Что по ночам приходит перед снами,
От грозного, как в ранние года,
Растительного самоощущенья.
Вот какова была в тот день вода
И речь её - без смысла и значенья.
В 2007 г. исполнилось 100 лет со дня рождения А.А. Тарковского и 75 - со дня рождения Андрея Тарковского.

Свиданий наших каждое мгновенье,
Мы праздновали, как богоявленье,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.
Когда настала ночь, была мне милость
Дарована, алтарные врата
Отворены, и в темноте светилась
И медленно клонилась нагота,
И, просыпаясь: «Будь благословенна!» -
Я говорил и знал, что дерзновенно
Мое благословенье: ты спала,
И тронуть веки синевой вселенной
К тебе сирень тянулась со стола,
И синевою тронутые веки
Спокойны были, и рука тепла.
А в хрустале пульсировали реки,
Дымились горы, брезжили моря,
И ты держала сферу на ладони
Хрустальную, и ты спала на троне,
И - Боже правый! - ты была моя.
Ты пробудилась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полнозвучной силой
Наполнилась, и слово ты раскрыло
Свой новый смысл и означало: царь.
На свете всё преобразилось, даже
Простые вещи - таз, кувшин, - когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твёрдая вода.
Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы поднимались по реке,
И небо развернулось пред глазами…
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.
http://www.vilavi.ru/sud/190108/190108.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 17 Июн 2014, 22:04 | Сообщение # 20 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | ФЕДОР СУХОВ
(14.03. 1922 - 05.01. 1992)

Русский поэт, писатель, член СП СССР, лауреат премии им А.Фадеева 1971 г. за лучшее произведение о Великой Отечественной войне.
«А я - уже не я. Я только тень, я эхо…». Эта строчка взята из стихотворения Ф.Г. Сухова - полузабытого ныне русского поэта второй половины XX в, одного из многих незаслуженно ныне забытых и полузабытых. Да и при жизни своей он не был особенно известен - людской известностью, но он был поэт - поэт милостью Божией.
Из его письма И.Данилову, 3 августа 1970 г.: Вот и опять я в Осёлке, сижу уже второй месяц. Ничего такого не высидел, потому что больше двигаюсь, хожу по полям, по лугам, слушаю, как говорят между собой ромашки, колокольчики; они говорят своими запахами, сейчас особо слышно говорит полынь. В августе она всегда слышно и очень громко говорит. Шут бы с ней, если бы говорила сама с собой, но нет же, старается завести разговор со мной, дескать, что ты вообще из себя представляешь, стишки сочиняешь, да ведь этим делом занимаются мальчишки, а ты-то… Горько мне за тебя… Вот есть такое расхожее выражение: «женщина, которая поёт». Сказать про Фёдора Сухова, что-де был это человек, «который писал стихи», - сказать так было бы, наверное, не совсем точно. Потому что для Фёдора Сухова поэзия и была, собственно говоря, его настоящей жизнью, вне которой ему было и неуютно, и нелегко.
… И все-таки не дождь, не леденящий ветер,
Я сам себя виню тягчайшею виной:
Я слишком рано услыхал себя, заметил,
Но слишком поздно становлюсь самим собой.
А я - уже не я. Я только тень, я эхо
Бегущей по полю, гудящей колеи,
Я - память жившего когда-то человека
В моей измученной бессонницей крови.
Воспоминания о Сухове его однокашника по Литинституту и его друга по жизни - К.Ковальджи: Фёдор Григорьевич в то летнее утро 1954-го года грустил -кончилась еще одна полоса жизни, и впереди была неизвестность. Мы разъезжались после выпускного вечера, мы уже не студенты Литинститута. Он написал мне на листке бумаги:
Давай немного подождем,
А то приятного немного -
С рассветом топать под дождем
Хоть и знакомою дорогой,
Спешишь? Не хочешь? Ну, так что ж,
Ты, может, прав, мой друг любезный:
Вся наша жизнь - такой же дождь,
И ждать чего-то бесполезно.
04.07.1954.
Более полстолетия прошло с тех пор. В 1992 г ему исполнилось бы 70 лет, но он не дожил - умер в начале января. Его единственной всепоглощающей любовью была поэзия. Ни к быту, ни вещам, ни к карьере у него не было ни малейшего интереса. Мог целое лето жить затворником в своем селе Красный Осёлок, питаться одними яблоками и писать стихи. Сухов рядовым пошел на войну - мучительно осмысливал Победу - что случилось после нее, чья она? Мужественно порвал с иллюзиями, ложью, доверял только друзьям и стихам, преклонялся только перед Творцом и Россией… Жил трудно, под стать времени, заглушал свою боль водкой - казалось, совсем пропадёт, но победил еще раз, сумел вырваться из проклятой зависимости. Он оставил много самобытных стихотворений, достойных памяти и внимания современников и потомков. Еще на 1 курсе Литинститута, в 1949 г. написал стихотворение «Мать», ставшее антологическим:
Увидела. Припомнила. Узнала.
- Надолго ли?
- Да с месяц поживу.
- А мой Володька… -
И не удержала горючих слёз -
Упали на траву.
Ну что сказать ей? Ничего не скажешь.
С опущенной стою я головой.
Как будто без оружия, без каски
Позорно убежал с передовой.
И в самом деле, по весне, по маю
В черёмуховой белой тишине
Который раз домой я приезжаю,
А сын её всё где-то на войне…
9 мая 1974 г. после встречи с ним в Москве я записал: День Победы, а Федя Сухов в рот не берет. Более того- два месяца не курит. Он оказался способным к глубокому и сильному нравственному развитию. Лет 20 назад (!) трудно было подумать, что он не сопьется. Хотя и чувствовалось, что этот забулдыга - хитроватый мужичок, себе на уме. Пил, придуривался, а между тем подспудно выпрямлялся и рос как личность. Перешагнув рубеж пятидесятилетия, стал тверже и крепче, чем когда-либо. Он, конечно, поэт. Не знаю, сможет ли он стать видным поэтом (для этого ему чего-то не хватает), но что он на упрямом подъеме - факт.
…Боже мой, сколько с тех пор воды утекло! Феди давно уж нет на свете. К его 75-летию я написал несколько слов о нем в «Литературную газету», но А.Латынина не проявила интереса - Федя в этой газете тогда не котировался. Да и вообще его имя, к сожалению, отходит в область забвения. Моя оценка в старой записи верна. Федя к тому времени уже написал, что
…купленная ранами Победа -
она моею вовсе не была.
Ф.Сухов на фронте вступил в партию, но в глубине души держался христианских убеждений. На мой вопрос - убивал ли он на войне - сообщил мне по секрету, что - нет, лично не убивал.
- Как же так? - удивился я.
- Я служил в артиллерийском взводе. Не знаешь, куда снаряд попадет…
- А приходилось стрелять из винтовки в людей?
- Приходилось. Тогда я стрелял, не целясь, стрелял, как все, со всеми, но старался не в людей…
Как хотите судите такого солдата (будущего поэта), но он нашел собственное (личное, тайное) решение в неразрешимом конфликте между войной и заповедью «не убий». Более того, он рассказывал, что из Германии не привез никакого «трофея». Был уверен, что будет убит или ранен, если прихватит хоть что-нибудь чужое, пусть даже наручные часы… Он еще при Брежневе вышел из партии (его и так несколько раз пытались исключить), открыто обратился к Богу. Очень жалею, что уже в горбачевские времена мы не встретились. Как-то вдруг он позвонил, что находится в ЦДЛ, у него два часа свободных до поезда, давай, мол, подскочи, поболтаем…Я был чем-то занят да и слегка задетый тем, что заявившись в Москву, он не дал о себе знать раньше, сказал - перезвони через полчасика, может, вместе пойдем на вокзал… Он больше не позвонил. Потом каким-то боком прислонился к русофильской компании, выступил на бондаревском сьезде… От той невстречи осталось чувство вины и горечи.
После его смерти ко мне приходил нижегородский журналист - дескать, знаю вас как старого друга Фёдора Григорьевича. Я дал ему пространное интервью, было ли оно опубликовано - понятия не имею…Попытки «Литературной России» поставить Сухова в один ряд с Рубцовым успеха не имели. В отличие от Рубцова у Феди, к сожалению, почти нет читателя. Такое время. К тому же его поэтическое развитие шло в сторону утяжеления стиха, как бы от Есенина к Клюеву (от всенародного поэта к более кастовому). Недаром он в последние годы так резко отрицал Твардовского (не за простоту ли?). С женщинами был робок, стеснителен. Любовную лирику почти не писал, а если писал, то как-то не по-мужски:
Прикоснись к моим губам губами,
Милая, мне в душу загляни…
Нашел зазнобу в Переделкине, однако заявляся к ней только выпив для храбрости. Потом на ней женился и завел пятерых детей… Бросив пить, тем не менее любил застолье, приезжая в Москву, собирал друзей в ЦДЛ, угощал водкой, а сам прихлебывал только минеральную воду. Но при этом как бы пьянел вместе со всеми. Глаза соловели, язык начинал заплетаться, он явно заражался от собутыльников, переживал своеобразный кайф…Относился к себе небрежно, можно сказать, был неопрятен. Забегая вперед, скажу, что однажды, когда он ночевал у меня и перед сном захотел почитать, вдруг стал жаловаться, что совсем испортились глаза. Гляжу - его очки так засалены, что стали совершенно матовыми. Нина, моя жена, их отмыла, Федя возрадовался, как ребенок - все видно! Недели через две он возвращался домой через Москву - очки опять были немилосердно затерты пальцами…
Однако Федя был чрезвычайно чистоплотен, когда дело касалось стихов. Он не терпел ни малейшей помарки. Напишет строку, исправит и тут же перевернет страницу тетради, начинает заново, опять поправит, опять перевернет страницу, начнет заново и так - пока не допишет стихотворение. Тетрадь можно было пролистывать так, что стихи складывались на глазах, как в мультипликации. Читал стихи Федя, зажав ладони между колен, закрыв глаза, раскачиваясь в такт и упоенно подвывая. Почти пел:
Озорная и непонятная,
Мимолетная, как видение,
И такая невероятная
И любезная до заблуждения…
Поэзия была для него особой областью, куда он жизнь свою не впускал. То есть он вступал в область поэзии, как в горницу или даже храм. Характерно, что перед сочинением стихов он себя настраивал. Лежа в постели бормотал, читал на память стихи Блока, Есенина, Корнилова. Так продолжалось довольно долго, потом начинали выскакивать его собственные строки. Однажды ночью в общежитии мне не спалось и я был свидетелем рождения стихотворения, он часами выборматывал строку за строкой, строфу за строфой - от начала и до конца. Конечно, я запомнил эти стихи. Утром я стал его будить: - Федя, проснись, я написал стихи! Он отбрыкивался: -Дай поспать!
Я все-таки растормошил его и прочитал его же собственные стихи, которые, естественно, еще не были записаны. Он вытаращил глаза и замотал головой, не сошел ли с ума? Не сразу догадался в чем дело. Я к стихам относился иначе. Записывал кое-как, потому что всё равно все помнил. Набело перепечатывал только на машинке.
Сухов Фёдор Григорьевич. Краткие сведения
Родился в селе Красный Осёлок Нижегородской губернии. В 18 лет ушел на фронт, в 1943-м командовал противотанковым взводом под Курском. Сразу после Победы был некоторое время комендантом городка в Силезии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За отвагу». Первые стихи появились в 1944 году во фронтовой газете. После войны вернулся в родное село и стал работать в колхозе. Поступил в Литинститут им. Горького (1949). Работал журналистом в Сталинграде. Автор более 20-ти книг стихотворений и поэм. Жил в Нижнем Новгороде. Лауреат Госпремии РСФСР.
В 2007 г. в интернет-журнале «Солнечный ветер» появилась статья Паломы под названием «Она была полька, и звали ее Алисой…». В ней шла речь о поэтическом цикле И.Сельвинского «Алиса». Автор статьи установила, что стихи обращены к Алиции Жуковской, которая была студенткой Литинститута в 1950-1951 гг. И что о ней же написал рассказ «Встреча» В.Солоухин, и стихотворение - я. Всё так и даже больше. Я немедленно откликнулся, рассказал, что знаю об Алиции, присовокупил её фотографии. И вот недавно, перечитывая письма Фёдора, я обнаружил и ряд его стихотворений, посвященных той же Алиции.

Я помнил, что и он был в неё влюблен, но о стихах забыл. И теперь не знаю - были ли они опубликованы. Скорей всего, - нет. Потому воспроизвожу их по рукописи, приложенной к письму. Я пытался эти стихи напечатать в «Юности», даже что-то напрасно сокращал и правил, всё равно не удалось…Цикл озаглавлен:
ИЗ ДАВНИХ ПИСЕМ
Алисе
1.
Я с тобой повстречался, Алиса,
Повстречался
и - распрощался.
Над Москвой, над моею столицей
Снегириный рассвет намечался.
И снежок чистоты непорочной,
Осторожно к земле припадая,
Всё валил, всё валил, как нарочно,
Нашей встречи следы заметая.
Остужая твои землянично,
Ежевично манящие губы,
Запьяневшие той необычной
Страстью, всё не идущей на убыль.
Глубока и неистово жгуча
Эта страсть неуёмная, эта,
Над речной наклоненная кручей,
Знойной жаждой дышащее лето.
И уж чья тут вина - не моя ли? -
Распрощался с тобой я, Алиса,
И теперь за какими морями
Ты на снег, на зиму мою злишься?
Неужели всё злишься? Не злишься,
И не сердишься, знаешь сама -
Только палые, блёклые листья
Так легко заметает зима.
Да и нет её, этой скрипучей,
Этой жгучей, трескучей зимы,
Под высокой серебряной тучей
Началось обновленье земли.
Наших душ началось обновленье,
Не с того ль, родниково звеня,
Осенило меня вдохновенье,
Вдруг пошло лихорадить меня.
Сразу за душу взяло, за сердце,
А оно, моё сердце, оно,
Не желает оно, моё сердце,
Чтобы я поудобней уселся
Да смотрел вдохновенно в окно.
На простор бы ему, на широкий,
Всё равно - луговой ли, степной,
Подышать, ну хотя бы осокой
Под какой-то забытой копной.
Ну хотя бы крапивой обжечься,
Как когда-то оно обожглось
О твое своенравное сердце,
И как в годы далёкого детства,
Не смогло удержаться от слёз…
2.
Я такой, как есть! Не хочу,
Не могу на кого-то молиться.
Ожидаю с улыбкой грозу,
Всё кощунствую, всё я грешу,
Ты пойми меня верно, Алиса.
И прости меня. Мало ли что
И с тобой, и со мною случалось.
Всё ж не стал я той блёклой листвой,
Что так жалко к ногам твоим жалась.
Только вот, как в поникшей траве,
В час рассвета, когда я проснулся,
И к душе моей, и к голове
Лёгкий заморозок прикоснулся.
Да и это не так велико,
Не такое уж страшное горе!
Лишь бы сердце дышало легко,
Никогда не просило покоя.
Чтоб всё время просило оно,
Неотложного жаждало дела,
Как высокое чьё-то окно,
На высокое небо глядело.
3.
Ты была в Волгограде? Была.
Но давно - лет двенадцать назад.
Сверху вниз лебедино плыла
Мимо Лыскова, мимо Исад.
Мимо яблочной, мимо моей,
Навсегда дорогой стороны,
Где и небо как будто ясней
И светлее девчоночьи сны.
Ты смотрела. Глазами пила
Это небо, его синеву.
Персиянкой, княжною была
В этот час не во сне - наяву.
Только не на челне расписном,
Не на быстром стружке ты была, -
На обычном, привычном, речном
Пароходе раздольно пыла.
И никто не посмел, чтоб тебя
Молодую, живую княжну,
Безраздельно, жестоко любя,
В набежавшую бросить волну.
А волна, как хотела она
Породниться с княжной молодой,
Но была молодая княжна,
Не моею любовью хмельна,
Не моею пьяна резедой.
Примечание: нет даты. Судя по тому, что Сталинград - уже Волгоград и по упомянутой надежде на «обновление», стихи написаны после XXI съезда и выноса Сталина из Мавзолея, то есть поздней осенью 1961 г. Кстати, в начале года я получил от Феди следующее письмо:
Дорогой Кирилл!
Очень жалко, что мы так мало поговорили. Москва - суматошный город, всегда что-то мешает. Вероятно, в марте я снова буду в Москве, надеюсь, мы опять встретимся и тогда уже по-настоящему поговорим. Насчёт Евтушенки ты прав, я возражал тебе только из-за таённого где-то самолюбия. На душе муторно Всё безалаберно как-то. Удручающе. Столько материала, сколько гоголевских тем, но ничего не сделаешь. Гоголь, Гоголь, он бы захлебнулся от обилия фактов, которые не снились никакому Хлестакову или Чичикову. А Богом избранный певец молчит, потупив очи долу, а хочется что-то сказать. Ну, ладно. Знаешь, напиши мне адрес Алисы. Мне это нужно. Возможно, я съезжу в Польшу. Или - приглашу её в Сталинград, на Волгу. Привет твоей чудесной жене и сыну.
Твой Фёдор С. 22.01.61 Сталинград
И Сухов всё-таки сказал. Вот одно из его последних стихотворений (опять же - не знаю, опубликовано ли оно), привожу по рукописи:
Преисподнего царства страшилище,
Зверя дивьего цепкие лапища, -
Как из ада я, как из узилища,
Уходил из зловонного капища.
Удалялся от Маркса, от Ленина,
От всесветного столпотворения,
От единственного верного мнения,
От его высочайшего тления.
От затменья мой посох утопывал,
Постигая иное учение,
Ожидая - о нет, не Андропова -
Покаяния и очищения.
Удаленья от дикого ужаса,
Всюду ужасы, ужасы, ужасы…
Дождевая пузырится лужица
Посреди обезлюдившей улицы.
А когда свечереет, покажется
Боковина ущербного месяца,
И ветла. Под ветлою коряжистой
Водяная сутулится мельница.
Сколько косточек перемолола
На проворном крутящемся камене!
Потому покаянное слово
В отдалённоё кручинится храмине.
В росяном оглашается ладане,
Возвышается в будничной рощице,
Умиляет мой Китеж, мой Радонеж,
В соловьином блукает урочище.
05.03. 1991, Нижний Новгород
http://www.vilavi.ru/sud/140608/140608.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 20 Авг 2014, 20:37 | Сообщение # 21 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | «Мне милее и дороже человека нигде не сыскать…»
ЮЛИЯ ДРУНИНА
(10.95. 1924 - 21.11. 1991)

17 января 2005 г. на т/к "Россия" состоялась премьера док. фильма «Последняя осень Юлии Друниной». Мой рассказ сложился под впечатлением от увиденного…
Теперь не умирают от любви -
насмешливая трезвая эпоха.
Лишь падает гемоглобин в крови,
лишь без причины человеку плохо.
Теперь не умирают от любви -
лишь сердце что-то барахлит ночами.
Но «неотложку», мама, не зови,
врачи пожмут беспомощно плечами:
«Теперь не умирают от любви…»
Из интервью с Эльдаром Рязановым:
- А была ли история любви, которая вас потрясла?
- Да, конечно. Это история любви А.Каплера и Ю.Друниной. У меня были свои счёты к Каплеру, он ни разу не позвал меня в свою «Кинопанораму», хотя я снял неплохие фильмы к тому времени. На премьере «Иронии судьбы», когда весь зал смеялся, вздыхал, плакал, Каплер и Друнина в середине фильма встали и ушли. Так что я не любил его, не любил Друнину, которая была одним из руководителей СП, сидела в президиумах. Но для меня, когда я узнал историю их жизни, стало принципиальным сделать картину о любви. Это была история Ромео и Джульетты, уже немолодых, но абсолютно прекрасных… Они познакомились на сценарных курсах при Союзе кинематографистов в 1954 г. - Друниной было 30, а Каплеру 50. А в 1960 г. она расстаётся с Н.Старшиновым, прожив в браке 15 лет. Они расстались, сумев, несмотря ни на что, остаться друзьями.
А. К.
Я люблю тебя злого, в азарте работы,
В дни, когда ты от грешного мира далёк…
Я люблю тебя доброго, в праздничный вечер,…
Заводилой, душою стола, тамадой…
Поседевшим, уверенным, яростным, юным…
Я люблю тебя всякого…
Отныне самым близким для Друниной и самым родным человеком, её судьбой и опорой становится А.Я. Каплер.
А всё равно
Меня счастливей нету,
Хотя, быть может,
Завтра удавлюсь…
Я никогда
Не налагала вето
На счастье,
На отчаянье,
На грусть.
Я ни на что
Не налагала вето,
Я никогда от боли не кричу.
Пока живу - борюсь.
Меня счастливей нету,
Меня задуть
Не смогут, как свечу.
Вот об этой погасшей свече, об её счастье и об её отчаянии и будет мой рассказ.
Ю.Друнина, поэт-фронтовик, секретарь СП, член многих редколлегий, депутат Верховного Совета… просто красивая женщина. В 2004 г. ей бы исполнилось 80.
Я только раз видала рукопашный,
Раз - наяву и тысячу - во сне.
Кто говорит,
что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Именно эти строки принесли ей самую большую известность. Она была очень разная - Юлечка, как называли её близкие друзья. Очень-очень мужественная - и на фронте, куда пошла добровольно, а потом вернулась после ранения, едва не стоившего ей жизни, и тогда, когда принимала последнее в своей жизни решение. Бескомпромис -
сная, смешная, наивная, трогательная… Н.Старшинова, поэта, своего первого мужа, она накормила вместо супа водой, в которой мать варила картошку в мундире, с остатками картофельной шелухи. Было тяжёлое послевоенное время, когда ели, не разбирая вкуса, и Юля подумала, что это грибной суп. Николаю, тем не менее, понравилась пересоленная еда, и только через 15 лет, когда они развелись и пошли после суда в ресторан - обмыть эту процедуру, она призналась в ошибке. Красивая девушка мечтала «сменить шинель на платьице», но ещё несколько лет ходила в шинели и гимнастёрке, потому что не было денег на наряды. Это потом Марк Соболь скажет Юле об её втором муже, А.Каплере: «Он стянул с тебя солдатские сапоги и переобул в хрустальные туфельки».
В Верховный Совет Юлия Друнина пошла, чтобы защитить армию, которую начали оплёвывать. Не имея сил защитить идеалы своего поколения, поняв, что ничего существенного для своих боевых товарищей она сделать не может, она перестала ходить на его заседания, а потом и вышла из депутатского корпуса. В августе 1991 г. вместе с другими россиянами защищала Белый дом, а через 3 месяца, 20 ноября, ушла из жизни добровольно. Н.Старшинов считал, что уйти она хотела не старой и беспомощной, а здоровой, сильной и красивой. Наверняка в его памяти всё ещё жила юная 20-я Юлечка. Такой он её запомнил и поэтому объяснял её добровольный уход из жизни чисто женскими мотивами: Я знаю, что А.Каплер относился к Юле очень трогательно - заменил ей и мамку, и няньку, и отца. Все заботы по быту брал на себя. Но после смерти Каплера, лишившись его опеки, она, по-моему, оказалась в растерянности… Вообще она не вписывалась в наступавшее прагматическое время, она стала старомодной со своим романтическим характером. Наверное, и в этом была одна из причин. Но как объяснить тогда записку на входной двери дачи, обращённую к зятю: «Андрюша, не пугайся. Вызови милицию, и вскройте гараж»? (В гараже она отравилась выхлопными газами автомобиля). Это слова очень мужественного человека!
… Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно только имея крепкий личный тыл, я к тому же потеряла два своих главных посоха - ненормальную любовь к старокрымским лесам и потребность «творить». Оно и лучше уйти физически не разрушенной, душевно не состарившейся, по своей воле. Правда, мучает мысль о грехе самоубийства, хотя я, увы, не верующая. Но если Бог есть, он поймет меня. (20.11.91) Из стихотворения «Судный час»:
… Ухожу, нету сил.
Лишь издали
(Всё ж крещёная!)
Помолюсь
За таких вот, как вы, -
За избранных
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!
«Средь них пострадавший от Сталина Каплер…»
А.Каплер родился в сентябре 1904 г. в Киеве, на Подоле. Революция, гражданская война, и одновременно страстное увлечение театром. В ближайших друзьях - С.Юткевич и Г.Козинцев, будущие корифеи советского кинематографа.
Киев, Петроград, потом Одесса… Каплер возвращается в Киев и становится режиссером двух фильмов - «Право на женщину» (1930) и «Шахта 12-28» (1931), которые так на экран и не вышли, поскольку оба были запрещены. Но впоследствии Каплер не раз говорил о том, что украинская школа операторского искусства - одна из лучших в мире… Он автор сценариев многих известных фильмов, в том числе «Три товарища», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия». Но настоящий успех ему принесло участие в создании фильмов М.Ромма «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» - с Б.Щукиным в роли Ленина. Люди постарше должны помнить знаменитую телевизионную «Кинопанораму» и её ведущего - А.Каплера. Его популярность была воистину грандиозна - «Кинопанораму» смотрели все. Однажды Каплер запнулся, попытался что-то вспомнить, но сразу не смог. «Погодите минутку, - обратился он к зрителям, - я сейчас вспомню…». Так и сидел, помешивая ложечкой чай, молчал… Он мог себе это позволить - настоящий артист, любимец всех советских людей. Не меньшую известность он получил и своим романом со С.Аллилуевой, дочкой самого Сталина. На снимке - маленькая «советская принцесса» на коленях у доброго дяди Лаврентия.

История их взаимоотношений представляет немалый интерес и сама по себе. Через много лет в своих воспоминаниях, озаглавленных «Двадцать писем к другу» - рассказала о романе с Каплером сама Аллилуева:

… В ту же зиму 1942-43 года я познакомилась с человеком, из-за которого навсегда испортились мои отношения с отцом, с А.Я. Каплером. Всего лишь какие-то считанные часы провели мы вместе зимой 1942-43 года, да потом, через 11 лет, такие же считанные часы в 1956 г. - вот и всё… Мимолётные встречи сорокалетнего человека с «гимназисткой» и недолгое их продолжение потом…В первый момент мы оба, кажется, не произвели друг на друга никакого впечатления. Нас потянуло друг к другу неудержимо… Люся приходил к моей школе и стоял в подъезде соседнего дома, наблюдая за мной. А у меня радостно сжималось сердце, так как я знала, что он там… Люся был для меня тогда самым умным, самым добрым и прекрасным человеком. От него шли свет и очарование знаний. Он раскрывал мне мир искусства - незнакомый, неизведанный…Каплер возвратился из Сталинграда под Новый, 1943 г.. Вскоре мы встретились, и я его умоляла только об одном: больше не видеться и не звонить друг другу. Я чувствовала, что всё это может кончиться ужасно.Тучи сгущались над нами, мы чувствовали это. В последний день февраля был мой день рождения, мне исполнилось тогда 17 лет. А на следующий день, 2-го марта, когда он уже собрался ехать, пришли к нему домой двое и попросили следовать за ними. И поехали они все на Лубянку… Люсю обыскали, объявили ему, что он арестован. Мотивы - связи с иностранцами. Обо мне, разумеется, не было произнесено ни одного слова. Так началась для него иная жизнь, которая продолжалась для него, начиная с этого дня, десять лет…В июле 1953 г., ему сказали: «Вы свободны. Можете идти домой. Какой ваш адрес? Куда бы вы хотели позвонить?». А ещё через год, на II-м Съезде СП в Кремле, в залитом огнями Георгиевском зале я встречаю Люсю - через 11 лет после того, как мы виделись в последний раз…
Итак, 10 лет… Срок по меркам того времени, разумеется, не слишком большой. Интересный нюанс: Л.Агранович, навестивший Каплера в заключении, рассказывает:

Это мы с Каплером читаем газету «Культура и жизнь» с постановлением о Зощенко и Ахматовой. Впрочем, нижняя половина этого снимка, на котором вся эта хреновина отчётливо читалась, аккуратно отрезана - сказался зэковский опыт Каплера. На снимке был отчётливо виден заголовок. А это между тем номер нового органа ЦК партии.

В посёлке Старый Крым на кладбище есть две парные могилы. В одной из них похоронены А.Грин и его жена, в другой А.Каплер и Ю.Друнина. Здесь и в Коктебеле они бывали и вместе, и отдельно. В 1979 г., когда Каплер умер, он был похоронен, согласно его воле, на кладбище Старого Крыма. Вот лишь несколько строк из поэмы Ю.Друниной под названием «Ноль три», посвящённой его памяти:
Люди плакали, медь рыдала,
Полутьма вытесняла свет.
По дороге лишь я видала
Удалявшийся силуэт.
Есть основания предполагать, что о своём возможном добровольном уходе из жизни Юлия Владимировна думала не менее года, а на чёрной мраморной плите, рядом с именем мужа, было оставлено место и для её имени.
Старый Крым - последняя
обитель. Чёрный камень -
всё как в страшном сне…
Не судите, люди, не судите:
Здесь лежать положено и мне.
Каплер любил женщин, а они любили его, и романов у него было предостаточно. Он красиво ухаживал за женщинами, даже при самых, казалось бы, не подходящих для этого обстоятельствах. Но Друнина стала его последней и самой большой любовью. Они прожили вместе четверть века, но любили друг друга так, будто встретились вчера, и надолго расставаться просто не могли. А это строчки бесчисленных телеграмм, которые Алексей присылал ей, когда они расставались: «Прошу считать эту телеграмму формальным объяснением в любви с просьбой вашей руки, а если возможно, то и сердца. Давай с самого начала, согласен вздыхать и крутиться вокруг. Один полуинтеллигент».
«Сидел дома, занимался, и вот меня выстрелило срочно бежать на телеграф, сказать, что я тебя люблю, может быть, ты не знаешь или забыла. Один тип»
«Планерское. Дом творчества, Друниной. Уже третий час ночи. Уже уложил вещи. Есть потребность признаться, что очень тебя люблю, моя бесконечно дорогая. Опять Каплер»
«Джанкой поезд тридцать первый вышедший Москвы двадцать четвертого декабря вагон тринадцатый место двадцать пятое пассажиру Друниной доброе утро Каплер».
И из письма, когда Каплеру было уже больше семидесяти: Пойми, моя такая дорогая, - я еще «развивающаяся страна» - и буду возле тебя становиться лучше, бережнее к тебе, к нашей любви… ты - мой дом на земле.

Ты - рядом, и всё прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.
Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любый,
За то, что ты есть на свете.
Ты - рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить…
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!
http://www.vilavi.ru/prot/210106/210106.shtml
|
| |
| |
| Нина_Корначёва | Дата: Вторник, 02 Сен 2014, 00:22 | Сообщение # 22 |

Группа: Проверенные
Сообщений: 196
Статус: Offline | АЛЕКСАНДР АРОНОВ
(30.08. 1934 - 19.10. 2001)

Есть тексты более важные, чем фронтовые сводки с полей Украины. Это стихи настоящего поэта - то есть дух и душа, записанные буквами. Многим кажется, будто танк и гаубица важнее, сильнее. Важно: кто убил, где и сколько (а почему и ради чего - потом когда-нибудь разберёмся)... Вроде бы известно: когда говорят пушки, музы молчат. Но на самом деле они не молчат; их просто не слышно; им нет места в новостях. А потом вдруг оказывается, что «синенький скромный платочек» не уступает грандиозному маршу «Вставай, страна огромная!».
...О нашей теперешней войне, где Украина просит Германию защитить её от России, - об этой войне не будет песен. Ни одной. Вот увидите.
Тихая «Тёмная ночь... и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь» и грохочущий «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь!» - появились одновременно. Одинокий голос человека, одинокая гитара и могучий орденоносный Краснознамённый хор, гигантский оркестр... Песенка жива и волнует по-прежнему, а гимн исчез, и союз нерушимый исчез.
Если русского человека - инженера, или санитара, или министра - спросить про величайшее сражение Отечественной войны 1812 г., то спрошенный начнёт бормотать: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» - стихи! А сколько там было гаубиц, сколько было убитых... Слова долговечнее могил. Где Эсхил? где Гомер? где Цветаева и Мандельштам? И даже если уцелела надгробная плита, то под ней давно прах, и если там кто и шевелится, то прапраправнуки червяков, которые... ну вы поняли. Тела исчезли, а старые слова нетленны. Сказал бы «как новые», но нельзя: слишком много чести для новых.
Александру Аронову 30 августа исполнилось бы 80. Сказать, что совсем забыт, ошибка. Правильнее сказать: неизвестен. Таланта Бог дал ему много, а славы судьба дала ему мало... Он чувствовал свою силу настолько, что решился - после Пушкина и Лермонтова - написать третьего «Пророка»; прямое продолжение двух первых. Форму нашёл гениальную. Первые шесть строк отражаются в центральной нейтральной строке, как в зеркале. И смысл слов - тех же самых! - меняется на противоположный! Это волшебство. А «зеркальная строка» - единственная бесчувственная во всём стихотворении - холодная, настоящее зеркало.
Он жил без хлеба и пощады.
Но, в наше заходя село,
Встречал он, как само тепло,
Улыбки добрые и взгляды,
И много легче время шло;
А мы и вправду были рады...
Но вот - зеркальное стекло:
А мы и вправду были рады,
И много легче время шло;
Улыбки добрые и взгляды
Встречал он, как само тепло,
Но, в наше заходя село,
Он жил без хлеба и пощады.
Пророки Пушкина и Лермонтова рассказывают о себе. О том, что с ними случилось. «Пророк» Аронова принципиально иной. Мы слышим не гневную или горькую жалобу пророка, а глас народа: «А мы и вправду были рады...» Да уж. Очень были рады. Улыбались, ласково глядели, камнями не швырялись. «Но, в наше заходя село, он жил без хлеба и пощады». Аронов в своём «Пророке» сказал о нас больше, чем Пушкин и Лермонтов в своих. Хотя они великие, а он - никто. ...Степной волк - абсолютно свободен. Степь (в нашем понимании) - синоним бесконечности... Но поэты мыслят иначе, чем люди. Поэтам что-то открывается...
И нет свободы. И Волк в степи
Просто на самой большой цепи.
И когда он глядит в свою степь,
И садится выть на луну,
На что он жалуется - на цепь?
Или на её длину?
Вспомните свою жизнь и попробуйте перечитать вслух (тут всего-то шесть строк). Если повезёт, то вам покажется, что этот Волк - вы. Бог присутствует во многих его стихах. В советское время, тем более в советской комсомольской безбожной газете, это было нелегко. Аронов кое-как пытался притворяться атеистом.
А когда овладеет прямая тобой досада
И потщишься ты ныне исправить земное зло,
Трех святых, Михаила, Василия, Александра,
Помянув, принимайся за ремесло.
Сам насмешничал ты над ними, забудь про это.
Всё простили они, блаженные, - ты не враг.
Плоский век париков, камзолов и силуэтов
Не давал тебе заглянуть в их горестный зрак.
И что слово у них не всегда - ты забудь - звучало,
Что кривой сползала строка, не сладили с ней,
А зато у них там виднее твое начало,
А когда виднее начало, то суть ясней.
А работа твоя все та же, и вдох, и выдох,
Поднимай, не должен сей втуне валяться крест.
И уж коли Господь, которого нет, не выдаст,
То и чудище - обло, огромно, озорно, стозевно
и лаяй - не съест!
Что такое «Господь, которого нет»? «Которого нет» - это для цензора. «Напутствие» полно веры в Бога. Посмотрите на вторую строчку: И потщишься ты ныне исправить земное зло.
Это стопроцентное христианство. И третья строчка о святых - тоже религиозна.
Поднимай, не должен сей втуне валяться крест. Без Евангелия это вообще ребус. Само понятие «нести свой крест» не существует вне христианства. Сейчас, слава Богу, не то что прежде. Государство у нас теперь божественное. Теперь цензуры нет, свобода, но почему-то кажется, что оно по-прежнему стозевно. Сто! - это вам не патриархальный трёхголовый дракон (одна девушка в год). Сто! - и лаяй круглосуточно из каждого телевизора. Запихать такое чудище в одну строку - это надо уметь.
«Чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй» - именно эту зверскую строку поэта Тредиаковского Радищев поставил эпиграфом к «Путешествию из Петербурга в Москву», за которое был приговорён к смертной казни (милостиво заменили на 10 лет Сибири). А «Напутствие» по-прежнему точно: не бойся, не проси, работай. Тщетно? Это не нам решать. Аронов, глядя на наш безумный-безумный мир, придумал страну Мальбек. Населил её людьми, очень похожими на нас, землян. Но в отличие от нас и от нашей Госдумы, жители страны Мальбек придумывали себе законы, чтобы жизнь стала лучше. Ну хотя бы разумнее и добрее.
Потом они себе второй закон
На площадях прибили тёмной медью.
Ошибка, гнев, неправильный поклон,
В чём ты был дерзок, что нарушил он -
Всё одинаково каралось. Смертью.
Но не ввели ни плахи, ни меча,
Ни скопом не казня, ни в одиночку,
И у невидимого палача
Любой преступник получал отсрочку.
«Жесток иль слаб сего закона нрав?» -
Смущались поначалу души граждан.
«Так будет с каждым, кто бывал не прав...»
«Так будет с каждым, кто...» «Так будет с каждым...»
И дешевели старые долги,
И медленно яснеть как будто стало.
Всё вздор - вражда. Какие там враги?
Того, что все умрём, на всех хватало.
Почитайте это вслух всем, кто сходит сейчас с ума от кипящей ненависти. Может быть, ярость начнёт утихать, а чужие долги и грехи дешеветь. Зачем убивать, если и так все умрут?
«Предсказание» написано от имени (или, лучше сказать, «от лица») котёнка. «Они» - это мы, люди. «Он» - это хозяин, кормилец, благодетель. Но зверёк интуитивно догадывается, с какой породой имеет дело. А поэт переселяется душой и в пророка, и в волка, и в котёнка.
Они владеют колдовством двери,
Колдовством пищи, искусством игры.
Но мы всё равно не очень-то верим,
Когда они с нами нежны и добры.
Он счастлив, когда он приходит вечером
И видит, что меня не украл никто,
И прижимает меня, и шепчет,
Когда я вспрыгну к нему на пальто.
Но, если я соскочу с подоконника,
И убегу, и меня убьют,
Он себе заведёт другого котёнка,
Чтобы опять создавал уют.
Если вы когда-нибудь расстались с любимым человеком навсегда; если вы не забыли своё отчаяние и душевную боль, то внешне простенький стишок «Причина» будет вам понятен «как никому». Но если сейчас вы нетерпеливо ждёте счастливого свидания, то скорее всего пожмёте плечами: это вообще о чём?
Отчего твой автобус быстрей не бежит,
Если сердце твоё нетерпеньем дрожит?
Если за поворотом свиданье -
Разве грех сократить ожиданье?
Что, не в силах шофёр? Что, не тянет мотор?
Что, поймает ГАИ - обругает?
Всё на свете доступно... И ты до сих пор
Не поймёшь, что причина другая:
Здесь, в автобусе, едет и кто-то иной -
Понимаешь, такая досада,
У него расставанье стоит за спиной.
Надо медленней, медленней надо!
1 августа 1944-го началось знаменитое Варшавское восстание против фашистских оккупантов. Оно было окончательно разгромлено 2 октября. Два месяца немцы бомбили и жгли Варшаву, Советская Армия на помощь не пришла. ...В прошлом веке русский еврей Аронов в конце 1970-х написал стихи о середине 1940-х, а вы прочтёте их сейчас, в ХХI в., когда опять люди горят, а Россия опять стоит, выжидая.
Когда горело гетто, когда горело гетто,
Варшава изумлялась четыре дня подряд.
И было столько треска, и было столько света,
И люди говорили: «Клопы горят»...
...А через четверть века два мудрых человека
Сидели за бутылкой хорошего вина,
И говорил мне Януш, мыслитель и коллега:
- У русских перед Польшей есть своя вина!
Зачем вы в 45-м стояли перед Вислой?
Варшава погибает! Кто даст ей жить?!
А я ему: «Сначала силёнок было мало,
И выходило, с помощью нельзя спешить».
- Варшавское восстанье подавлено и смято!
Варшавское восстанье потоплено в крови!
Пусть лучше я погибну, чем дам погибнуть брату! -
С отличной дрожью в голосе сказал мой визави.
А я ему на это: «Когда горело гетто...
Когда горело гетто четыре дня подряд,
И было столько пепла, и было столько света...
И все вы говорили: «Клопы горят».
Аронов, добродушно улыбаясь, прочитал этот жёсткий беспощадный финал. И сказал: «Эх, ё-моё, я, конечно, знаю, что Варшавское восстание было в 44-м. Но никак 44-й в строчку не лез».
- Не горюй, Саша! Бог простит.
Каждый имеет право вести свою родословную откуда хочет. По большей части людям хочется найти в своём роду какого-нибудь аристократа. Найдёшь (или выдумаешь), например, барона и можешь писать перед своей фамилией «фон». Аронову к своей фамилии добавки были не нужны; она сама, по его мнению, говорила о древности рода. Аарон - тот самый, который работал переводчиком у своего косноязычного брата Моисея за полторы тысячи лет до рождества Христова.
Встав на гору, мой родственник
как взговорит, давясь
Пустыми, бесполезными слезами:
- Любите же друг друга. Ибо мир не любит вас.
По крайней мере, он не этим занят.
Большинству людей кажется, будто от них ничего не зависит. Не они начинают войну - это уж точно. Они не могут её остановить - это уж точно. И выборы от них не зависят, и честный подсчёт голосов. И если на улице видят, как упал человек, то не подходят. Зачем подходить, если ты не врач? Поэт всегда чувствует иначе. А иначе он не поэт.
Я на службу, на службу, на службу ходил аккуратно.
Вызывал, проверял, ставил двойки, да мало ли дел.
К четырём, и к пяти, и к шести возвращался обратно.
Шёл в кино, пил вино. Или так - в телевизор глядел.
А когда я, когда я, когда я вставал в воскресенье,
Перед зеркалом, зеркалом всё вспоминал дотемна:
Где я дёрнул рукой, что в Калабрии землетрясенье?
Где ошибся в расчётах, раз в Африке снова война?
Следующие трагические строки в наше время нуждаются в пояснении. Свет и сейчас включают, как десятки лет назад; выключатель, кнопка - они почти не изменились. Изменилась проводка. В середине прошлого века не было плоских пластиковых проводов, не было скрытой проводки. По стенам, на изолирующих фарфоровых роликах, тянулись витые шнуры: каждая из двух медных жил поверх резиновой изоляции была покрыта матерчатой оплёткой. И два этих провода были заплетены в тугую косичку. Она так и называлась: электрический шнур. Крепкая вещь, слона бы выдержала, не то что человека.
Почти нигде меня и не осталось -
Там кончился, там выбыл, там забыт, -
Весь город одолел мою усталость,
И только эта комната болит.
Диван и стол еще устали очень,
Двум полкам с книжками невмоготу.
Спокойной ночи всем, спокойной ночи.
Где этот шнур? Включаем темноту.
Великую русскую литературу Аронов прочёл ещё и как список трагических судеб. Каждый волен догадываться, кто из классиков перечислен в этой «Хрестоматии».
Алмазна сыплется гора
с высот четыремя скалами.
Державин
Побывав у водопада,
На экзамен он спешит.
Тот, кого ждала награда,
Будет вскорости убит.
Следующий - на Кавказе,
Тоже вдруг, на полуфразе...
Крым, где топят корабли,
Артиллерии ли, связи
Офицер. Взглянул - знакомо.
Он потом ушел из дома
От наследственной земли.
В то же время муж сквозь вьюгу
Всматривается в супругу,
То ль чужую, то ль свою,
Где-то, кажется, по югу
Гастролирующую.
Воронье, костер, туман.
У костра сосед. Устанет.
Воротясь домой, достанет
Старый спрятанный наган.
Большинство стихотворений Аронова внешне так просты, что читатель скользит, не успевая заметить глубины. Снова скажем: единственный способ что-то понять - это читать вслух. Сперва себе, потом другим. Тогда появится шанс, что фраза «каждое творенье есть хвала порядку на Земле» будет понята верно. Реквием, выходит, тоже хвала порядку.
Строчки помогают нам не часто.
Так они ослабить не вольны
Грубые житейские несчастья:
Голод, смерть отца, уход жены.
Если нам такого слишком много,
Строчкам не поделать ничего.
Тут уже искусство не подмога.
Даже и совсем не до него.
Слово не удар, не страх, не похоть.
Слово - это буквы или шум.
В предложенье: «Я пишу, что плохо»,
Главный член не «плохо», а «пишу».
Если над обрывом я рисую
Пропасть, подступившую, как весть,
Это значит, там, где я рискую,
Место для мольберта всё же есть.
Время есть. Годится настроенье.
Холст и краски. Тишина в семье.
Потому-то каждое творенье
Есть хвала порядку на Земле.
Александр Минкин
30.08. 2014. МК
http://www.echo.msk.ru/blog/minkin/1390232-echo/
ОСТАНОВИВШИЙСЯ, ОГЛЯНУВШИЙСЯ…

Он был похож на правнука Пушкина - этакий московский пушкинёнок, вечный мальчишка, правда, без малейшей смуглинки, но с чуть вывороченными губами и приплюснутым носом, с озорной курчавостью и неиссякаемым любопытством к жизни и никогда не проходящей влюблённостью в стихи, преимущественно чужие, которые так и сыпались из него, был в постоянной готовности к восторгу от чего-нибудь или кого-нибудь.
Такие люди сейчас почти перестали водиться, исчезло цеховое братство, особенно в литературной среде – после распада единого СП на отдельные союзики и тусовки, ревниво клацающие друг на друга зубами. А вот белоснежные пушкинско-робсоновские зубы Саши Аронова, как у его великого тёзки, сверкали, будто клавиши свадебного аккордеона от радости за чужие хорошие стихи – благо, их было тогда навалом. Куда она подевалась, чудесная традиция шестидесятников обчитывать друг друга стихами – опять же не только своими! – в любой час по телефону, в любой забегаловке, кафешке, шашлычной, столовке? Что объединяло всех нас, шестидесятников, которые были такими разными?
Мы первыми победили в себе страх и не хотели, чтобы к нам въехало на танках что-нибудь похожее на сталинизм под каким бы то ни было именем. Нас подозревали в том, что мы подпали под влияние западной пропаганды, но всё было наоборот – мы подпали под негативное влияние пропаганды собственной, которую уже физически не могли переносить без отвращения и брезгливости, потому что она всё время нам лгала. Советская власть сама производила антисоветчиков. Но были и те среди нас, кто, как я сам в своей «Преждевременной автобиографии», хотел «стереть все следы грязных рук на древке нашего красного знамени», и за такие невинные слова мне измочалили душу. Очевидно, мы спасали неспасаемое. Именно об этом после одной из проработок я написал «Монолог бывшего попа», в котором лишь слегка замаскировал свои собственные мысли: «И понял я - ложь исходила / не от безверья испокон, / а из хоругвей, из кадила, / из глубины самих икон». То-то газете «Неделя» всыпал ЦК за публикацию этого «двусмысленного стихотворения». Даже Б.Окуджава после доклада Хрущёва о преступлениях Сталина с надеждой уберечь от их повторения вступил в партию, о чем впоследствии жалел.
Саша Аронов не был исключением. Он писал искреннейшие, но в чем-то инфантильные стихи. Когда их читаешь, плакать хочется, до чего мы были наивны:
«Вот рвёшься ты, единственная нить.
Мне без тебя не вынести, конечно.
Как эти две звезды соединить –
Пятиконечную с шестиконечной?
Две боли. Два призванья. Жизнь идёт,
И это всё становится неважным:
«Жиды и коммунисты, шаг вперёд!»
Я выхожу. В меня стреляйте дважды».
Да я и сам написал тогда не менее искреннее стихотворение, которое уже через год не смог бы написать:
«Но - фестиваль!» –
взвивался вой шпанья.
«Но – фестиваль!» –
был дикий рёв неистов.
И если б коммунистом не был я,
то в эту ночь я стал бы коммунистом!»
(«Сопливый фашизм», 1962).
Наши надежды реальность всасывала, как песок. Но мы пытались не расставаться скоропалительно с ними, безответно старались дать шанс нашим надеждам. Именно Саша Аронов, вскочив с места, завопил: «Женя, у нас огромная радость – Булат запел! Да как!», когда я после долгой поездки в Сибирь заявился на знаменитое литературное объединение в ЦДКЖ, руководимое могиканином революционного энтузиазма Г.Левиным. Булата в тот день не было, но были и Фазиль Искандер, и Юра Левитанский, и Женя Винокуров. Многие уже утвердившиеся поэты любили захаживать в это литобъединение, которое, может быть, самим своим существованием впоследствии помогло Окуджаве написать песню про «надежды маленький оркестрик под управлением любви». Именно из сашиных африканских выпяченных губ я в тот день услышал «Сентиментальный марш» – первую песню Булата, которую Аронов, искрясь от упоения, напел мне вместе с поэтессой Н.Бялосинской, всегда трагически печальной, да и с подхрипывавшим этой песне почти сорванным декламациями и речами романтизировано комиссарским голосом Г.Левина.
Саша Аронов себя как поэта никогда не выпячивал, но сам, если не ошибаюсь, даже несколько раньше Окуджавы начал писать песни и продолжал это делать всю жизнь. Несколько его песен, противостоящих, несмотря на лёгкость формы, пустому развлекательству и усыплению совести, выбились в люди и начали жить уже отдельно от него. Первую строчку песни «Остановиться, оглянуться…» Горбачев объявил приметой «нового мышления», на котором основывалась Перестройка. Повсеместно знаменитой стала «Песня о собаке», исполненная С.Никитиным для фильма Э.Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» – добрая, ироничная, со свойственной Аронову незлым, мягким юмором. Она, единственная из всех песен «Иронии судьбы…», заново прозвучала в её прошлогоднем продолжении. Ещё злободневнее, чем раньше, воспринимаются сейчас заключительные строки другого маленького, но безукоризненного шедевра – «Песенки на прощанье»:
«Непойманные воры
Научат нас морали,
И крысы тыловые
В строю удержат вас».
Слишком много и сейчас политических конфликтов, в которых все стороны неправы, но при этом дружно упражняются в моральных взаимопоучениях по поводу одинаково аморального поведения.
А.Аронов – один из воскресителей думающих песен, помогающих думать другим. И любовь в его стихах тоже думающая: «А что? Ведь только так понятна наша тайна. Всё очень сходится и будет объяснимо, И почему мы здесь так поздно и случайно, И семьи не у всех, и негде брать любимых».
Но песенность была лишь одним из ответвлений его таланта. Закончив в 1956 г. Пединститут им. Потёмкина, он прошёл серьёзное испытание повседневной учительской работой в сельских школах Шаховского района Московской обл., а затем много лет вёл рубрику «Поговорим с Александром Ароновым» в «Московском комсомольце».
В моем фильме «Похороны Сталина» Аронов прекрасно сыграл несколько кафкианскую роль московского холостяка, на коммунальной кухне стирающего носки в тазике, когда двое запутавшихся в арестах сотрудников НКВД приходят повторно арестовывать жильца, который уже давно препровождён в тюрьму. «Вы его уже арестовали!» – кричит им в лицо старый холостяк, и все жители коммуналки кричат, надвигаясь на них: «Вы его уже арестовали! Вы его уже арестовали!»
Саша, всегда куда-то спешивший, умел остановиться, когда надо, и оглядеться вокруг. Но он же умел жить и без оглядки.
Среди стольких уронов,
испарившийся вдруг без следа,
не споёт мне Аронов
Окуджаву уже никогда.
И на край пианино
в красных чашках
пластмассовых нам
Бялосинская Нина
не поставит буфетный «Агдам».
Каждый был из нас левый.
Но теперь как пророк-правдолюб
нам не выхрипит Гриша Левин:
«Ландыши продают!
Почему не просто дают?»
Вся большая Четвёрка
приносила в ЦэДэКаЖе
запах Рима, Нью-Йорка
и «Харлеев» на вираже.
Ну а Саша Аронов
приносил нам в кармане хитро,
всех радушием тронув,
то, что звал почему-то «ситро».
Мы от славы балдели,
но, ей-богу, с незлою душой.
Сашу мы проглядели,
а ведь Саша и сам был большой.
Из антологии Е.Евтушенко «Десять веков русской поэзии»

Остановиться, оглянуться
Внезапно, вдруг на вираже,
На том случайном этаже,
Где вам доводится проснуться.
Ботинком по снегу скребя,
Остановиться, оглянуться,
Увидеть день, дома, себя
И тихо-тихо улыбнуться.
Ведь уходя, чтоб не вернуться,
Не я ль хотел переиграть,
Остановиться, оглянуться
И никогда не умирать!
Согласен в даль, согласен в степь,
Скользнуть, исчезнуть, не проснуться –
Но дай хоть раз еще успеть
Остановиться, оглянуться.

Когда у вас нет собаки,
Её не отравит сосед,
И с другом не будет драки,
Когда у вас друга нет.
А ударник гремит басами,
А трубач выжимает медь –
Думайте сами, решайте сами –
Иметь или не иметь.
Когда у вас нету дома,
Пожары у вас не страшны,
И жена не уйдёт к другому,
Когда у вас нет жены.
Когда у вас нету тёти,
Вам тёти не потерять,
И раз уж вы не живёте,
То можно не умирать.
А ударник гремит басами,
А трубач выжимает медь –
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь.
Памяти Миклоша Радноти
Да будут до утра
Друзья в моем дому.
Я всех пойму спокойно и устало.
Любимая меня
Обманет потому,
Что я её обманывать не стану.
А в пыльных городах
Невероятных стран,
Когда дворцовый путч
у них случился,
Возьмут меня за то,
Что сам я не тиран
И никого хватать не научился.
Чужие поезда
Уходят на Восток,
И дым за ними рвётся и клубится –
И буду я убит
За то, что не жесток,
И потому, что сам я не убийца.

Когда сомкнутся хляби надо мной,
Что станет с Таней,
Катькой, Тошкой, Богом?
Не следует заботиться о многом,
Но список открывается женой.
Мы с нею вышли в здешние места,
Где царствует бездомная тревога.
Она мне помогла придумать Бога
И завела собачку и кота.
Когда я прихожу навеселе,
Меня встречают всей семьёй: видали?
Они со мной грызутся и скандалят –
И держат, держат, держат на земле.
03.10. 2008.
http://www.newizv.ru/culture....ja.html
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 13 Окт 2014, 21:51 | Сообщение # 23 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Настанет день - и миром осужденный,
Чужой в родном краю,
На месте казни - гордый, хоть презренный -
Я кончу жизнь мою;
Виновный пред людьми, не пред тобою,
Я твердо жду тот час;
Что смерть?- лишь ты не изменись душою -
Смерть не разрознит нас.
Иная есть страна, где предрассудки
Любви не охладят,
Где не отнимет счастия из шутки,
Как здесь, у брата брат.
Когда же весть кровавая примчится
О гибели моей
И как победе станут веселиться
Толпы других людей;
Тогда... молю!- единою слезою
Почти холодный прах
Того, кто часто с скрытною тоскою
Искал в твоих очах...
Блаженства юных лет и сожаленья;
Кто пред тобой открыл
Таинственную душу и мученья,
Которых жертвой был.
Но если, если над моим позором
Смеяться станешь ты
И возмутишь неправедным укором
И речью клеветы
Обиженную тень,- не жди пощады;
Как червь к душе твоей
Я прилеплюсь, и каждый миг отрады
Несносен будет ей,
И будешь помнить прежнюю беспечность,
Не зная воскресить,
И будет жизнь тебе долга, как вечность,
А все не будешь жить.

Редеют бледные туманы
Над бездной смерти роковой,
И вновь стоят передо мной
Веков протекших великаны.
Они зовут, они манят,
Поют, и я пою за ними,
И, полный чувствами живыми,
Страшуся поглядеть назад,—
Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою,
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки,
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит всё печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.

За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

Нет! - я не требую вниманья
На грустный бред души моей,
Не открывать свои желанья
Привыкнул я с давнишних дней.
Пишу, пишу рукой небрежной,
Чтоб здесь чрез много скучных лет
От жизни краткой, но мятежной
Какой-нибудь остался след.
2
Быть может, некогда случится,
Что, все страницы пробежав,
На эту взор ваш устремится,
И вы промолвите: он прав;
Быть может, долго стих унылый
Тот взгляд удержит над собой,
Как близ дороги столбовой
Пришельца - памятник могилы!..

Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди полей местами
Чернеет голая земля
И мгла ложится облаками
На полуюные поля, -
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей;
Гляжу, природа молодеет,
Но молодеть лишь только ей;
Ланит спокойных пламень алый
С собою время уведет,
И тот, кто так страдал, бывало,
Любви к ней в сердце не найдет.

Гляжу в окно: уж гаснет небосклон,
Прощальный луч на вышине колонн,
На куполах, на трубах и крестах
Блестит, горит в обманутых очах;
И мрачных туч огнистые края
Рисуются на небе как змея,
И ветерок, по саду пробежав,
Волнует стебли омоченных трав...
Один меж них приметил я цветок,
Как будто перл, покинувший восток,
На нем вода блистаючи дрожит,
Главу свою склонивши, он стоит,
Как девушка в печали роковой:
Душа убита, радость над душой;
Хоть слезы льет из пламенных очей,
Но помнит всё о красоте своей.

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной;
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать - что мне бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.
Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла;
Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя;
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия.

Пускай толпа клеймит презреньем
Наш неразгаданный союз,
Пускай людским предубежденьем
Ты лишена семейных уз.
Но перед идолами света
Не гну колени я мои;
Как ты, не знаю в нем предмета
Ни сильной злобы, ни любви.
Как ты, кружусь в веселье шумном,
Не отличая никого:
Делюся с умным и безумным,
Живу для сердца своего.
Земного счастья мы не ценим,
Людей привыкли мы ценить;
Себе мы оба не изменим,
А нам не могут изменить.
В толпе друг друга мы узнали,
Сошлись и разойдемся вновь.
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали.

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее - иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию - презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты - его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства -
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 22 Ноя 2014, 20:32 | Сообщение # 24 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | НАДЕЖДА ЛЬВОВА
(08.08.1891 - 24.11.1913)

Мне хочется плакать под плач оркестра.
Печален и строг мой профиль.
Я нынче чья-то траурная невеста…
Возьмите, я не буду пить кофе.
Мы празднуем мою близкую смерть.
Факелом вспыхнула на шляпе эгретка.
Вы улыбнётесь… О, случайный! Поверьте,
Я - только поэтка.
Слышите, как шагает по столикам Ночь?..
Её или Ваши на губах поцелуи?
Запахом дышат сладко-порочным
Над нами склонённые туи.
Радужные брызги хрусталя -
Осколки моего недавнего бреда.
Скрипка застыла на жалобном la…
Нет и не будет рассвета!
Осень 1913 года
Девичья фамилия Полторацкая, родилась в Подольске, окончила Елисаветинскую гимназию в Москве. Стихи начала печатать с 1911 г. в журнале «Русская мысль», затем выступала в журналах «Женское дело», «Новая жизнь», альманахах «Жатва» и «Мезонин поэзии». В 1913 выпустила сборник «Старая сказка», предваренный предисловием В.Брюсова, посвятившего Львовой книжку стихов «Стихи Нелли». В 1913 г. Надежда Григорьевна, будучи в глубокой депрессии из-за трагического романа с В.Брюсовым, покончила жизнь самоубийством. После ее смерти вышло второе издание «Старой сказки» (1914), дополненное не публиковавшимися ранее стихами. Ее поэзии присущи естественность и непосредственность. Ее стихи отличает глубина и острота переживаний, качества, за которые критика прощала автору технические огрехи. В отзыве на «Старую сказку» А.Ахматова писала: «Ее стихи, такие неумелые и трогательные, не достигают той степени просветленности, когда они могли бы быть близки каждому, но им просто веришь, как человеку, который плачет».
В понедельник 25 ноября 1913 г. (все даты до 1918 года приводятся по старому стилю) скучающие обыватели под заголовком «Самоубийство курсистки» прочитали в московской газете «Столичная жизнь» такое вот небольшое сообщение: "Вчера, вечером, в доме Константинопольского подворья, по Крапивенскому пер., застрелилась из револьвера слушательница Высших женских курсов Полторацкой, дочь надворного советника, Надежда Григорьевна Львова. Незадолго до смерти она говорила с кем-то по телефону. Никаких записок покойная не оставила. Смерть наступила мгновенно: пуля попала в сердце".
Вспоминает В.Ходасевич: "Часов в 11 она звонила ко мне - меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась. Об этом мне сообщили под утро. Через час ко мне позвонил Шершеневич и сказал, что жена Брюсова просит похлопотать, чтобы в газетах не писали лишнего. Брюсов мало меня заботил, но мне не хотелось, чтобы репортеры копались в истории Нади. Я согласился поехать в «Русские ведомости» и в «Русское слово»…"
Несмотря на хлопоты Ходасевича, кое-какие подробности случившегося в печать всё-таки просочились. Газета «Русское слово», 26 ноября 1913 г., вторник: "В воскресенье, вечером, застрелилась молодая поэтесса Н.Г. Львова. Застрелившаяся оставила на имя поэта В.Я. Брюсова письмо и целую кипу рукописей… Около 9 ч. вечера г-жа Львова позвонила по телефону к г-ну Брюсову и просила приехать к ней. Он ответил, что ему некогда - он занят срочной работой. Через несколько минут г-жа Львова снова подошла к телефону и сказала г-ну Брюсову: - Если вы сейчас не приедете, я застрелюсь. Затем она ушла в свою комнату. В квартире царила полная тишина. Минут пять спустя после этого рагговора в комнате грянул выстрел…"
Далее в заметке сообщалось, что Надежда нашла ещё силы выйти из комнаты и попросить соседа позвонить по какому-то номеру. Сосед позвонил - к телефону подошёл Брюсов. Вскоре он приехал, но умиравшей уже не хватило сил говорить…До глубины души потрясённый её смертью, Брюсов не взял ни адресованного ему письма, ни рукописей. Он уехал. Прибывшая на место происшествия полиция опечатала все бумаги…
Белый, белый, белый, белый,
Беспредельный белый снег…
Словно саван помертвелый -
Белый, белый, белый, белый -
Над могилой прежних нег.
Словно сглаженные складки
Ненадёванной фаты…
Мир забыл свои загадки,
Мир забылся грёзой сладкой
В ласке белой пустоты.
Ни движенья… Ни томленья…
Бледный блеск и белизна…
Всех надежд успокоенье,
Всех сомнений примиренье -
Холод блещущего сна.
В ее предсмертном письме , которое Брюсов тогда же и прочитал, но оставил его полиции, было написано: "И мне уже нет [сил?] смеяться и говорить теб[е], без конца, что я тебя люблю, что тебе со мной будет совсем хорошо, что не хочу я «перешагнуть» через эти дни, о которых ты пишешь, что хочу я быть с тобой. Как хочешь, «знакомой, другом, любовницей, слугой», - какие страшные слова ты нашел. Люблю тебя - и кем хочешь, - тем и буду. Но не буду «ничем», не хочу и не могу быть. Ну, дай же мне руку, ответь мне скорее - я все-таки долго ждать не могу (ты не пугайся, это не угроза: это просто правда). Дай мне руку, будь со мной, если успеешь прийти, приди ко мне. А мою любовь и мою жизнь взять ты должен. Неужели ты не чувствуешь этого. В последний раз - умоляю, если успеешь, приди. Н."
Брюсов не был и не мог быть на похоронах Надежды. Немедленно после её смерти он уехал из Москвы - сначала в Петербург, а затем в один из санаториев под Ригой, где он и провёл почти полтора месяца…
Не проклинай меня за медленные муки,
За длинный свиток дней без солнца и огня,
За то, что и теперь, в преддвериях разлуки,
Я так же свято жду невспыхнувшего дня!
Я помню: гасли дни и гасли жизни стуки.
Ты уходил и вновь ты приходил, кляня…
За то, что слёз моих вонзались в сердце звуки,
Не проклинай меня!
В последний раз к тебе тяну с мольбою руки…
За то, что к вечным снам томительно маня,
Я, так любя, сама сковала цепь разлуки,
Не проклинай меня!
Дочь мелкого почтового служащего, до своих 19 лет была далека от того, чтобы самой писать стихи. Еще в гимназии, которую она закончила в 1908 г. с золотой медалью, она выполняла отдельные поручения подпольной организации большевиков. Её «соратниками по борьбе» были, например, И.Эренбург, Н.Бухарин и Г. Сокольников - почти её ровесники. Тогда же, в 1908 г., Надежда была даже и арестована, но вскоре отпущена на поруки отца, поскольку на момент ареста ей ещё не исполнилось 17 лет. Впрочем, она успела гордо заявить жандармскому офицеру: «Если вы меня выпустите, я буду продолжать моё дело».
И Данте просветленные напевы,
И стон стыда - томительный, девичий,
Всех грёз, всех дум торжественные севы
Возносятся в непобедимом кличе.
К тебе, Любовь! Сон дорассветной Евы,
Мадонны взор над хаосом обличий,
И нежный лик во мглу ушедшей девы,
Невесты неневестной - Беатриче.
Любовь! Любовь! Над бредом жизни чёрным
Ты высишься кумиром необорным,
Ты всем поешь священный гимн восторга.
Но свист бича? Но дикий грохот торга?
Но искаженные, разнузданные лица?
О, кто же ты: святая иль блудница!
И.Эренбург («Люди, годы, жизнь»): "Надя любила стихи, пробовала читать мне Блока, Бальмонта, Брюсова… Я издевался над увлечением Нади, говорил, что стихи - вздор, «нужно взять себя в руки». Несмотря на любовь к поэзии, она прекрасно выполняла все поручения подпольной организации. Это была милая девушка, скромная, с наивными глазами и с гладко зачесанными назад русыми волосами… Я часто думал: вот у кого сильный характер! «Милая девушка, скромная, с наивными глазами»
Вспоминает В.Ходасевич: … Надя Львова была не хороша, но и не вовсе дурна собой. Сама она была умница, простая, душевная, довольно застенчивая девушка. Она сильно сутулилась и страдала маленьким недостатком речи: в начале слов не выговаривала букву «к»: говорила «'ак» вместо «как», «'оторый», «'инжал»…
Продолжать большевистское дело Надежде было не суждено. В 1910 г. она впервые попробовала писать стихи, и весной следующего года принесла их в редакцию журнала «Русская мысль». Так судьба свела её с В.Брюсовым, её кумиром и признанным поэтическим мэтром.
Небо бледнее и кротче.
Где-то звонят к вечерне…
Тебе, моё одиночество,
Мои песни вечерние!
Вот, вспыхнут лампочки пышные,
Раскроются книги любимые,
А сердце заплачет неслышно:
«Ах, жизнь идёт мимо!»
И я над нею, унылая, -
Лунатик на узком карнизе, -
И тот, кого так любила я,
Он ко мне никогда не приблизится!
Вокруг всё молчит суеверно,
Колокольные смолкли пророчества…
Тебе мои песни вечерние,
Моё одиночество!
1913 год
Брюсов был старше Надежды на 18 лет. Деловое знакомство быстро переросло во флирт, льстивший им обоим. Видимо, уже через полгода они миновали и стадию простого флирта. Влюблённый мэтр одарил юную поэтессу своим покровительством. В 1912 г. стихи Львовой были опубликованы в нескольких журналах, а в следующем году вышел в свет её первый (и последний) поэтический сборник «Старая сказка. Стихи 1911-1912 гг.» с предисловием Брюсова.
Я была в каких-то непонятных странах:
В небесах, быть может. Может быть, в аду.
Я одна блуждала в голубых туманах
И была бессильна… В жизни - как в бреду.
Колыхались звоны… Я не помню звуков.
Голоса дрожали… Я не помню слов.
Сохранились только перебои стуков
Разбивавших сердце острых молотков.
Кто-то плакал страстно. Кто-то к небу рвался.
Я - была покорна. Я - не помню дней.
Лунный луч склонялся. Лунный плач смеялся,
Заплетая нежно кружево теней.
Мертвенная ласка душу убивала,
Убивая чары радости земной…
Но теперь мне в безднах солнце засверкало.
Солнце! Солнце! Снова! Снова - ты со мной!
Брюсов был влюблён. Но и только. Для него Львова была лишь очередным, быть может, сильным увлечением на фоне его семейной жизни. Он дал Надежде всё, что умел дать. Мог ли он дать ей больше?
Владислав Ходасевич: "… Он не любил людей, потому что, прежде всего, не уважал их. Это, во всяком случае, было так в его зрелые годы. В эротике Брюсова есть глубокий трагизм, но не онтологический, как хотелось думать самому автору, а психологический: не любя и не чтя людей, он ни разу не полюбил ни одной из тех, с кем случалось ему «припадать на ложе». Женщины брюсовских стихов похожи одна на другую, как две капли воды: это потому, что он ни одной не любил, не отличил, не узнал. Возможно, что он действительно чтил любовь. Но любовниц своих он не замечал… Он любил литературу, только её. Самого себя - тоже только во имя её…"
Брюсов дал Надежде всё, что он умел дать. Она отдала ему всё - без оговорок. В письме к нему от 9 сентября 1912 г. она написала: "… И, как и Вы, в любви я хочу быть «первой» и единственной. А Вы хотели, чтобы я была одной из многих? Вы экспериментировали с ней, рассчитывали каждый шаг. Вы совсем не хотите видеть, что перед Вами не женщина, для которой любовь - спорт, а девочка, для которой она всё…" Нет, это ещё не было концом. Потом ещё наступило примирение, и июль 1913 г. они вместе провели в Финляндии. Но Надежда слишком поздно осознала своё место в жизни любимого человека. Достигнув своего пика, её любовь рухнула в пропасть…
Опять аметистовый вечер.
Прозрачно-холодные ткани
Набросила осень на плечи.
О, час предзакатных мечтаний!
Мне как-то не жаль, что одна я,
Что ты - безвозвратно далёко.
Как вечер, душа умирает
Без жалоб, без слёз, без упрёка.
Я знаю, что это расплата
За всё, чего я не свершила…
Последние искры заката
Плащом своим осень закрыла.
15 сентября 1913 года
А.В. Лавров, хорошо знакомый с архивом поэта и опубликовавший из него некоторые материалы, связанные с Н.Львовой, пишет следующее: "… Для Львовой любовь, овладевшая ею, составляла всё её существо, была единственным содержанием её жизни, и она ожидала от Брюсова взаимного чувства, исполненного такой же полноты и интенсивности. Этого он ей дать не мог. Не готов он был и к разрыву с женой, на чем настаивала Львова. Понимая, что отношения зашли в тупик, что изменить свой семейный уклад он не в силах, Брюсов готов был прекратить эту, уже мучительную для них обоих связь, но Львова восприняла симптомы его охлаждения и отдаления как полную жизненную катастрофу…"
Все стихотворения Надежды, написанные ею после возвращения из Финляндии, пронизаны ощущением этой надвигающейся катастрофы и собственным бессилием ей воспротивиться. Никого не нашлось рядом с нею, кто бы помог ей в тот критический период и кто бы её спас. Никого. Она осталась одна - простая добрая девочка, такая сильная вместе со всеми, но такая слабая наедине с собой.
Я покорно принимаю всё, что ты даёшь:
Боль страданья, муки счастья и молчанье-ложь.
Не спрошу я, что скрывает сумрак этих глаз:
Всё равно я знаю, знаю: счастье - не для нас.
Знаю ж, что в чарах ночи и в улыбке дня
Ты - покорный, ты - влюблённый, любишь не меня.
Разрывая наши цепи, возвращаясь вновь,
Ты несмело любишь нашу первую любовь.
Чем она пылает ярче, тем бледнее я…
Не со мною, не со мною - с ней! мечта твоя.
Я, как призрак ночи, таю, падаю любя,
Но тоска моей улыбки жалит не тебя.
Ты не видишь, ты не знаешь долгих, тёмных мук,
Мой таинственный, неверный, мой далёкий друг.
Ты не знаешь перекрёстков всех дорог любви…
Как мне больно. Как мне страшно. Где ты? Позови.
Поздним воскресным вечером Н.Львова поднесла к груди револьвер - странный подарок любимого ею человека…
Будем безжалостны! Ведь мы - только женщины.
По правде сказать - больше делать нам нечего.
Одним ударом больше, одним ударом меньше…
Так красива кровь осеннего вечера!
Ведь мы - только женщины!
Каждый смеет дотронуться,
В каждом взгляде - пощёчины пьянящая боль…
Мы - королевы, ждущие трона,
Но - убит король.
Ни слова о нём… Смежая веки,
Отдавая губы, - тайны не нарушим…
Знаешь, так забавно ударить стэком
Чью-нибудь орхидейно раскрывшуюся душу!
Октябрь 1913 года
Из антологии Е.Евтушенко «Десять веков русской поэзии»: "… По ранимости и распахнутости, по бешенству чувств Н.Львова предсказывала будущую М.Цветаеву. Кто знает, может, несовершенство её стихов было еще делом поправимым. Может, ей помогло бы совершенство её чувств в любви, её всеотдайность, не настроенческая, а поражающая одноадресным постоянством, такой сгущённостью чувств, которая, казалось бы, могла её спасти от захлестывающих и накрывающих с головой волн, помочь удержаться на поверхности столь плотной, как перенасыщенная солью вода. Но такая перенасыщенность в личных отношениях иногда пугает менее смелых, чем женщины, мужчин, когда бушевание страстей может сбить с ног…"
На ее могиле, по свидетельству Эренбурга, была выбита строка из Данте: «Любовь, которая ведет нас к смерти»…
… Но когда я хотела одна уйти домой,
Я внезапно заметила, что вы уже не молоды,
Что правый висок у вас почти седой -
И мне от раскаяния стало холодно…
Октябрь 1913 года
Вспоминает В.Ходасевич: "… Надю хоронили на бедном Миусском кладбище, в холодный, метельный день. Народу собралось много. У открытой могилы, рука об руку, стояли родители Нади, приехавшие из Подольска, старые, маленькие, коренастые, он - в поношенной шинели с зелёными кантами, она - в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они, как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускною бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, всё видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошёл в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не имея права утешать их…"
В одном из писем Брюсова, ещё до похорон Надежды, есть такие строки: «Эти дни, один с самим собой, на своём Страшном Суде, я пересматриваю всю свою жизнь, все свои дела и все помышления. Скоро будет произнесён приговор»…
Мне заранее весело, что я тебе солгу,
Сама расскажу о небывшей измене,
Рассмеюсь в лицо, как врагу, -
С брезгливым презрением.
А когда ты съёжишься, как побитая собака,
Гладя твои седеющие виски,
Я не признаюсь, как ночью я плакала,
Обдумывая месть под шприцем тоски.
1 ноября 1913 года

Я не был на твоей могиле;
Я не принёс декабрьских роз
На свежий холм под тканью белой;
Глаза других не осудили
Моих, от них сокрытых, слёз.
Ну что же! В неге онемелой,
Ещё не призванная вновь,
Моих ночей ты знаешь муки,
Ты знаешь, что храню я целой
Всю нашу светлую любовь!
Что ужас длительной разлуки
Парит бессменно над душой,
Что часто ночью, в мгле холодной,
Безумно простирая руки,
Безумно верю: ты со мной!
Что ж делать? Или жить бесплодно
Здесь, в этом мире, без тебя?
Иль должно жить, как мы любили,
Жить исступлённо и свободно,
Стремясь, страдая и любя?
Я не был на твоей могиле.
Не осуждай и не ревнуй!
Мой лучший дар тебе не розы:
Всё, чем мы вместе в жизни жили,
Все, все мои живые грёзы,
Все, вновь назначенные, слёзы
И каждый новый поцелуй!
8 января 1914 года
Спустя немногим более 10 лет, 9 октября 1924 г., В.Брюсов скончался в результате крупозного воспаления лёгких. Он похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. Могила Н.Львовой у западной ограды Миусского кладбища утеряна навсегда.
Валентин Антонов,
июль 2009.
http://www.vilavi.ru/sud/120708/120708-1.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 16 Дек 2014, 09:20 | Сообщение # 25 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ
(04.09. 1898 - 24.11. 1937)

Некоторое время назад на сайте Russian-Records была выставлена старая советская грампластинка, на этикетке которой значилось: «На отдыхе», Песня Тани, «Ленкино», воспроизведено с кино-пленки изобр. Абрамович, Товстолес и Заикиным». Вот и всё. Не указаны ни авторы песни, ни её исполнители, ни с какой такой киноплёнки воспроизводили когда-то изобретатели Абрамович, Товстолес и Заикин песню неведомой нам Тани. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что речь идёт едва ли не о самой первой грампластинке, на которой был записан голос К.Шульженко, и едва ли не о первом вообще опыте исполнения песен под фонограмму.
В изданных 30 лет назад мемуарах сама Клавдия Ивановна по поводу именно этой грампластинки вспоминала следующее: … Незадолго до появления анонимной пластинки режиссёр Ленкино Эдуард Иогансон пригласил меня принять участие в звуковой кинокомедии «На отдыхе». Но пригласил не сниматься, а только петь за исполнительницу главной женской роли. Музыку к фильму написал известный композитор Иван Дзержинский, который, насколько мне известно, нечасто обращался к жанру лирической песни. Но его «Песня Тони» [Тани, конечно, а не Тони] была удивительно хороша, и я согласилась её спеть. Фонограмму с моим исполнением записали до начала съёмок, а потом уже на съёмочной площадке героине только оставалось прилежно открывать рот и внимательно следить за артикуляцией, чтобы зрители впоследствии не заметили, что она поёт буквально не своим голосом. Кажется, это был первый случай совмещения чужой фонограммы с изображением, совмещения, которое столь часто практикуется сегодня. В ту же пору, о которой я рассказываю, способ этот держался в секрете, и изобретатели записи пластинок с киноплёнки не рискнули, выпуская «Песню Тони», выступить в роли разоблачителей!..
Фильм был снят в 1936 г., а его премьера состоялась в самом конце января 1937 г.. Его сюжет фильма незамысловат и в 1937 г. фильм снят с проката. Ответ на вопрос, почему же весёлая, жизнерадостная кинокомедия была снята с проката всего через несколько месяцев после её январской премьеры, следует искать, как мне кажется, в тех самых, показанных выше, начальных титрах: «Авторы сценария: Н.Олейников, Е.Шварц».
Писатель и драматург Е.Шварц очень хорошо известен многим у нас по экранизациям его пьес: знаменитая послевоенная «Золушка» с Яниной Жеймо, «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени», «Тень», «Убить дракона». Имя же его соавтора, поэта Н.Олейникова, почти не известно современному читателю. Его имя на долгие годы было вычеркнуто из русской литературы, да и осталось-то после него не слишком много стихов, но даже то, что осталось, говорит о его громадном поэтическом таланте. Безупречный вкус, уверенный, изначально «масштабный» поэтический почерк наряду с многообразием словно бы надеваемых им в стихах масок, врождённое эстетическое чувство, тонкая ирония и ум - таков Н.Олейников. Его стихи невозможно спутать ни с чьими другими - не знаю, как делаются подобные вещи. Вероятно, это и есть талант, искра Божия. В своё время имя Олейникова на равных звучало среди таких ныне славных имён, как С.Маршак, К.Чуковский, Н.Заболоцкий, Д.Хармс, И.Андроников… Даже о его ранних стихах (которые в большинстве своём не сохранились) Чуковский сказал следующее: Его необыкновенный талант проявился во множестве экспромтов и шутливых посланий, которые он писал по разным поводам своим друзьям и знакомым. Стихи эти казались небрежными, не имеющими литературной ценности. Лишь впоследствии стало понятно, что многие из этих непритязательных стихов - истинные шедевры искусства.
Для широкой публики творчество Олейникова гораздо более ассоциировалось со стихами и рассказами, написанными им для детей. При жизни поэта публикация его стихов состоялась лишь однажды, в 1934 г. Известно, что некоторые свои стихи он публиковал под псевдонимами. Кое-что сохранилось в рукописях, в рукописных альбомах, кое-что в памяти его друзей и близких. Значительное количество стихов дошло до нас благодаря его вдове, сумевшей вывезти и сохранить (в копиях) часть рукописного архива поэта. Вот одно из них, датируемое приблизительно 1928 г. и никогда не публиковавшееся при жизни поэта, - типичный пример его иронической поэзии. Стихотворение «Короткое объяснение в любви» написано нарочито «галантерейным языком», и в нём поэт открыто издевается над стихами графоманов, стихами и чувствами столь же фальшивыми, сколь «красивыми» (тут невольно вспоминается чеканная строка из знаменитого перевода Маршака - «ничтожество в роскошном одеянье»; кстати, по поводу иронической поэзии Олейникова тот же Маршак отозвался шутливой эпиграммой: «Берегись Николая Олейникова, // Чей девиз - никогда не жалей никого»).
Тянется ужин.
Блещет бокал.
Пищей нагружен,
Я воспылал.
Вижу: напротив
Дама сидит.
Прямо не дама,
А динамит!
Гладкая кожа.
Ест не спеша…
Боже мой, Боже,
Как хороша!
Я поднимаюсь
И говорю:
- Я извиняюсь,
Но я горю!
Скажете ль прямо -
Да или нет?
Милая дама
Томно в ответ:
- Я не весталка,
Мой дорогой.
Разве мне жалко?
Боже ты мой!
Удивительное стихотворение 1934 года «Таракан» тоже никогда не публиковалось при жизни автора, и оно тоже вроде бы «ироническое», дурашливое. Впечатление это обманчивое, и оно сразу же опровергается авторским эпиграфом - строкой «Таракан попался в стакан», с очевидностью навеянной так называемой «басней капитана Лебядкина» из очень серьёзного романа «Бесы» вполне серьёзного писателя Достоевского. Стихотворение длинное, но это, как говорится, единственный его недостаток:
Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосёт.
Он попался. Он в капкане.
И теперь он казни ждёт.
Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, с топорами
Вивисекторы сидят.
У стола лекпом хлопочет,
Инструменты протирая,
И под нос себе бормочет
Песню «Тройка удалая».
Трудно думать обезьяне,
Мыслей нет - она поёт.
Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосёт.
Таракан к стеклу прижался
И глядит едва дыша…
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печёнка, кости, сало -
Вот что душу образует.
Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья.
Против выводов науки
Невозможно устоять.
Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать.
Вот палач к нему подходит,
И, ощупав ему грудь,
Он под рёбрами находит
То, что следует проткнуть.
И проткнувши, набок валит
Таракана, как свинью.
Громко ржёт и зубы скалит,
Уподобленный коню.
И тогда к нему толпою
Вивисекторы спешат.
Кто щипцами, кто рукою
Таракана потрошат.
Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента.
От увечий и от ран
Помирает таракан.
Он внезапно холодеет,
Его веки не дрожат…
Тут опомнились злодеи
И попятились назад.
Всё в прошедшем -
боль, невзгоды.
Нету больше ничего.
И подпочвенные воды
Вытекают из него.
Там, в щели большого шкапа,
Всеми кинутый, один,
Сын лепечет: «Папа, папа!»
Бедный сын!
Но отец его не слышит,
Потому что он не дышит.
И стоит над ним лохматый
Вивисектор удалой,
Безобразный, волосатый,
Со щипцами и пилой.
Ты, подлец, носящий брюки,
Знай, что мёртвый таракан -
Это мученик науки,
А не просто таракан.
Сторож грубою рукою
Из окна его швырнёт,
И во двор вниз головою
Наш голубчик упадёт.
На затоптанной дорожке
Возле самого крыльца
Будет он, задравши ножки,
Ждать печального конца.
Его косточки сухие
Будет дождик поливать
Его глазки голубые
Будет курица клевать.
Из стихотворения «Влюблённому в Шурочку» , написанного Олейниковым приблизительно в 1932 г.:
… Страшно жить на этом свете,
В нём отсутствует уют, -
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут,
Улетает птица с дуба,
Ищет мяса для детей,
Провидение же грубо
Преподносит ей червей.
Плачет маленький телёнок
Под кинжалом мясника,
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака.
Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе,
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе…
Спустя много лет писатель Лев Разгон так вспоминал новогодние праздники 1937 г.: Не помню, чтобы какая-нибудь встреча Нового года была такой весёлой. Молодой, раскованный и свободный Андроников представлял нам весь Олимп писателей и артистов; Н.Олейников читал свои необыкновенные стихи… А в ночь на 20 июля 1937 г. поэт был арестован. Ранним утром, выйдя по делам из дому, И.Андроников увидел идущего Олейникова: «Коля, куда так рано?» и осекся, заметив, что тот идёт не один. Обернувшись на голос, Николай лишь усмехнулся в ответ…Спустя 4 месяца после ареста, 24 ноября 1937 г., Олейников был расстрелян. Он «занимался террористической деятельностью, проводил вредительство на литературном фронте, знал о связи участников контрреволюционной троцкистской организации с японской разведкой»… Спустя ещё 20 лет его посмертно реабилитировали.
Неуловимы, глухи, неприметны
Слова, плывущие во мне, -
Проходят стороной - печальны, бледные, -
Не наяву, а будто бы во сне.
Простой предмет - перо, чернильница, -
Сверкая, свет прольют иной.
И день шипит, как мыло в мыльнице,
Пленяя тусклой суетой.
Чужой рукой моя рука водила:
Я слышал то, о чём писать хотел,
Что издавало звук шипенья мыла, -
Цветок засохший чистотел.
1937
Символическое надгробие Н.Олейникова находится на Левашовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, месте массовых захоронений «врагов народа» в 1937–1938 гг. («Левашовская пустошь», до 1989 г. - секретный объект КГБ СССР). Спустя 4 месяца после его полной реабилитации, 14 января 1958 г., Ленинградский обком КПСС посмертно восстановил Олейникова в партии. По странному совпадению, на следующий день в Ленинграде скоропостижно скончался «добрый сказочник» Е.Шварц, соавтор Олейникова по нескольким киносценариям.
Валентин Антонов,
июнь 2013 г.
http://www.vilavi.ru/sud/060713/060713.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 24 Мар 2015, 19:33 | Сообщение # 26 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | «Я скучный, немножко лишний, педант в роговых очках…»
ДМИТРИЙ КЕДРИН
(04.02. 1907 - 18.09. 1945)

Ещё один один огромной силы талант в плеяде талантливых молодых поэтов послереволюционной России. Всем им досталось нелёгкое, сумасшедшее, противоречивое время, время радостное и трагическое, время духовного взлёта и время невиданной подлости. П.Коган, Б.Корнилов, С.Гудзенко, да и многие другие, о ком мы ещё не успели рассказать, - в этом ряду блестящих наших поэтов, которые прожили такие короткие и такие яркие жизни, по праву находится имя Дмитрия Кедрина.
Подгулявший шутник, белозубый, как турок,
Захмелел, прислонился к столбу и поник.
Я окурок мой кинул. Он поднял окурок,
Раскурил и сказал, благодарный должник:
«Приходи в крематорий, спроси Иванова,
Ты добряк, я сожгу тебя даром, браток».
Я запомнил слова обещанья хмельного
И бегущий вдоль потного лба завиток.
Почтальоны приходят, но писем с Урала
Мне в Таганку не носят в суме на боку.
Если ты умерла или ждать перестала,
Разлюбила меня, - я пойду к должнику.
Я приду в крематорий, спущусь в кочегарку,
Где он дырья чинит на коленях штанов,
Подведу его к топке, пылающей жарко,
И шепну ему грустно: «Сожги, Иванов!»
1934 год
Биография Кедрина укладывается всего в несколько строчек. Ровесник Б.Корнилова, он родился в Донбассе. С 6 лет жил в Екатеринославе. Там же он начал писать свои первые стихи, такие ещё неуверенные. В местной газете «Грядущая смена», его стихи и были впервые опубликованы.
Поскольку в родословной поэта обнаруживались дворянские корни, то в комсомол его не принимали. В 1929 г. он был арестован по подозрению в «недоносительстве». Типичное для того времени обвинение оборачивается для Дмитрия 15-ю месяцами заключения. В 1931 г., после освобождения, он переехал в Подмосковье, работал в газете Мытищинского вагоностроительного завода, в качестве литконсультанта сотрудничал с московским издательством «Молодая гвардия». Работал на износ, жил с семьёй в одной крохотной клетушке заводского общежития. Печатался где попало и от случая к случаю. В 1932 г. им было написано стихотворение «Кукла», сделавшее поэта известным. Говорят, что Горький до слёз растрогался при чтении этого стихотворения (а как ему было не растрогаться от таких вот слов:
Для того ли, скажи,
Чтобы в ужасе,
С черствою коркой
Ты бежала в чулан
Под хмельную отцовскую дичь,-
Надрывался Дзержинский,
Выкашливал легкие Горький,
Десять жизней людских
Отработал Владимир Ильич?
Это стихотворение получило одобрение и со стороны самого главного читателя и критика тех лет: «Прочёл «Куклу» с удовольствием. И.Сталин». Именно этот отзыв на вёрстке и спас само стихотворение, которое бдительные редакторы журнала «Красная новь» уже было выбросили из номера. Кто знает, какие бы пути-дороги открылись перед молодым поэтом, измени он самому себе. Но Кедрин пошёл в литературе и в жизни своим путём, и он прошёл этот путь до конца.
К нам в гости приходит мальчик
Со сросшимися бровями,
Пунцовый густой румянец
На смуглых его щеках.
Когда вы садитесь рядом,
Я чувствую, что меж вами
Я скучный, немножко лишний,
Педант в роговых очках.
Глаза твои лгать не могут.
Как много огня теперь в них!
А как они были тусклы…
Откуда же он воскрес?
Ах, этот румяный мальчик!
Итак, это мой соперник,
Итак, это мой Мартынов,
Итак, это мой Дантес!
Ну что ж! Нас рассудит пара
Стволов роковых Лепажа
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Два вежливых секунданта,
Под горкой - два экипажа,
Да седенький доктор в чёрном,
С очками на злом носу.
Послушай-ка, дорогая!
Над нами шумит эпоха,
И разве не наше сердце —
Арена её борьбы?
Виновен ли этот мальчик
В проклятых палочках Коха,
Что ставило нездоровье
В колёса моей судьбы?
Наверно, он физкультурник,
Из тех, чья лихая стайка
Забила на стадионе
Испании два гола.
Как мягко и как свободно
Его голубая майка
Тугие гибкие плечи
Стянула и облегла!
А знаешь, мы не подымем
Стволов роковых Лепажа
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Я лучше приду к вам в гости
И, если позволишь, даже
Игрушку из Мосторгсина
Дешёвую принесу.
Твой сын, твой малыш безбровый
Покоится в колыбели.
Он важно пускает слюни,
Вполне довольный собой.
Тебя ли мне ненавидеть
И ревновать к тебе ли,
Когда я так опечален
Твоей морщинкой любой?
Ему покажу я рожки,
Спрошу: «Как дела, Егорыч?»
И, мирно напившись чаю,
Пешком побреду домой.
И лишь закурю дорогой,
Почуяв на сердце горечь,
Что наша любовь не вышла,
Что этот малыш - не мой.
1933 год
Высочайшее одобрение не слишком помогло Кедрину: при жизни была издана всего лишь одна маленькая, в 17 стихотворений, его книжечка с названием «Свидетели» (1940 г.). Он был внутренне независим, оставаясь при всём при этом идеалистом и романтиком, пытался самому себе представить большевистскую революцию, как совершенно естественный и даже желательный для России путь развития, совместить в себе самом несовместимое. Многим его современникам подобный самообман вполне удавался. Кедрину обмануть себя не удалось. Чем дальше, тем больше ощущал поэт своё одиночество: «Я одинок. Вся моя жизнь в минувшем. Писать не для кого и незачем. Жизнь тяготит все больше… Сколько еще? Гёте сказал правду: «Человек живёт, пока хочет этого».
Чем дальше, тем больше и власть своим пролетарским чутьём ощущала в Кедрине чужака. На литературных чиновников, кому самообман удался вполне, всякая личностная независимость, пусть даже и внутренняя, действовала, словно красная тряпка на быка. Ставский, секретарь СП (а Кедрин официально стал «писателем» в 1939 г.), был одним из таких людей: «Ты! Дворянское отродье! Или выучишь первые пять глав «Краткого курса» истории партии и сдашь зачёт лично мне, или я загоню тебя туда, куда Макар телят не гонял!» Пересказывая жене этот разговор, Кедрин не мог сдержать слёз обиды и унижения… «Талантливый неудачник» - отозвалась о нём В.Инбер. «Если есть талант, это уже удача» - так считал он сам.

Прощай, прощай, моя юность,
Звезда моя, жизнь, улыбка!
Стала рукой мужчины
Мальчишеская рука.
Ты прозвенела, юность,
Как дорогая скрипка
Под лёгким прикосновеньем
Уверенного смычка.
Ты промелькнула, юность,
Как золотая рыбка,
Что канула в сине море
Из сети у старика!
1938 год
Словно стараясь уйти от мрачных и противоречивых реалий, в которых он жил, и понять, что же происходит, Кедрин в конце 30-х годов обращается к истории России. Именно тогда им были написаны такие значительные произведения, как «Зодчие» («под влиянием которого Тарковский создал фильм «Андрей Рублев» - отмечает Е.Евтушенко), «Конь» и «Песня про Алёну-Старицу». Особое место в его творчестве занимает то, что можно было бы назвать «русскостью». Неподдельный, не показной, а совершенно искренний и глубинный патриотизм, любовь к России, к её истории, культуре и её природе, пронизывает такие его стихотворения конца 30-х и 40-х годов, как «Красота», «Родина», «Колокол», «Всё мне мерещится поле с гречихою…», «Зимнее». Он подготовит даже целую книжку с названием «Русские стихи» - без каких-либо шансов на её опубликование… Ну и, конечно, чувство времени, характерное для Кедрина, постоянно крепнувшее в нём ощущение неразрывной связи прошлого и настоящего, так заметное в очень многих его стихах, помогавшее ему оставаться самим собой.
Когда я уйду,
Я оставлю мой голос
На чёрном кружке.
Заведи патефон,
И вот под иголочкой,
Тонкой, как волос,
От гибкой пластинки
Отделится он.
Немножко глухой
И немножко картавый,
Мой голос
Тебе прочитает стихи,
Окликнет по имени,
Спросит: «Устала?»
Наскажет
Немало смешной чепухи.
И сколько бы ни было
Злого, дурного,
Печалей, обид, -
Ты забудешь о них.
Тебе померещится,
Будто бы снова
Мы ходим в кино,
Разбиваем цветник.
Лицо твоё
Тронет волненья румянец,
Забывшись,
Ты тихо шепнёшь:
«Покажись!..»
Пластинка хрипнёт
И окончит свой танец,
Короткий,
Такой же недолгий,
Как жизнь.
1939.
Все знавшие Кедрина в один голос отмечают его застенчивость, интеллигентность и какое-то врождённое изящество. Мягкость поступков и твёрдость характера одновременно. Типичный «очкарик», плохо приспособленный к успешному существованию в эпоху лихолетья. Плохо приспособленный к тому, чтобы просто выжить. С самого начала войны он тщетно обивает все пороги, стремясь оказаться на фронте, чтобы с оружием в руках защищать Россию. Никто ни на какой там фронт его не берёт - по состоянию здоровья он вычеркнут изо всех возможных списков. Попытка уехать в эвакуацию сорвалась по очень простой причине: локтей, чтобы пробиться сквозь вокзальную давку, у него тоже нет. Из стихотворения, датированного 11 октября 1941 г.:
… Куда они? В Самару - ждать победу?
Иль умирать?.. Какой ни дай ответ, -
Мне всё равно: я никуда не еду.
Чего искать? Второй России нет!
Он остаётся в Москве, пишет совершенно удивительные стихи - большей частью для себя самого - и снова и снова обивает все пороги. Наконец, в 1943 г. он своего добился: его посылают на фронт, в 6 воздушную армию, военкором газеты «Сокол Родины». Там он и защищает Родину последние два года войны. Защищает тем оружием, которым владеет в совершенстве - поэтическим пером. Но стихи он там пишет не только о войне и не только для газеты. Д.Кедрин, «очкарик» и «талантливый неудачник», остаётся верен себе. Он по-прежнему идёт своей дорогой, дорогой совести. Он думает и записывает (1944 г.):
Не в культе дело, дело в роке.
Пусть времена теперь не те -
Есть соучастники в пороке,
Как были братья во Христе.
Спустя десятилетие, как вспоминает Л.Аннинский, это четверостишие переписывалось и ходило в Москве по рукам. Имя Кедрина возвращалось к нам из посмертного небытия постепенно и трудно. Возвращалось, чтобы занять в русской поэзии по праву принадлежащее ему место. Да только ли в поэзии? Мы уже знаем отзыв В.Инбер, а вот слова М.Светлова: «Если бы меня спросили: с кем бы ты остался в осаждённой крепости, я бы, не задумываясь, ответил: с Митькой Кедриным!»…
Когда-то в сердце молодом
Мечта о счастье пела звонко.
Теперь душа моя - как дом,
Откуда вынесли ребенка.
А я земле мечту отдать
Все не решаюсь, все бунтую…
Так обезумевшая мать
Качает колыбель пустую.
15 июня 1941 г.
Доподлинно неизвестно, что же произошло в его жизни первым послевоенным летом и ранней осенью. Дочь поэта Светлана вспоминает: незадолго до смерти к нему явился близкий друг по Днепропетровску, ставший в эти годы большим человеком в СП и немало помогавший нашей семье, и предложил папе доносить на своих товарищей: «Там знают, что все считают тебя порядочным человеком и надеются, что ты им поможешь…». Отец спустил приятеля с крыльца, а тот, встав и отряхнув брюки, с угрозой в голосе произнёс: «Ты ещё об этом пожалеешь»… 15 сентября 1945 г. отец поехал по каким-то делам в Москву (а они жили тогда в ближнем Подмосковье) и, вернувшись, потрясённо сказал: «Скажи спасибо, что ты сейчас видишь меня перед собой. Только что на Ярославском вокзале какие-то дюжие молодцы чуть не столкнули меня под электричку. Хорошо люди отбили».

Много видевший, много знавший,
Знавший ненависть и любовь,
Всё имевший, всё потерявший
И опять всё нашедший вновь.
Вкус узнавший всего земного
И до жизни жадный опять,
Обладающий всем и снова
Всё боящийся потерять.
Июнь 1945
Изуродованное тело Д.Кедрина было обнаружено недалеко от железнодорожных путей, вблизи платформы Вешняки, что по Казанской дороге. Считается, что накануне, незадолго до полуночи, он на полном ходу был выброшен из тамбура электрички. Его убийцы остались неизвестными. Есть разные версии, но ясно одно: кто бы они ни были, они были бандитами. С погонами или без - уже не имеет значения… Светлана приводит строчки из дневника, в которых её мать описывает утро 18 сентября 1945 г., то последнее утро: Митя глядел в книжку. Не знаю, читал ли он её или думал. И я подумала: неужели этот человек - мой муж? Неужели он так нежен и ласков со мною, неужели его губы целуют меня?.. И я подошла к нему. «Что, милая?» - спросил Митя и поцеловал мою руку. Я прижалась к нему, постояла и отошла. Через несколько минут Митя ушел из дома на поезд в Москву… Я проводила его до дверей, Митя поцеловал мои руки, в голову. И вышел… в вечность от меня, от жизни. Больше я Митю не видела. Через четыре дня я увидела его фотографию, последнюю и такую страшную. Митя был мёртв. Какой ужас был в его глазах! Ах, эти глаза! Они сейчас всё мне мерещатся…

Д.Б. Кедрин, русский Дон Кихот в роговых очках, похоронен в Москве, на Введенском кладбище в районе Лефортова.
Валентин Антонов, октябрь 2008 г.
http://www.vilavi.ru/sud/111008/111008.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 23 Июл 2015, 15:32 | Сообщение # 27 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | ИОСИФ УТКИН
(27.05. 1903 - 13.11. 1944)

Он пришёл в поэзию из революции. Один из самых талантливых «комсомольских поэтов», о себе он написал так: «Я принадлежу к той счастливой части молодёжи, которая делала революцию и которых сделала революция. Поэтому я говорю не о влиянии Октября на моё творчество, а о рождении моего творчества из Октября». Поэт времени не выбирал - это время выбрало его.
Ни глупой радости,
Ни грусти многодумной,
И песням ласковым,
Хорошая, не верь.
И в тихой старости,
И в молодости шумной
Всегда всего сильней
Нетерпеливый зверь.
Я признаюсь…
От совести не скрыться:
Сомненьям брошенный,
Как раненый, верчусь.
Я признаюсь:
В нас больше любопытства,
Чем настоящих и хороших чувств.
И песни пел,
И в пламенные чащи
Всегда душевное носил в груди,
И быть хотел -
Простым и настоящим,
Какие будут
Только впереди.
Да, впереди…
Теперь я между теми,
Которые живут и любят
Без труда.
Должно быть, это - век,
Должно быть, это время -
Жестокие и нужные года!
Детство и юность Иосифа прошли далеко-далеко от Москвы, в Иркутске. Семеро детей простого железнодорожного служащего и без того не были избалованы, а когда семью оставил отец, то пришлось совсем худо: «Семья без хлеба. Мать мечется. Надо работать. Где работать? Кому работать? Мне, мальчишке. Где придётся»… И вот когда через Иркутск, вдоль Транссиба, прокатилась волна Гражданской войны и пришло время выбора, то выбора у него фактически и не было: едва ему исполнилось 17 лет, Уткин, один из первых иркутских комсомольцев, отправился на Дальний Восток - добивать белых. Потом была журналистская работа и первые стихи.
Вошёл и сказал:
«Как видишь, я цел,
Взять не сумели
Враги на прицел.
И сердце не взяли,
И сердце со мной!
И снова пришёл я,
Родная, домой.
Свинцовые ночи
Не ждут впереди!»
И орден пылал у него на груди.
А очи - как дым!
А сердце - как дым!
Так радостно жизнь
уберечь молодым!
И больно сказала
Седая мать:
«Мой милый,
Устала я плакать и ждать.
Я знаю, как много
Страданий в бою.
Но больше боялась
За совесть твою.
Скажи: человеком
На фронте ты был?..»
И глухо сказал он:
«Семнадцать убил…»
И годы - как дым,
И радость - как дым,
Так горестно жизнь потерять
молодым!..
И больше никто
Говорить не мог.
И молча солдат
Ступил за порог.
А сзади, как водная
Муть глубока,
Глазами старухи
Смотрела тоска.
Он шел к горизонту,
Тоска - впереди,
И орден…
Дрожал у него на груди.
Ах, бедная мать!
Ах, добрая мать!
Кого нам любить?
Кого проклинать?
В 1924 году молодого комсомольского поэта и журналиста направили на учёбу в Москву. Новые знакомства, громкие имена, жаркие споры. Стремительно ворвавшись в московскую поэтическую жизнь второй половины 20-х годов, Уткин быстро стал известен. Выходит первая, а затем и вторая книжка его стихов. Нарком просвещения А.Луначарский, человек сам по себе неординарный, откликнулся на них весьма положительной рецензией: "Уткину присущ чрезвычайно мягкий гуманизм, полный любовного отношения к людям. Эта любовь не сентиментальна. Она горяча и убедительна. Она совершенно легко сочетается с мужеством революционера и порою даже с необходимой для революционера жестокостью… Но там, где обе эти ноты- сознание революционного долга, заключающегося в служении перестройке на высших началах всей человеческой жизни, и сердечная нежность - соединяются в один аккорд, получается особенно очаровательная музыка. Она и слышится в строфах Уткина".
Луначарский верно подметил тут особенность многих стихов И.Уткина, очень для него характерную: сочетание «чрезвычайно мягкого гуманизма» - и «мужества революционера», «сердечной нежности» и «сознания революционного долга». Поэту досталось жестокое время, и он никогда не прятался за спинами других.
Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это - другая.
Это значит… сырая земля.
Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с родиной мне.
Только вам я всем сердцем и внемлю.
Только вами и счастлив я был:
Лишь тебя и родимую землю
Я всем сердцем, ты знаешь, любил.
И доколе дубы-нелюдимы
Надо мной не склонятся, дремля,
Только ты мне и будешь любимой,
Только ты да родная земля!
В период учёбы в институте, во второй половине 20-х годов, и происходило формирование Уткина как поэта со своим собственным голосом в литературе. Для русской поэзии те годы были годами поиска новых форм и новых тем. Только-только не стало С.Есенина, стремительно восходила на поэтический небосклон звезда В.Маяковского. «Комсомольские поэты» 20-х годов… М.Светлов, И.Уткин, А.Жаров, А.Безыменский, М.Голодный, Б.Корнилов… Это потом уже кто-то из них заматереет, а кто-то погибнет. По-разному сложатся их судьбы, и совсем неодинаковым окажется их вклад в литературу. А тогда всем им было около 25-ти, все они были молоды, влюбчивы и талантливы - каждый по-своему.

И.Уткин и М.Светлов
В январе 1928 г. группу молодых поэтов, среди которых был и Иосиф, направили в двухмесячную поездку за границу. Они своими глазами увидели Чехословакию, Австрию, Италию, Францию и 10 дней провели в Сорренто, у Горького. Беседовали, читали стихи, спорили. Горький в те дни написал Сергееву-Ценскому: «Сейчас у меня живут три поэта: Уткин, Жаров, Безыменский. Талантливы. Особенно первый. Этот далеко пойдёт»…
На столе - бутылка водки,
Под столом - разбитый штоф.
Пью и плачу я… ах, вот как
Обернулась ты, любовь!
Я - и душу, я - и тело…
Я и водку начал пить…
Для меня ты не хотела
Юбки новой позабыть.
Ах, всё чаще, чаще, чаще
Вижу я твоё манто.
Проезжает моё счастье
В лакированном авто.
Юбка, шляпка дорогая,
Сумка с модным ремешком…
Наплевать… Любовь, я знаю,
Ходит под руку пешком.
Он не знает, он не спросит,
Любишь ты или шалишь.
Поиграет он и бросит,
И укатит в свой Париж.
Побледнеют твои губы,
Ручка высохнет твоя…
Кто тебя тогда полюбит,
Парижаночка моя?
Кто такая - не она ли
Ходит в кофте голубой?..
На каком-нибудь канале,
Может, свидимся с тобой?
С годами в творчестве Уткина всё более и более проступала та сама «сердечная нежность» и тот самый «чрезвычайно мягкий гуманизм, полный любовного отношения к людям», которые уже по первым его стихам подметил Луначарский. Постепенно выяснялось, что даже, казалось бы, сугубо публицистические темы поэт предпочитает отражать вовсе не барабанным боем, а какой-то только ему свойственной «очаровательной музыкой» (тоже определение Луначарского). Маяковский, хорошо знавший Уткина и прекрасно ведь понимавший его талант, в духе того времени нередко высмеивал неуместный в революции лиризм его стихов - то, что тогда клеймили как пошлость и мещанство:
О бард,
сгитарьте тарарайра нам!
Не вам строчить
агитки хламовые!
И бард поёт,
для сходства с Байроном
на русский на язык
прихрамывая.
Не исключено, что подобные выпады Маяковского по поводу стихов Уткина объяснялись, главным образом, тем, что он, по словам Евтушенко, просто-напросто ревновал, «по-детски завидуя его успеху у женщин, его роскошной игре на биллиарде (хотя сам был тоже очень сильным игроком)».
«Сегодня не личное главное, // А сводки рабочего дня…». Эти строки из популярной в 70-е годы песни, вызывавшие тогда лишь некую ностальгию по героическим незастойным временам, на стыке очень героических 20-х и 30-х годов многими воспринимались буквально. Да вот и Маяковский писал (в стихотворении «О дряни», от имени висящего на стене портрета Маркса):
… Скорее
головы канарейкам сверните -
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!
Одной из таких «канареек» стал Иосиф. Весной 1929 г. журнал «Молодая гвардия» в статье под названием «Иосиф Уткин как поэт мелкой буржуазии» заклеймил его как «мещанина». Это было уже серьёзно. За это ещё не сажали, но уже травили…
Мне всегда зимою снится -
Этот сон я берегу -
Серебристая синица
Звонко плачет на снегу.
А подвыпивший прохожий
Метит камнем в певчий цвет.
Правда? как это похоже
На твою судьбу, поэт!..
В мае нежность постучится,
Грея крыши, плавя снег,
И влюбился под синицу
Тот же самый человек!
В день, когда борьба воскреснет,
Он согреет гнев и пыл
Боевой, походной песней -
Той, что я ему сложил!..
Ты, поэт, борьбой измучен?
Брось, борьба во всём права!
Гнев и нежность нас научат
Уважать твои слова…
Самое начало 30-х годов словно бы выпало из творчества Уткина. Лишь к середине десятилетия к нему в полной мере возвращается его неповторимый поэтический голос: прежде всего он лирик, даже если пишет на злобу дня. Никакой манерности, вычурности, никаких диковинных форм - классическая простота, предельная искренность, любовь, нежность и боль.
На вокзале хмуро… сыро…
Подойти сейчас к кассиру
И сказать без всякой фальши:
«Дайте мне билет подальше.
Понимаете… мне худо…»
А кассир: «Билет?.. Докуда?
До какого то есть места?»
- «Неизвестно!»
- «Не-из-вест-но?
А в каком, простите, классе?»
Пригибаюсь к самой кассе:
«Хоть на крыше, хоть в вагоне!..
Пусть в огонь!
Но только пусть
Этот поезд не догонит
Ни моя любовь,
Ни грусть…»
Вспоминая о своих встречах с поэтом, известный советский художник-график Б.Ефимов так описывал его внешность: "Иосиф Уткин… Ему больше к лицу была бы другая, не такая безобидная фамилия. Например, Орлов или Ястребов. На худой конец, Дроздов или Соколов. Он был статным, стройным, с горделивой осанкой, с волнистой копной непокорных волос, что называется, «красавец-мужчина». Под стать внешности были и его стихи - красивые, звонкие…"
Одинокий, затравленный зверь, -
Как и я, вероятно, небритый, -
Он стучится то в окна, то в дверь,
Умоляя людей: «Отвори-и-те…»
Но семейные наглухо спят.
Только я, не скрывая зевоты,
Вылезаю к товарищу в сад,
Открываю окно: «Ну, чего ты?..»
Что поделаешь… ветру под стать,
У семейных считаясь уродом,
Не могу, понимаете, спать,
Если рядом страдает природа!..
Характерной особенностью его стихов является их напевность. Фактически, почти все его стихи представляют собой готовые песенные тексты и легко ложатся на музыку.
[…] В смертельные покосы
Я нежил, строг и юн,
Серебряную косу
Волнующихся струн.
Сквозь боевые бури
Пронёс я за собой
И женскую фигуру
Гитары дорогой!
В довоенные годы слово «бард» вовсе не имело того смысла, которое мы вкладываем в него теперь. Тем более поразительно, что в приведённой выше эпиграмме Маяковский называет Уткина именно «бардом». И по какому-то удивительному совпадению в качестве текста для своей самой-самой первой песни, написанной в конце 1962 года, С.Никитин выбрал именно стихотворение «В дороге»:
Ночь, и снег, и путь далёк;
На снегу покатом
Только тлеет уголёк
Одинокой хаты.
Облака луну таят,
Звёзды светят скупо,
Сосны зимние стоят,
Как бойцы в тулупах.
Командир усталый спит,
Не спешит савраска,
Под полозьями скрипит
Русской жизни сказка.
… Поглядишь по сторонам -
Только снег да лыжни.
Но такая сказка нам
Всей дороже жизни!
"В дороге"
В репертуаре С.Никитина есть и другие песни на стихи Уткина. Например, текст популярной «бардовской» песни, известной под названием «Любовь моя, Снегурочка», - это стихотворение Уткина «Снегурочка», написанное им незадолго до войны:
Любовь моя, снегурочка,
Не стоит горевать!
Ну, что ты плачешь, дурочка,
Что надо умирать?
Умри, умри не жалуясь…
Играя и шутя,
Тебя лепило, балуясь,
Такое же дитя.
Лепило и не думало,
Что не весёлый смех -
Живую душу вдунуло
Оно в холодный снег!
И что, когда откружится
Безумный этот вихрь,
Останется лишь лужица
От радостей твоих…
Стихотворение называется «Типичный случай», оно было написано Уткиным в середине 30-х годов:
Двое тихо говорили,
Расставались и корили:
«Ты такая…»
«Ты такой!..»
«Ты плохая…»
«Ты плохой!..»
«Уезжаю в Ленинград… Как я рада!»
«Как я рад!!!»
Дело было на вокзале,
Дело было этим летом,
Всё решили. Всё сказали.
Были куплены билеты.
Паровоз, в дыму по пояс,
Бил копытом на пути:
Голубой курьерский поезд
Вот-вот думал отойти.
«Уезжаю в Ленинград… Как я рада!»
«Как я рад!!!»
Но когда чудак в фуражке
Поднял маленький флажок,
Паровоз пустил барашки,
Семафор огонь зажёг…
Но когда…
Двенадцать двадцать.
Бьёт звонок. Один, другой.
Надо было расставаться…
«До-ро-гая!..»
«До-ро-гой…»
«Я такая!»
«Я такой!»
«Я плохая!»
«Я плохой!»
«Я не еду в Ленинград… Как я рада!»
«Как я рад!!!»
"Уезжаю в Ленинград"
Из воспоминаний Б.Ефимова: "В предвоенные годы Уткин продолжал вращаться в «высшем свете» столицы с утвердившейся репутацией покорителя женских сердец. Казалось, он войдёт в историю литературы этаким не очень серьёзным, временно модным поэтом, о которых с такой иронией писал Маяковский. Но грянувшая вскоре Великая Отечественная война стала суровой и беспристрастной проверкой людей, их подлинной сущности. Уткин успешно выдержал это испытание…"
Над землянкой в синей бездне
И покой, и тишина.
Орденами всех созвездий
Ночь бойца награждена.
Голосок на левом фланге:
То ли девушка поёт,
То ли лермонтовский ангел
Продолжает свой полёт.
Вслед за песней выстрел треснет -
Звук оборванной струны.
Это выстрелят по песне
С той, с немецкой стороны.
Голосок на левом фланге
Оборвётся, смолкнет вдруг…
Будто лермонтовский ангел
Душу выронит из рук…
С самого начала войны Уткин стал фронтовым журналистом и фронтовым поэтом. Многие из его страстных стихов той поры написаны непосредственно на передовой, в блиндажах и окопах. Никогда ещё не писал он так много стихов, как в военные годы. И это вовсе не было какой-то особой публицистической поэзией, нет! В его военных стихотворениях мы видим ту же искренность, ту же простоту формы и ту же напевность, которые и составляют его поэтический стиль. Ибо, как писал сам поэт, «лирика есть не жанр, как у нас наивно привыкли думать, а натура художника».
Это были стихи о людях на войне, стихи о бесстрашии, о верности и о родной земле. Его военные стихи помогали бойцам выжить и победить, их знали, их читали в перерывах между боями, их пели…
Лампы неуверенное пламя.
Непогодь играет на трубе.
Ласковыми, нежными руками
Память прикасается к тебе.
К изголовью тихому постели
Сердце направляет свой полёт.
Фронтовая музыка метели
О тебе мне, милая, поёт.
Ничего любовь не позабыла,
Прежнему по-прежнему верна:
Ранила её, но не убила
И не искалечила война.
Помню всё: и голос твой, и руки,
Каждый звук минувших помню дней!
В мягком свете грусти и разлуки
Прошлое дороже и видней.
За войну мы только стали ближе,
Ласковей. Прямей. И оттого
Сквозь метель войны, мой друг, я вижу
Встречи нашей нежной торжество.
Оттого и лампы этой пламя
Для меня так ласково горит,
И метель знакомыми словами
О любви так нежно говорит…
Это стихотворение было опубликовано 19 мая 1944 г. Через неделю, 27 мая, И.Уткину исполнился 41 год. 13 ноября, самолёт, на котором он возвращался в Москву, потерпел катастрофу и разбился. Последней книжкой, что держал в руках погибший поэт, был томик Лермонтова…
$IMAGE4$
И.Б. Уткин похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Валентин Антонов, май 2009.
http://www.vilavi.ru/sud/300509/300509.shtml
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 30 Сен 2015, 21:56 | Сообщение # 28 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕСЕНИНА

С модной тростью,
В смокинге цивильном,
Он ходил, шокируя цилиндром
Революционную Москву:
Барду, избалованному славой,
Нравилось мальчишеской забавой
Волновать неверную молву.
А ночами мастером суровым,
Раздвигая зрение над словом,
Он вгрызался в недра языка.
Каторжна была его работа.
Но светлы мгновения полёта
Над рябым листом черновика.
Снова неожиданным ознобом
Он идёт по сумрачным сугробам
Сквозь колонны скорби и любви,
Чтобы снова вспыхнуть, как легенда,
Воплотившись в бронзу монумента,
В храм нерукотворный на крови.
Грустный, словно музыка из сада,
Нежный, словно лепет звездопада,
Вечный, словно солнечный восход,
Кто же он, как не сама природа, –
Юноша, пришедший из народа
И ушедший песнею в народ?!
Ю.Паркаев

Цветы мне говорят: «Прощай!..»
Сергей Есенин
Это только кажется,
Что травы
Говорят прощальные слова!..
Ты стоишь,
Весёлый и кудрявый,
Выпуская май из рукава.
А в ногах – не золото,
Не жемчуг,
А луга, да неба синева,
И роса…
И губы сами шепчут
Вещие бессмертные слова.
А над полем золотится вечер,
Льётся звон в вечерней тишине…
Это Русь идёт к тебе навстречу
В материнском старом шушуне.
Ты глядишь
Влюблённый из влюблённых,
На её бесхитростный наряд,
И луга в ромашковых коронах
Не «прощай»,
А «здравствуй!» – говорят.
Ю.Паркаев

Ещё не поросли тропинки,
Что слышали твои шаги.
И материнскою косынкой
Ещё пестрят березняки.
И говор леса, говор дола,
И говор горлинок в лесах
Зовут тебя к родному дому,
Счастливого или в слезах.
Им всё равно, каким бы ни был, –
Найдут и ласку и привет.
По вечерам играет рыба
И бабочки летят на свет.
И розовеющие кони
В закатном отсвете храпят.
И в голубых туманах тонет
Пугливый голос жеребят.
Всё ждёт тебя.
Всё ждёт, не веря,
Что за тобой уж столько лет
Как наглухо закрыты двери
На этот самый белый свет.
Ты нам оставил столько сини!
А сам ушёл, как под грозой,
Оставшись на лице России
Невысыхающей слезой.
В.Фирсов

Есенинское небо над Россией
Раскинулось, как голубой шатер,
А в поле василек хрустально-синий
Ведет с ромашкой звонкий разговор.
Звенит листвою изумрудной лето,
Звучат незримые колокола,
Березы - сестры русского рассвета -
Сбежались у околицы села:
В них жажда жить до трепета, до дрожи,
Им повезло - он здесь бродил в тиши.
На их коре, на их шершавой коже -
Тепло его ладоней и души.
Он чувствовал в родном многоголосье
И многоцветье, близко и вдали,
Как во поле колышутся колосья
России всей и всей большой земли.
Он видел, как ложится синий вечер
Пушистой шалью на плечи села.
И в ельнике ему горели свечи,
И в городе земля его звала...
Он так любил, что мы забыть не в силах
Тоску поэта, радость и печаль.
Ведь главная любовь его - Россия -
Земля добра и голубая даль.
И в дом его со ставнями резными
По-прежнему мы входим не дыша.
Сергей Есенин - то не просто имя, -
России стихотворная душа.
Т.Зубкова

Поле – поле, грусть святая,
Пьёт живую влагу рос.
Паутина улетает
В край есенинских берез.
Раскраснелось бабье лето,
Жухлым золотом поля.
Где-то песня не допета,
О тебе, моя земля.
Клён опавший, лист сгоревший,
Крик прощальный журавлей.
От тальянки, охмелевший,
Синеглазый, соловей.
Песня ноту в небо тянет,
Душу, вынимая вновь.
Не угаснет, не увянет,
Русь, к тебе его любовь.
Леса кудри золотые,
Ветер тихо шевельнёт.
В песне, где слова живые,
Голос Родины живёт.
Он поклон земле родимой,
Шлёт, душой пронзив века.
Грусть души его ранимой,
Бесконечна, как река.
Н.Самкова

Растеклась пелена осенняя,
распогодилась при луне.
Я возьму, перечту Есенина:
"Шаганэ моя... Шаганэ..."
Потеряются между строчками
и хандра моя и печаль.
Листья падают многоточием..
То ль жаль мне их...То ль не жаль...
Растворяется мгла осенняя,
новым чувством волнуя кровь.
Осень - это душа Есенина
и, конечно, его любовь...
С.Семенов

Догорает костер рябиновый.
Снова осень. Плачут дожди.
Я вернусь к тебе, Константиново!
Ты чуть-чуть меня подожди.
Я вернусь к тебе обязательно,
Мне теперь без тебя не жить.
Поняла теперь окончательно,
Что нельзя тебя не любить.
Под курлыканье журавлиное
Я зайду в тот знакомый сад.
Полыхает костер рябиновый
И горит над рекой закат.
Обниму я знакомый тополь,
По тропинке к реке пройдусь.
Ни Босфор, ни Константинополь
Не заменят матушку-Русь.
Догорает костер рябиновый.
Скоро, скоро туда вернусь!
Я люблю тебя, Константиново!
Я люблю тебя, моя Русь!
С.Пересветова

Люблю его особенной любовью,
Проникшись всеми силами души
В его стихи, пропитанные болью,
Рожденные раздумьями в тиши.
Он лишь ему присущим нежным слогом
Делился всеми чувствами, как мог,
Но не успел нам рассказать о многом,
Не дописал простых, красивых строк.
В родной "стране березового ситца"
С растерзанной, измученной душой,
Он, раненая коршунами птица,
Обласкан был природою одной.
И как береза в хмурый день осенний,
Склонил вдруг ветви до самой земли,
Ты не один грустишь, Сергей Есенин,
Позволь с тобою погрустим и мы.
С.Майская

Есенина читаю каждый день…
Россия в снег, как в серебро одета.
А где-то на земле цветёт сирень,
И девушка в накидке лёгкой где-то.
Всё ждёт и не дождётся соловья,
Что пел весенней ночью у калитки.
Цветные иноземные открытки
Летят в его российские края.
И мчатся сани, расписные сани,
Взметая снег до звёздного ковша.
Под бубенцы завьюженной Рязани
Поёт и плачет русская душа.
Уже в другом столетье вороные
Его несут по серебру России.
Голубоглазый.
Шапка набекрень…
А где-то на земле цветёт сирень.
Валео Мн

Друг мой... Ну как же так случилось.
Не знал тебя я лично никогда,
Но ты - частица светлого прозренья,
Когда с кладбища выходил тогда
В мою главу вонзилось вдохновенье.
Ты вдохновил меня писать стихи
О жизни, о судьбе прекрасной
Быть может на меня и смотришь ты
Твоя душа воистину потрясна.
Твои стихи запомню навсегда
Перечитаю книгу в воскресенье
Покойся в мире, пролетят года
Но память не затрётся в поколеньях.
И не забуду я тебя вовек
Того поэта, под земельной сенью
Мой верный друг, товарищ, человек
Со светлым именем - СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.
(с)
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 31 Мар 2016, 16:16 | Сообщение # 29 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | К 80-летию поэта
КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ
(14.05. 1930 - 10.04. 2017)

Пареньку на старом снимке - всего 16 лет. Наверное, теперь только сам Кирилл и может сказать, почему в первый послевоенный год паренёк этот предпочитал пользоваться окном вместо дверей. Всё у него было ещё впереди, и все ещё были живы… Из стихотворения, написанного ровно 63 года назад, 7 марта:
Вот скатился на пол яркий уголь,
Прокатился, шипя, засверкал,
Но как будто от силы недуга
Становился всё менее ал.
Постепенно тускнел, остывая,
Почернел… совершенно погас…
Я задумался: участь такая,
Может быть, ожидает и нас.
Может быть, романтический путник
Надевает в итоге халат.
Вместо чуда сбываются будни…
Знаю. Слышал. Все так говорят.
Всё под старость считают химерой -
Так всегда в нашем кратком веку…
Я себя заставляю поверить,
Но поверить я всё ж не могу!
Его первым литературным наставником был Пушкин. Огромный однотомник с картинками вначале манил, а потом, когда мальчик научился читать, - очаровывал.
- Ещё шла война, когда я в 9 классе влюбился и стал писать стихи. Это увлечение оказалось куда сильнее влюблённостей, которые сменяли одна другую. К концу школы у меня в тетрадях накопилось около трёхсот стихотворений. Жил я в провинции (в Аккермане, переименованном в 1944-ом году в Белгород-Днестровский), никаких живых поэтов в глаза не видел… Интуитивно чувствовал, что время не было моим, потому писал для себя, своих друзей и подруг. Большинство начальных стихов так и осталось неопубликованным. Но это не значит, что я от них отказался…
«Когда я влюбился и стал писать стихи»… Полагаю, что тут всё не так. Почти уверен, что влюбился он впервые вовсе даже не в 9 классе, и уж точно знаю, что первое своё стихотворение будущий русский поэт написал гораздо раньше и не по-русски - случилось это с ним в 1-ом классе румынской школы. Тогда же произошло и первое его знакомство с нравами литературной (и не очень литературной) критики, надолго отбившее у мальчика всякую охоту самому писать стихи. А потом - потом пришла война, на какое-то время ставшая для него «главным интересом»:
Война застала меня в Аккермане. Но отец решил нас отвезти подальше от войны, в Одессу, считая, что это глубокий тыл. А когда в Одессу пришли румыны, мы вернулись в Аккерман. Границы ходили через меня, и фронты. Хотя и мы бегали. Сначала на восток, в Одессу, а в сорок четвёртом году в Румынию, в городок Калафат. Как только Румыния сдалась, мы опять вернулись домой в Аккерман…
Пушкин и война… Удивительное и странное это единение - оно и формировало его душу... Его стихи к окончанию школы были опубликованы в местной газете. Это была первая его публикация. Кириллу тогда очень хотелось в Литинститут. Но не получилось. Отец отговорил: «Стихи - не профессия. Они твоя любовь». Недолгая учёба в одесском институте «на инженера» была прервана арестом отца поздней осенью 1947 г. Мать осталась одна, и Кирилл перевёлся в Белгород-Днестровский учительский институт. Лишь через несколько лет, неожиданно для себя получив вызов, он всё-таки приехал с «красным дипломом» в Москву и поступил в тот самый Литинститут.
- На радостях я две недели шатался по Москве - ездил наугад, шёл куда глаза глядят. И, знакомясь со столицей, увидел больше, чем за многие последующие годы…

Воспоминания К.Ковальджи о годах, проведённых им в Литинституте, о его однокашниках, будущих известных и неизвестных литераторах, о маститых педагогах и о самом том времени - это и «Встречи с Долматовским», и воспоминания о Фёдоре Сухове, и «Весенний «Март». Вообще, его воспоминания - эти его «Моментальные снимки» и «Мою мозаику» - читать необычайно интересно. Необычайно. Словно короткие и яркие вспышки выхватывают из темноты ушедших лет, казалось бы, совершенно незначительные детали, лица, предметы, события…
Зачеркнула, отвернулась - удаляется, уходит…
Календарь меня из кадра вытесняет и уводит,
а за дверью мокрый ветер до рассвета колобродит, -
что такое происходит, что такое происходит?
В темноте воспоминанье спотыкается и бродит,
листопады старых писем под любым кустом находит,
а глумливые вороны свои выводы выводят, -
что такое происходит, что такое происходит?
Пепел тихо оседает, с головы уже не сходит,
за нос водит заваруха, а с ума старуха сходит,
рельсы мимо остановок поезда в туман уводят,
что-то в мире происходит, происходит, происходит…
Его стихи, как и его проза - они изысканны. И я говорю сейчас не только о форме и не столько даже о форме, на мой взгляд, она безупречна. Нет, я вовсе не о том. Естественный, неразделимый на части сплав интеллекта, мудрости, нравственного здоровья и литературного таланта, вот что такое его стихи и его проза. Этому не учат в институтах, этому невозможно научить. Это или есть, или этого нет. Зная Ковальджи не первый уже год, могу ко всем цитатам и выпискам добавить ещё и то, чего в них не найдёшь. Вот что: все его стихи, все его опубликованные воспоминания, наблюдения и размышления - они вовсе не напоказ написаны или как-то «приглажены», припудрены» и «дотянуты» до какого-то «возвышенного» уровня. Вовсе нет! Во всём им написанном нет ни капельки лицемерия, фальши, насилия над собственной натурой. Он и в обыденной жизни точно такой же, как в своих стихах: ироничный, мудрый, деликатный, иногда - в меру физических сил - взрывной, но всегда в высшей степени порядочный.
Край судьбы ощутив
всеми фибрами, кожей
за обшивкой, за тонким листом,
за стеклом,
я лечу, как болид,
обегаемый дрожью,
в оболочке стальной
с неподвижным крылом.
Подо мной пустота,
неземное зиянье,
высота без опор
и пространства провал,
и свистящая скорость -
на месте стоянье,
стюардесса вино
наливает в бокал…
«Надо бы просто поставить оценку и промолчать, но требуют слов. Не так часто стихи вызывают восторг. Это шедевр. Спасибо» - так об этом стихотворении отозвался В.Новожилов.

Ожил в сумерках магнитофон,
ленту старую сводит судорога,
воскресает весёлая сутолока,
хохот, тост, хрусталя перезвон.
Снова вместе мы, живы родители,
сомневаться в удаче нельзя:
там любимые нас не обидели,
и не стали врагами друзья.
Голоса…
Словно чёртик из ящика,
прямо в комнату - праздничный час.
Чудеса! Только в то настоящее
не пускают из этого нас.
Там не ведают всё, что последует,
и не надо. Пускать нас не следует.
Ещё раз прокрути,
ещё раз…
«Пишу стихи и прозу давно - с середины прошлого века. Печатаюсь тоже с тех пор, но никогда особенно заметен не был. Не старался быть «в русле», предпочитал оставаться самим собой. Только теперь, к старости, стал писать лучше». - такие строки предпослал К.Ковальджи своим стихотворениям. Есть поэты (и их немало), которых часто навещает вдохновение, но которым просто нечего сказать другим людям. Есть поэты, прочно оседлавшие Пегаса, но стихи которых столь же изощрённы по форме, сколь и холодны по сути. Что главное в поэте? Умение ли подбирать незатасканные рифмы? Или чувство ритма, которому позавидовал бы Фред Астер? Или обширные гуманитарные познания, позволяющие ему непринуждённо проводить параллели и отыскивать истоки? Или энциклопедическая память, хранящая тысячи строк, написанных его коллегами во все века? Или безошибочное понимание того, что ждёт от него читатель теперь? Что же главное в поэте?.. Всё это, наверное, нужно. Именно этому учат в литинститутах. Но всё это - не главное. Поэт никогда не станет настоящим поэтом, если «масштаб личности» - мелковат. Ковальджи - он личность в полном смысле слова, и это, быть может, главное в нём.
«Я вас люблю и помню ещё с журнала «Юность»… В его жизни было два журнала «Юность». Первый, рукописный, он сделал ещё в школе, во втором - в том самом знаменитом нашем журнале, который существует и теперь, но который был особенно популярен и востребован в последние десятилетия СССР - он долгие годы заведовал отделом критики.
Новая книга -
оказывается, я её уже читал.
Новый фильм -
оказывается, я его уже видел.
Незнакомый город -
почему-то знаком.
Потрясающая новость -
я её уже слышал.
Сегодняшнюю газету
я читал давно,
у сегодняшнего моря
вчерашние волны,
на сегодняшней сцене
вчерашний спектакль,
только актёры другие,
другие…
Этого воробья
я уже видел,
эту кошку
я уже гладил,
Эту женщину
я уже любил,
этого малыша
я уже вырастил,
это вино
я уже пил…
Я живу,
но я уже жил.
Ковальджи учился в Литинституте в те годы, когда страна отряхивалась от военного оцепенения, когда в её культурной жизни всё настойчивей пробивались ростки чего-то нового, ещё непонятного, но так непохожего на довоенные образцы. Будущие кумиры миллионов, они ведь были тогда очень молоды. Ф.Искандер, Ю.Трифонов, Е.Евтушенко, В.Солоухин, Р.Рождественский - кто немного постарше, кто чуточку моложе. Удивительная аура тех неповторимых лет.

К.Ковальджи с Арс.Тарковским
Воспоминания Ковальджи о встречах с этими людьми читаются на одном дыхании. Воспоминания эти поистине бесценны. Тонко подмеченные детали, вскользь брошенные фразы и, казалось бы, несущественные мелочи создают объём и говорят зачастую гораздо больше пространных жизнеописаний. Вот, к примеру, кусочек из его воспоминаний об А.Тарковском, проникнутых удивительной теплотой, местами даже трогательных. Кирилл познакомился с ним зимой 1956-57 года. Познакомился и с его творчеством, и даже с творчеством Мандельштама - так получилось, что именно Тарковский открыл для него мир Мандельштама. Познакомился и потом много раз бывал у него в гостях. В своих воспоминаниях, как и в своих стихах, Ковальджи предельно откровенен и одновременно, предельно деликатен. Там нет ни конформизма, ни кокетства, ни самолюбования, зато там есть изрядно приправленная иронией и теперь уже немного усталая мудрость, спокойная мудрость немало повидавшего на своём веку человека.
Что-то я забыл, что-то я забыл,
и никак не вспомню,
все дела я перебрал:
что же я забыл?
День прошёл, а перед сном
я внезапно понял:
собирался я звонить
той, кого любил…
Перечитывая его стихотворения, я вдруг поймал себя на мысли, что мне очень трудно выбрать из них что-то немногое, для показа, и пройти с сожалением мимо остальных. Потому что, по большому-то счёту, все его стихи, вот все они в целом - это словно один большой, красивый, хорошо сбалансированный и необыкновенно цельный метастих.
Любовь не умирает -
улетучивается,
как в комнате - духи,
как на цветах роса…
Любовь не умирает -
только мучается
и тает, как без веры -
чудеса.
Любовь необеспеченными
вечностями
за миг расплачивается
сполна, и как легко
свечением увенчивается,
так и развенчивается
она…
Характерная черта всякого таланта - это его непонятная многим разбросанность, то непередаваемое ощущение данной тебе божественной силы, рвущейся наружу и заставляющей человека раскрывать себя в новом и по-новому. И пусть черта эта не достаточная, но - необходимая. Ещё одной совершенно естественной чертой талантливого человека является ощущение им своей внутренней свободы - того, что можно было бы назвать суверенностью его личности. Того, что проявляется и в обыденной жизни человека, и в его художественном творчестве: все свои поступки такой человек сверяет с некими внутренними эталонами, которые всегда имеют у него приоритет над эталонами внешними. Но тут есть нюансы: эталон эталону рознь.
Люби, пока не отозвали
меня. Люби меня, пока
по косточкам не разобрали
и не откомандировали,
как ангела, за облака.
Люби, пока на вечной вилле
не прописали и Господь
не повелел, чтоб раздвоили
меня на душу и на плоть.
Люби, пока земным созданьем
живу я здесь, недалеко,
пока не стал воспоминаньем,
любить которое легко…
«И кому-то воображаемому, которому нужен я. Но таковой, боюсь, не предвидится»… Эти строки были написаны им ровно 10 лет назад. Понимает ли К.Ковальджи теперь - этот скромный и светлый человек, талантливейший поэт и Личность с большой буквы - понимает ли он теперь, как он нужен всем нам?.. И что он для всех нас значит - для всех, кто его любит и ценит?.. И сколько таких людей, кому он подарил тепло своей души и надежду?..
Ничего не хочу!
Я открыл эту радость под старость.
Ничего не хочу.
Замечательно, что не хочу,
что по телу течёт и течёт
золотая усталость,
заливая года,
как оплавленным воском свечу.
Тишина заплела
в убедительном вечном повторе
всё, что будет и есть,
с тем, что было когда-то давно…
«Ничего не хочу», -
повторяет усталое море,
убаюкивает перед
завтрашним штормом оно.
Не сокрушайтесь от того, что море устало - это обманчивое впечатление. Тому пареньку со старого снимка, «старому мальчику» нашей поэзии и её патриарху - всего-то 80 лет. Это верно лишь отчасти. Поэту столько лет, сколько лет его читателям. 80 лет? Какие, право, пустяки…
Валентин Антонов, март 2010.
http://www.vilavi.ru/sud/130310/130310.shtml

Жизнь была свободной и пленной,
без людей и с родными людьми -
расширяющейся вселенной
одиночества и любви.
Так случается и с империями,
исчерпавшими годы экспансии, -
и с вакансиями и с потерями,
оставлявшими память в запасе.
Жизнь свою я держу, как державу,
расстающуюся с безграничностью,
царство, где погулялось на славу
и я значился главной личностью.
Уважаю законы материи,
но пытаюсь руками усталыми
удержать любимцев империи,
покидаемой в темпе вассалами.
Время падать плодам переспелым,
время в землю закутаться зёрнам…
Стало белое чёрно-белым,
чёрно-белое стало чёрным.

Спаси меня от нищенской любви,
от дурачка, от немощи, от хама,
от текстов деревянных, как рубли
и от молчанья чёрного, как яма.
Спаси от карамазовской глуши,
от слова, истолкованного криво,
от нашей перекрученной души,
не соглашающейся быть счастливой.
Спаси меня от жалости к себе,
от злобы на того, кто невменяем,
спаси родных, живущих в скорлупе
и горько дорожащих этим раем.
Спаси друзей, забившихся в тупик
детей несчастных всероссийской порчи…
Зачем он мне, разумный мой язык,
когда пристало рыкать, выть по-волчьи?

Не умирала - умерла
перед рассветом в день осенний.
Пирог спекла. Под воскресенье
была по-детски весела.
Не умирала - умерла, -
твержу - сень Божьего крыла
ей миг мучений сократила,
но, Господи, ей страшно было:
свечу зажгла и уронила,
свою жиличку зря звала.
А я, не зная почему,
как будто кто ударил током,
проснулся в городе далёком,
уставился в немую тьму.
В безмолвии со всех сторон
готов к тому, что нет возврата
был до того, как телефон
взорвался в доме, как граната.
Себе внушаю виновато:
Был просто сон, стал вечный сон.
Открылась маме тайна эта.
Недолгий страх переключён
ей был на свет иного света.
Но - на полу. Но - неодета.
Одна во тьме. Последний стон…
Прости меня…

Когда на берегу морском
я в детстве строил замки из песка
лепил крепостные стены, башенки,
кубики домиков на террасах
под солнцем палящим
как над древней пустыней, -
я не догадывался, что строил Иерусалим.
Когда внезапные волны
били, смывая белые стены,
дома и храмы,
я возвращался упрямо,
начинал всё сначала,
сбивал упругий песок,
возводил между ветром и морем,
как между Сциллой и Харибдой,
небывалый град,
беспомощный и бессмертный…

Длительное счастье неестественно,
как остановившееся солнце,
слишком затянувшийся стоп-кадр…
Длительность относится к бессоннице,
бесконечность —-это свойство горя,
но от быстротечности (у счастья),
и от бесконечности (у горя)
выпишет поэзия рецепт!

Построил, что хотел,
всех наделил пространством
своей души, ещё -
стеной от внешних вьюг.
Вот опыта годов,
прожитых не напрасно,
осадок золотой -
он для тебя, мой друг.
Построил, что хотел
по всем заветам зодчества,
приладил и пригнал,
стесал, согласовал.
Но дует изнутри
холодным одиночеством,
куда-то все ушли,
а за дверьми - провал…
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 01 Авг 2016, 20:02 | Сообщение # 30 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | К 175-летию со дня гибели М.Ю. Лермонтова

И я к высокому в порыве дум живых,
И я душой летел во дни былые;
Но мне милей страдания земные;
Я к ним привык и не оставлю их…»
М.Ю. Лермонтов

Передо мной лежит листок
Совсем ничтожный для других,
Но в нем сковал случайно рок
Толпу надежд и дум моих.
Исписан он твоей рукой,
И я вчера его украл,
И для добычи дорогой
Готов страдать - как уж страдал!
1830.

Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сёл,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь - и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! - твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нём,
Как плащ его с возвышенным челом.
1830.

Пора уснуть последним сном,
Довольно в мире пожил я;
Обманут жизнью был во всём
И ненавидя и любя.
1831.

Печаль в моих песнях, но что за нужда?
Тебе не внимать им, мой друг, никогда.
Они не прогонят улыбку святую
С тех уст, для которых живу и тоскую.
К тебе не домчится ни слово, ни звук, -
Отзыв беспокойный неведомых мук.
Певца твоя ласка утешить не может: -
Зачем же он сердце твоё потревожит?
О нет! одна мысль, что слеза омрачит
Тот взор несравненный, где счастье горит
Безумные б звуки в груди подавила,
Хоть прежде за них лишь певца ты любила.
1832.

Послушай, быть может, когда мы покинем
Навек этот мир, где душою так стынем,
Быть может в стране, где не знают обману,
Ты ангелом будешь, я демоном стану!
Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга все счастие рая!
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
Тебе будет раем, а ты мне - вселенной!
1832.

Не призывай небесных вдохновений
На высь чела, венчанного звездой;
Не заводи высоких песнопений,
О юноша, пред суетной толпой.
Коль грудь твою огонь небес объемлет
И гением чело твое светло, -
Ты берегись: безумный рок не дремлет
И шлет свинец на светлое чело.
О, горький век! Мы, видно, заслужили,
И по грехам нам, видно, суждено,
Чтоб мы теперь так рано хоронили
Всё, что для дум прекрасных рождено.
Наш хладный век прекрасного не любит,
Ненужного корыстному уму,
Бессмысленно и самохвально губит
Его сосуд - и все равно ему:
Что чудный день померкнул на рассвете,
Что смят грозой роскошный мотылек,
Увяла роза в пламенном расцвете,
Застыл в горах зачавшийся поток;
Иль что орла стрелой пронзили люди,
Когда младой к светилу дня летел;
Иль что поэт, зажавши рану груди,
Бледнея пал - и песни не допел.
С.Шевирев, 1841.

Зачем, поэт, зачем, великий гений,
Явился ты так рано в этот мир,
Мир рабства, лжи, насилья и гонений,
Мир, где царил языческий кумир?..
Зачем судьба с таким ожесточеньем
Гнала тебя из-за пустых интриг
Трусливых бар, взлелеянных бездельем,
Когда клеймил их твой могучий стих?
Ты нужен был не царству бар и рабства,
А вот теперь, когда талантов нет,
Когда нас всех заело декадентство,
О, если бы ты жил теперь, поэт!
Твой мощный стих, могучие аккорды
Рассеяли б остаток прежней тьмы,—
Тогда бы по пути добра, любви, свободы
Пошли бы за тобой вперед со славой мы.
К.Хетагуров,1901.

Нет, не за то тебя я полюбил,
Что ты поэт и полновластный гений,
Но за тоску, за этот страстный пыл
Ни с кем неразделяемых мучений,
За то, что ты нечеловеком был.
О, Лермонтов, презрением могучим
К бездушным людям, к мелким их страстям,
Ты был подобен молниям и тучам,
Бегущим по нетронутым путям,
Где только гром гремит псалмом певучим.
И вижу я, как ты в последний раз
Беседовал с ничтожными сердцами,
И жестким блеском этих темных глаз
Ты говорил: «Нет, я уже не с вами!»
Ты говорил: «Как душно мне средь вас!»
К.Бальмонт

В этом сонном квартале,
Заповедно-пустынном,
Камни кое-что знали
О событьях старинных;
Камни, стражи печали,
Сокровенно молчали.
В том квартале забытом,
Среди улочек этих,
В сквере, солнцем залитом, -
Мысль о бедном поэте,
Гениальном поэте,
На дуэли убитом.
Он теперь изваянье,
Как любимые страстно
Горы, чьи очертанья –
Перед ним ежечасно;
Горы, чьи очертанья
Нерушимо-прекрасны.
Пятигорских небес
Синь и синие горы…
Мир блистает окрест,
Рядом главы собора;
Мир и синие горы
Вопрошает он взором.
Задал Лермонтов чудный
Свой вопрос одинокий,
Укоряюще-трудный,
Молчаливый, глубокий,
И застыл, одинокий,
Недоступный, далекий.
У отрогов Кавказа,
Погруженный в мечтанье,
Романтический образ,
Воплощенье страданья,
Романтический образ
Ждет ответ мирозданья.
(с)
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 11 Окт 2016, 20:14 | Сообщение # 31 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 124 года со дня рождения Марины Цветаевой..

Солнцем жилки налиты
- не кровью -
На руке, коричневой уже.
Я одна с моей большой любовью
К собственной моей душе.
Жду кузнечика, считаю до ста,
Стебелек срываю и жую...
- Странно чувствовать так
сильно и так просто
Мимолетность жизни -
и свою.

Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас - через сотни
Разъединяющих верст.
Я знаю, наш дар - неравен,
Мой голос впервые - тих.
Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!
На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь,
Юный ли взгляд мой тяжел?
Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед...
Целую Вас - через сотни
Разъединяющих лет.

Кто создан из камня,
кто создан из глины,-
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело - измена,
мне имя - Марина,
Я - бренная пена морская.
Кто создан из глины,
кто создан из плоти -
Тем гроб и нагробные плиты...
- В купели морской крещена
- и в полете
Своем - непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце,
сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволье.
Меня - видишь кудри
беспутные эти?-
Земною не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные
ваши колена,
Я с каждой волной -
воскресаю!
Да здравствует пена -
веселая пена -
Высокая пена морская!

Мы с тобою лишь два отголоска:
Ты затихнул, и я замолчу.
Мы когда-то с покорностью воска
Отдались роковому лучу.
Это чувство сладчайшим недугом
Наши души терзало и жгло.
Оттого тебя чувствовать другом
Мне порою до слез тяжело.
Станет горечь улыбкою скоро,
И усталостью станет печаль.
Жаль не слова, поверь, и не взора,-
Только тайны утраченной жаль!
От тебя, утомленный анатом,
Я познала сладчайшее зло.
Оттого тебя чувствовать братом
Мне порою до слез тяжело.

Мы с Вами разные,
Как суша и вода,
Мы с Вами разные,
Как лучик с тенью.
Вас уверяю - это не беда,
А лучшее приобретенье.
Мы с Вами разные,
Какая благодать!
Прекрасно дополняем
Мы друг друга.
Что одинаковость
нам может дать?
Лишь ощущенье
замкнутого круга.

Когда снежинку, что легко летает,
Как звездочка упавшая скользя,
Берешь рукой - она слезинкой тает,
И возвратить воздушность ей нельзя.
Когда пленясь прозрачностью медузы,
Ее коснемся мы капризом рук,
Она, как пленник, заключенный в узы,
Вдруг побледнеет и погибнет вдруг.
Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах
Видать не грезу, а земную быль -
Где их наряд? От них на наших пальцах
Одна зарей раскрашенная пыль!
Оставь полет снежинкам с мотыльками
И не губи медузу на песках!
Нельзя мечту свою хватать руками,
Нельзя мечту свою держать в руках!
Нельзя тому, что было грустью зыбкой,
Сказать: "Будь страсть!
Горя безумствуй, рдей!"
Твоя любовь была такой ошибкой, -
Но без любви мы гибнем. Чародей!

Не чернокнижница! В белой книге
Далей донских навострила взгляд!
Где бы ты ни был - тебя настигну,
Выстрадаю - и верну назад.
Ибо с гордыни своей, как с кедра.
Мир озираю: плывут суда,
Зарева рыщут... Морские недра
Выворочу - и верну со дна!
Перестрадай же меня! Я всюду:
Зори и руды я, хлеб и вздох,
Есмь я и буду я, и добуду
Губы - как душу добудет Бог:
Через дыхание - в час твой хриплый,
Через архангельского суда
Изгороди! - Всe уста о шипья
Выкровяню и верну с одра!
Сдайся! Ведь это совсем не сказка!
- Сдайся! - Стрела, описавши круг...
- Сдайся! - Еще ни один не спасся
От настигающего без рук:
Через дыхание... (Перси взмыли,
Веки не видят, вкруг уст - слюда...)
Как прозорливица - Самуила
Выморочу - и вернусь одна:
Ибо другая с тобой, и в судный
День не тягаются...
Вьюсь и длюсь.
Есмь я и буду я и добуду
Душу - как губы добудет уст.

Уедешь в дальние края,
Остынешь сердцем. - Не остыну.
Распутица - заря - румыны -
Младая спутница твоя...
Кто бросил розы на снегу?
Ах, это шкурка мандарина...
И крутятся в твоем мозгу:
Мазурка - море - смерть - Марина.

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала – тоже!
Прохожий, остановись!
Прочти – слепоты куриной
И маков набрав букет,
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.
Не думай, что здесь – могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед, -
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.
Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
- И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

Белорученька моя, чернокнижница...
Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в чёрных кустах,
То забьёшься в дырявый скворечник,
То мелькнёшь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
"Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом".
Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идём,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.
А.Ахматова
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 07 Фев 2017, 11:42 | Сообщение # 32 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | К 180-летию со дня гибели А.С. Пушкина

Всё в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слёзы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточённого страданья.
А.С. Пушкин

худ. А.Ванециан. "Пушкин в Болдине"
Горит, горит печальная свеча,
И каплет воск с нее, как кровь, горячий.
И притаился вечер, замолчав,
Часы умолкли, – и нельзя иначе.
Ведь Пушкин пишет! Медлит чуть рука,
И пляшут тени на стене неясно.
Он пишет так, что каждая строка —
Как искра, не умеющая гаснуть.
Назло глупцам, лакеям, палачам,
Чтоб тронам царским не было покоя,
Горит, горит мятежная свеча,
Зажженная бессмертною рукою.
И не погаснет в сумрачной ночи
Огонь, хранимый столькими сердцами.
Из каждой искры пушкинской свечи
В людских умах крылато вспыхнет пламя.
И если вдруг из пушкинских начал,
Из строк в глаза прольется море света,
То знайте, так всегда горит свеча —
Частица вечного огня души поэта!
О.Лебедушкина

Худ. А.Траугот, В.Траугот
Все беззащитнее душа
В тисках расчетливого мира,
Что сотворил себе кумира
Из темной власти барыша.
И все дороже, все слышней
В его бездушности преступной
Огромный мир души твоей,
Твой гордый голос неподкупный.
Звучи, божественный глагол,
В своем величье непреложный,
Сквозь океан ревущих волн
Всемирной пошлости безбожной…
Ты светлым именем своим
Восславил имя человечье,
И мир идет тебе навстречу,
Духовной жаждою томим.
А.Передреев

«Я числюсь по России»
(А.С. Пушкин)
Да, он сумел ответить просто,
Поэт недюжинного роста.
- Где числитесь? – его спросили,
Пытаясь выразить укор.
Ответил: - Числюсь по России.
И числится так до сих пор.
Так просто: «Числюсь по России»…
По облакам ее, по сини, -
Та синь слепит со всех сторон.
Ее колдобинам, ухабам,
И мужикам ее и бабам,
С глазами странниц и мадонн.
Самодержавной и державной,
Разгульной и непробивной.
Поэт – всесильный и бесправный,
И навсегда – невыездной.
…А там, над Соротью туманной
Все так же слышно: «Анна, Анна»…
И в липах вздох со всех сторон,
В узорном небе завитушка -
Знакомый росчерк: «Пушкин, Пушкин»!
Ах, Пушкин? Ну конечно он!
О, если бы меня спросили
Мне горло бы обжег вопрос,
И все же – «Числюсь по России»!
Сказала б, продохнув от слез.
По ней, такой самодержавной,
И разудалой, и хмельной,
Где жил великий и бесправный
Поэт, такой невыездной.
Здесь не дожди летят косые,
А стрелы льют из серебра…
И все же: числюсь по России,
С припиской: «Савкина Гора».
Н.Лаврецова

Худ. А.А. Горбов
Убит. Убит. Подумать! Пушкин…
Не может быть! Все может быть…
«Ах, Яковлев, – писал Матюшкин, —
Как мог ты это допустить!
Ах, Яковлев, как ты позволил,
Куда глядел ты! Видит бог,
Как мир наш тесный обездолел.
Ах, Яковлев…». А что он мог?
Что мог балтийский ветер ярый,
О юности поющий снег?
Что мог его учитель старый,
Прекраснодушный человек?
Иль некто, видевший воочью
Жену его в ином кругу,
Когда он сам тишайшей ночью
Смял губы: больше не могу.
На Черной речке белый снег.
Такой же белый, как в Тригорском.
Играл на печке – ну и смех -
Котенок няниным наперстком.
Детей укладывают спать.
Отцу готовят на ночь свечи.
Как хорошо на снег ступать
В Михайловском в такой же вечер.
На Черной речке белый снег.
И вот – хоть на иные реки
Давно замыслил он побег -
Шаги отмерены навеки.
Меж императорским дворцом
И императорской конюшней,
Не в том, с бесхитростным крыльцом
Дому, что многих простодушней,
А в строгом, каменном, большом
Наемном здании чужом
Лежал он, просветлев лицом,
Еще сильней и непослушней,
Меж императорским дворцом
И императорской конюшней.
В.Соколов

Худ. Д.А. Цукан
Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?
Будь прав или виновен он
Пред нашей правдою земною,
Навек он высшею рукою
В "цареубийцы" заклеймен.
Но ты, в безвременную тьму
Вдруг поглощенная со света,
Мир, мир тебе, о тень поэта,
Мир светлый праху твоему!..
Назло людскому суесловью
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах...
знойной кровью.
И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолил –
И осененный опочил
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..
Ф.И. Тютчев

– Скажи, ты помнишь ли Россию
На берегах восьми морей,
В кольце тяжелых кораблей?
Скажи, ты помнишь ли Россию?
– Я помню, помню… Я из тех,
В ком память змием шевелится,
Кому простится смертный грех
И лишь забвенье не простится,
Из тех, в ком дрожь не отошла,
В ком память совести прочнее.
К погосту дальнему вела
Зеленокудрая аллея.
И на погосте, где сирень,
Где летний день бывал так жарок,
Звенел порою в летний день
Венок фарфоровых фиалок
И металлических гвоздик,
Железных, ломаных, линючих,
А роз живых, но роз колючих
Был куст так ароматно дик
Между фиалок и гвоздик.
Венок железный тихо звякал,
И кто-то шел по мхам могил,
И кто-то шел, и кто-то плакал
И сам с собою говорил:
“Прощай, прощай, моя родная,
И незабвенная моя!”
И подступали зеленя
К ограде, нежась и сверкая.
Наденьте, годы, на меня
Нетленной памяти вериги.
Был дом просторный, люди, книги,
Свет оплывающего дня.
Об одиночестве, о воле,
То с упоеньем, то с тоской,
О тайной дружбе в шумной школе
Мечта являлась за мечтой,
Стремилась ласточкой живой.
Когда закат, немного грубый,
Расстелется за тем окном,
И розовым вдруг станет дом,
Шепнут младенческие губы
Два имени, что за собой
Ведут, как рог горниста, в бой.
Два имени. И молчаливо
Возникнут страшных два конца:
Тот труп в ненастье, у обрыва,
Тот снег, у смуглого лица.
И встанут две за ними тени,
Два призрака, истлевших без
Прощений, без успокоений -
Скажи: Мартынов и Дантес.
Любило слишком сердце наше
Глухой простор былых дорог,
И медяки в долбленой чаше,
И нищий взгляд: помилуй Бог!
Дорога пылью облачится,
Слепой высоко запоет,
На мальчика облокотится
И вслед за мальчиком пойдет.
За кладбищем, за старым домом
Пройдут они своим путем,
Тысячеверстным, но знакомым…
Там, может быть, и мы пройдем.
В осенний вечер слишком рано
Темнеет. Сядем у костра.
В дыму соснового тумана
Мы будем слушать до утра
О смерти дикое сказанье,
О жизни долгое молчанье,
И донесет издалека
Нам ветер, чрез поля и кручи,
Неотвратимый, неминучий
Скрип надмогильного венка.
Я слышу: гнется крест огромный,
Я слышу: стонет ржавый гвоздь,
И ветер, всероссийский гость,
Летит по всей России темной,
Метет фиалок черепки,
Гвоздик былые лепестки,
Что нам, в неотошедшей дрожи
Сицилианских роз милей,
Альпийской лилии дороже, -
В нас память совести прочней.
Н.Берберова

худ. И.Н. Воробьева
"Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!"
Ф.И. Тютчев
Имён и отчеств много-много…
Но два из них живут в веках -
И к ним не заросла дорога
Ни на Земле, ни в Небесах.
Внимаем: Александр Сергеевич,
И сразу - Пушкин! - языком,
И в сердце радостью повеет,
И просветлеем мы лицом.
Простой, обычный - по сложенью,
Но бог - и сердцем, и умом:
В венце святого вдохновенья
Он входит в каждый русский дом.
Как слово «мама», это имя
Рождает тёплых чувств волну:
Младенец русский входит с ними
В Добра волшебную страну.
Букет прекрасных откровений,
Фантазий чувственных искру
Подарит в детстве Добрый Гений
На всю дальнейшую судьбу.
А.Беличенко

Гравюра по рис. В.Шпака
Нет! Силы не измерить звёздной
Во всём, что он поведал нам
Стихами, письмами и прозой
В дар прибывающим векам.
Его, приверженца свободы,
Кумира, гордости земли,
С почтеньем искренним народы
В скульптурный образ возвели.
Пути поэта, вдохновенье
Сердцам потомков не забыть.
Жить будут Пушкина творенья,
Великий образ будет жить!
А.Зайцева

Литография И.Клюквина с оригинала П.Соколова
Друзья! вам сердце оставляю
И память прошлых красных дней,
Окованных счастливой ленью
На ложе маков и лилей;
Мои стихи дарю забвенью,
Последний вздох, о други, ей!..
На тихой праздник погребенья
Я вас обязан пригласить;
Веселость, друг уединенья,
Билеты будет разносить .....
Стекитесь резвою толпою,
Главы в венках, рука с рукою,
И пусть на гробе, где певец
Исчезнет в рощах Геликона,
Напишет беглый ваш резец:
«Здесь дремлет Юноша-Мудрец,
Питомец Нег и Аполлона».
А.С. Пушкин, 1837.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 19 Апр 2017, 20:44 | Сообщение # 33 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | К 80-летию Беллы Ахмадулиной
"Белла Ахмадулина - поэт гораздо более высокой личностной и стилистической чистоты, нежели большинство её сверкающих, либо непрозрачных современников..." (И.Бродский)

Кто знает - вечность или миг
мне предстоит бродить по свету.
За этот миг иль вечность эту
равно благодарю я мир.
Что б ни случилось, кляну,
а лишь благославляю легкость:
твоей печали мимолетность,
моей кончины тишину.

Вот девочки - им хочется любви.
Вот мальчики - им хочется в походы.
В апреле изменения погоды
объединяют всех людей с людьми.
О новый месяц, новый государь,
так ищешь ты к себе расположенья,
так ты бываешь щедр на одолженья,
к амнистиям склоняя календарь.
Да, выручишь ты реки из оков,
приблизишь ты любое отдаленье,
безумному даруешь просветленье
и исцелишь недуги стариков.
Лишь мне твоей пощады не дано.
Нет алчности просить тебя об этом.
Ты спрашиваешь - медлю я с ответом
и свет гашу, и в комнате темно.

Весной, весной, в ее начале,
я опечалившись жила.
Но там, во мгле моей печали,
о, как я счастлива была,
когда в моем дому любимом
и меж любимыми людьми
плыл в небеса опасным дымом
избыток боли и любви.
Кем приходились мы друг другу,
никто не знал, и всё равно -
нам, словно замкнутому кругу,
терпеть единство суждено.
И ты, прекрасная собака,
ты тоже здесь, твой долг высок
в том братстве, где собрат собрата
терзал и пестовал, как мог.
Но в этом трагедийном действе
былых и будущих утрат
свершался, словно сон о детстве,
спасающий меня антракт,
когда к обеду накрывали,
и жизнь моя была проста,
и Александры Николаевны
являлась странность и краса.
Когда я на нее глядела,
я думала: не зря, о, нет,
а для таинственного дела
мы рождены на белый свет.
Не бесполезны наши муки,
и выгоды не сосчитать
затем, что знают наши руки,
как холст и краски сочетать.
Не зря обед, прервавший беды,
готов и пахнет, и твердят
всё губы детские обеты
и яства детские едят.
Не зря средь праздника иль казни,
то огненны, то вдруг черны,
несчастны мы или прекрасны,
и к этому обречены.

Пришла и говорю: как нынешнему снегу
легко лететь с небес в угоду февралю,
так мне в угоду вам легко взойти на сцену.
Не верьте мне, когда я это говорю.
О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове
взять в кожу, как ожог, вниманье ваших глаз.
Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги,
и он умрет, как снег, и превратится в грязь.
Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь
явиться на помост с больничной простыни.
Какой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас!
О, кто-нибудь, приди и время растяни!
По грани роковой, по острию каната -
плясунья, так пляши, пока не сорвалась.
Я знаю, что умру, но я очнусь, как надо.
Так было всякий раз. Так будет в этот раз.
Исчерпана до дна пытливыми глазами,
на сведенье ушей я трачу жизнь свою.
Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале.
Себя не сохраню, его не посрамлю.
Когда же я очнусь от суетного риска
неведомо зачем сводить себя на нет,
но скажет кто-нибудь: она была артистка,
и скажет кто-нибудь: она была поэт.
Измучена гортань кровотеченьем речи,
но весел мой прыжок из темноты кулис.
В одно лицо людей, всё явственней и резче,
сливаются черты прекрасных ваших лиц.
Я обращу в поклон нерасторопность жеста.
Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.
Достанет ли их вам для малого блаженства?
Не навсегда прошу - но лишь на миг, на миг.

Влечет меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.
Вскричать: "Полцарства за коня!" -
какая вспыльчивость и щедрость!
Но снизойдет и на меня
последнего задора тщетность.
Когда-нибудь очнусь во мгле,
навеки проиграв сраженье,
и вот придет на память мне
безумца древнего решенье.
О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмгновенья с человеком,
любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой,
конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю - и табун родимый
нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.
Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.

Всех обожаний бедствие огромно.
И не совпасть, и связи не прервать.
Так навсегда, что даже у надгробья,—
потупившись, не смея быть при Вас,—
изъявленную внятно, но не грозно
надземную приемлю неприязнь.
При веяньях залива, при закате
стою, как нищий, согнанный с крыльца.
Но это лишь усмешка, не проклятье.
Крест благородней, чем чугун креста.
Ирония — избранников занятье.
Туманна окончательность конца.
12 мая 1985, Комарово

Глубокий нежный сад, впадающий в Оку,
стекающий с горы лавиной многоцветья.
Начнёмте же игру, любезный друг, ау!
Останемся в саду минувшего столетья.
Ау, любезный друг, вот правила игры:
не спрашивать зачем и поманить рукою
в глубокий нежный сад, стекающий с горы,
упущенный горой, воспринятый Окою.
Попробуем следить за поведеньем двух
кисейных рукавов, за блеском медальона,
сокрывшего в себе... ау, любезный друг!..
сокрывшего, и пусть, с нас и того довольно.
Заботясь лишь о том, что стол накрыт в саду,
забыть грядущий век для сущего событья.
Ау, любезный друг! Идёте ли?- Иду.-
Идите! Стол в саду накрыт для чаепитья.
А это что за гость?- Да это юный внук
Арсеньевой.- Какой?- Столыпиной.- Ну, что же,
храни его Господь. Ау, любезный друг!
Далекий свет иль звук - чирк холодом по коже.
Ау, любезный друг! Предчувствие беды
преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста.
И, как ни отступай в столетья и сады,
душа не сыщет в них забвенья и блаженства.

Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи и только немоту
тяжелую в моих губах имею?
Вы скажете - но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.
Порядок этот ведает рука.
Я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило - не строка -
другое что-то. Только что?- забыла.
Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?

Из глубины моих невзгод
молюсь о милом человеке.
Пусть будет счастлив в этот год,
и в следующий, и вовеки.
Я, не сумевшая постичь
простого таинства удачи,
беду к нему не допустить
стараюсь так или иначе.
И не на радость же себе,
загородив его плечами,
ему и всей его семье
желаю миновать печали.
Пусть будет счастлив и богат.
Под бременем наград высоких
пусть подымает свой бокал
во здравие гостей веселых,
не ведая, как наугад
я билась головою оземь,
молясь о нем - средь неудач,
мне отведенных в эту осень.

Не плачьте вы о ней… она жива...
В стихах советских, тех времён прошедших...
Писала их ранимая душа...
Где древний "нежный вкус родимой речи"
Не плачьте вы о ней, она жива...
В словах, стихах, к друзьям своим ушедшим,
Прощая всех, поцеловав в уста,
Богиней для мужчин, с картин сошедшей...
Обрывки фраз, порою на салфетках,
Стихи из чистых, и правдивых слов...
Чуть томный взгляд, меж пальцев сигаретка.
И под ногами след Пегасовых подков...
Н.Геут
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 05 Июн 2017, 08:47 | Сообщение # 34 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | К 200-летию первого приезда А.С. Пушкина в Михайловское
ПУШКИНУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В который раз, уже который год
Нас собирает вместе имя это.
Отбросив ежедневный груз забот,
Мы посещаем Пушкина планету.
Сметает время даты, имена,
Зачёркивает памятные лица,
Но строф его простая новизна
Для поколений – новая страница.
Нас в царство грёз уводит дивный слог,
И реализм сюжетов душу стелет.
Его талант великий сделать смог
То, что никто в столетьях не сумеет.
Сегодня мы с других высот глядим,
Но как бы ни был этот мир прославлен,
Ни с кем великий гений несравним.
Он навсегда на пьедестал поставлен.
Л.Гусельникова

А было это в день приезда.
С ней говорил какой-то князь.
"О боже! Как она прелестна!" –
Подумал Пушкин, наклонясь.
Она ничуть не оробела.
А он нахлынувший восторг
Переводил в слова несмело.
И вдруг нахмурился. И смолк.
Она, не подавая вида,
К нему рванулась всей душой,
Как будто впрямь была повинна
В его задумчивости той. –
Что сочиняете вы ныне?
Чем, Пушкин, поразите нас? –
А он – как пилигрим в пустыне –
Шел к роднику далеких глаз.
Ему хотелось ей в ладони
Уткнуться. И смирить свой пыл. –
Что сочиняю? Я... не помню.
Увидел вас –
И все забыл.
Она взглянула тихо, строго.
И грустный шепот, словно крик: –
Зачем вы так?
Ну, ради Бога!
Не омрачайте этот миг...
Ничто любви не предвещало.
Полуулыбка. Полувзгляд.
Но мы-то знаем –
Здесь начало Тех строк,
Что нас потом пленят.
И он смотрел завороженно
Вслед уходившей красоте.
А чьи-то дочери и жены
Кружились в гулкой пустоте.
А.Дементьев

худ. М.Павлов
К чему изобретать национальный гений?
Ведь Пушкин есть у нас: в нем сбылся русский дух.
Но образ родины он вывел не из двух
Нужд или принципов и не из трех суждений;
Не из пяти берез, одетых в майский пух,
И не из тысячи гремучих заверений;
Весь мир – весь белый свет! – в кольцо его творений
Вместился целиком. И высказался вслух.
…Избушка и… Вольтер, казак и… нереида.
Лишь легкой створкой здесь разделены для вида;
Кого-чего тут нет!.. Свирель из тростника
И вьюг полнощных рев; средневековый патер;
Золотокудрый Феб, коллежский регистратор,
Экспромт из Бомарше и – песня ямщика!
Новелла Матвеева

худ. Эльвира Петрова
На столе пирог и кружка.
За окном метель метет.
Тихо русская старушка
Песню Пушкину поет.
Сколько раз уж песню эту
Довелось ему слыхать!
Почему ж лица поэта
За ладонью не видать?
Почему глаза он прячет:
Или очи режет свет?
Почему, как мальчик, плачет,
Песню слушая, поэт?
На опущенных ресницах
Слезы видно почему?
Жаль синицы? Жаль девицы?
Или жаль себя ему?
Нет, иная это жалость.
И совсем не оттого
Плачет он, и сердце сжалось,
Как от боли, у него.
Жаль напевов этих милых,
С детства близких и родных.
Жаль, что больше он не в силах
Слышать их и верить в них.
Песни жаль!.. И он рукою
Слезы прячет, как дитя. …
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
И.Уткин

худ. Дм.Бучкин
Когда от шума городского
Совсем покоя нет душе,
Полночи поездом до Пскова,
И вы в Михайловском уже.
Там мудрый дуб уединённый
Шумит листвою столько лет.
Там, вдохновленный и влюблённый,
Творил божественный поэт.
В аллее Керн закружит ветер
Балет оранжевой листвы,
И в девятнадцатом столетье
Уже с поэтом рядом вы.
Но не спугните, бога ради,
Летучей музы лёгкий след!
Вот на полях его тетради
Головки чьей-то силуэт.
Слова выводит быстрый почерк,
За мыслями спешит рука,
И волшебство бесценных строчек
Жить остаётся на века.
А где-то слёзы льёт в подушку
Та, с кем вчера он нежен был,
И шепчет, плача: –
Саша! Пушкин! А он её уже забыл.
Уже другой кудрявый гений
Спешит дарить сердечный пыл,
Их след в порывах вдохновенья -
И лёгкий вздох: – Я вас любил…
Любил, спешил, шумел, смеялся,
Сверхчеловек и сверхпоэт,
И здесь, в Михайловском, остался
Прелестный отзвук прежних лет.
При чём же бешеные скорости,
При чём интриги, деньги, власть?
Звучат стихи над спящей Соротью
И не дают душе пропасть.
Я помню чудное мгновенье!
Передо мной явились вы!
Но… надо в поезд, к сожаленью, -
Всего полночи до Москвы.
Л.Рубальская

В.М.Звонцов. "Михайловское. Кабинет Пушкина"
Еще нетронут он строкой -
«Приют, сияньем муз одетый...»,
Еще над Соротью-рекой
Пустуют майские рассветы.
«Цветущий луг» и «темный дол»,
И Пушкин сам - пока моложе!
Одесса, море, говор волн
Его волнуют и тревожат.
Но - час прощания, тоска...
И путь к далекому уезду.
Михайловское - до цветка -
К его готовилось приезду.
«Изгнанья темный уголок» -
А сколько в нем таилось света!
Окно, светильник, камелек,
И - целый мир в судьбе поэта!
Вл.Половников

худ. С.Фролов
Здесь воздух чист,
небесно чист.
И вечер звезды зажигает.
Бесшумно одинокий лист
На волны Сороти слетает.
Прозрачный свет,
волшебный свет,
Что ночью белою мерцает...
И где-то под луной поэт
Над светлой Соротью мечтает.
Река затихла, лес затих,
Спугнуть боится вдохновенье...
И музыкой ложится стих.
В веках останется «мгновенье»
Н.Ульянова

Н.В. Кузьмин. "Пушкин в Тригорском"
Не спи, Париж, сияй огнями
Своих дворцов и площадей,
А мне Тригорского холмами
Прости, Париж, бродить милей!
Здесь нет неонов многоцветья,
Толпы, гуляющей в ряды,
Зато славянского бессмертья
Повсюду видятся следы.
Вот два холма и два погоста.
Ах, как же свищут соловьи!
Жить, умереть в России просто -
Как Храм поставить на крови.
Здесь был когда-то дивный город.
Средь кузниц, торжищ и церквей,
Кипела жизнь, и ухал молот,
И плыли стаи лебедей.
Уж нет его, но звезды неба
Все так же светятся во мгле,
И запахи вина и хлеба
Все те же на родной земле.
Не спи, Париж, красивый город,
Твое величье с детства чту,
Но жив во мне славянский норов -
Тригорским ночью я иду!
В.Окунев

худ.В.Лысюк
Чернела ветка в сумрачном окне,
А на дворе вовсю кипело лето.
И в ветке той угадывалась мне
Тень рокового пистолета.
Взволнованный игрой ночных небес
Я отодвинул ветку ту, поверьте.
А если это целился Дантес -
Уже не в Пушкина, в само его бессмертье.
А.Бениаминов

Ель умирала от болезней,
И от глубоких ран войны,
Она не чувствовала лезвий
Надрывно плачущей пилы.
Плыла, подрагивая, в небыль...
Но вдруг ее пронзила боль.
И покатилось быстро небо,
И вверх ушел сосновый бор.
Печально замер мир зеленый,
На век беднее становясь...
Она упала на газоны,
И от корней оторвалась.
Скончалась тихо в сочных травах,
В последний миг увидев свой,
Как ветку юноша курчавый
Погладил ласковой рукой.
Виктор Никифоров - краевед, историк, экскурсовод, научный сотрудник Пушкинского Государственно- го заповедника, каждым мигом судьбы связанный с Пушкиногорьем, ставший его душой.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 12 Авг 2017, 14:11 | Сообщение # 35 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 
худ. Ильяс Айдаров
О Володе Высоцком я песню придумать решил:
Вот еще одному не вернуться назад из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил…
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.
Расстаемся совсем ненадолго, на миг, а потом
Отправляться и нам по следам по его по горячим.
Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон,
Ну, а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.
О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
Но дрожала рука, и мотив со стихом не сходился.
Белый аист московский на белое небо взлетел,
Черный аист московский на черную землю спустился.
Б.Окуджава

худ. Ильяс Бичурин
Погиб поэт. Так умирает Гамлет,
Опробованный ядом и клинком.
Погиб поэт, а мы вот живы, - нам ли
Осмеивать его обиняком?
Его словами мелкими не троньте, -
Что ваши сплетни суетные все!
Судьба поэта - умирать на фронте,
Вздыхая о нейтральной полосе.
Где нынче вы, его единоверцы,
Любимые и верные друзья?
Погиб поэт, не выдержало сердце, -
Ему и было выдержать нельзя.
Толкуют громко плуты и невежды
Над лопнувшей гитарною струной.
Погиб поэт, и нет уже надежды,
Что это просто слух очередной.
Теперь от популярности дурацкой
Ушёл он за иные рубежи:
Тревожным сном он спит
в могиле братской,
Где русская поэзия лежит.
Своей былинной не растратив силы,
Умолк певец, набравши в рот воды,
И голос потерявшая Россия
Не замечает собственной беды.
А на дворе - осенние капели,
И наших судеб тлеющая нить.
Но сколько песен все бы мы ни пели,
Его нам одного - не заменить.
А.Городницкий

худ. Ильяс Бичурин
В.Высоцкому – самому высокому из нас...
Хоть об камень башкой,
Хоть кричи - не кричи,
Я услышал такое в июльской ночи,
Что в больничном загоне,
Не допев лучший стих,
После долгих агоний
Высоцкий затих.
Смолкли хриплые трели,
Хоть кричи – не кричи.
Что же мы просмотрели,
И друзья, и врачи?
Я бреду, как в тумане.
Вместо компаса – злость.
Отчего, россияне,
Так у нас повелось?
Только явится парень
Неуемной души –
И сгорит, как Гагарин,
И замрет, как Шукшин,
Как Есенин, повиснет,
Как Вампилов, нырнет,
Словно кто, поразмыслив,
Стреляет их влет.
До свидания, тезка,
Я пропитан тобой,
Твоей рифмою хлесткой
И хлесткой судьбой.
Что там я – миллионы,
А точнее, народ
Твои песни-знамена
По жизни несет.
Ты и совесть, и смелость,
И горячность, и злость.
Чтоб и там тебе пелось,
И, конечно, пилось.
В звоне струн, в звоне клавиш
Ты навеки речист.
До свиданья, товарищ
Народный артист.
Погиб поэт – невольник чести.
В который раз такой конец.
Как будто было неизвестно –
Талант в России не жилец.
Да, был такой талант высокий!
Так оцени, двадцатый век,
Каким он был, твой сын Высоцкий:
Поэт, артист и человек.
Вл.Солоухин

Такие долго не живут,
Горя в грозе духовной сечи,
Затмив других поэтов свечи
И в жар, вложив, мятежной речи
Души и сердца яркий труд!
Для них презрен мышиный пир
Подобострастных щелкопёров;
Стихи, как шпаги мушкетёров,
Пронзая Зло без лишних споров,
Их жизни чистый эликсир!
Таким от власти нет наград
Она не терпит то, что верно,
Среди разгула лжи и скверны
До неприличия безмерно
Правдиво песни их звучат!
Таких стезя - сквозь тёрн и мрак,
Но стяг бунтарский и крамольный
Над ними реет в блеске молний
(В их свете, кто довольством полный,
Тот духом - лгун или бедняк!)
Такие, вспыхнув и сгорев,
Живут средь новых поколений
В лучах немеркнущих творений
И нет смертей им и забвений,
А есть их пламенный напев!
Хоть мысль возможно и стара,
Как мир, потерян рай в котором,
Но молний отблеск жжёт укором
И, время, смерив юным взором,
Об этом вновь сказать пора!
Я знаю, где теперь тебя искать
Вот только ноги сковывает ужас…
Я на Ваганьково иду опять
Для слова моего мне голос нужен.
Я постою у каменной плиты,
Что для меня стены кремлёвской выше
И стон, моей израненной души,
Взметнётся ввысь и захлебнётся тишью.
Назад дорога будет так трудна
Чредою слов и мысленных ухабов,
А по краям пути стоит страна,
В печали голову склонивши набок.
Н.Зайцев

Ты не ровесник мой, невраг мне и не друг,
Хотя кумиром стал давно для многих.
Я не была в числе заплаканных подруг,
Прощаясь у Таганки на пороге.
Поверишь ли, претит мне фанатизм,
А гениальность для меня всегда загадка,
Как блеск луча сквозь миллионы призм,
У книги жизни - новая закладка.
И роли те, что сыграны тобой,
Меня прости, совсем не волновали
Жеглов с его надрывною судьбой,
Арап Петра - лишь только раздражали .
Ты не был для меня ни кем - поверь,
Но как – то раз вошёл ко мне без спроса...
Я не закрыла просто плотно дверь,
И в голосе не слышала вопроса.
Он рвал сознанье в мелкие куски,
Хрипел, мне насаждая волю свыше,
Сжимая душу яростно в тиски,
Не зная, что душа почти не дышит.
Я видела так явственно конец,
И тех коней у пропасти, у края...
Ты бард, актёр, единственный певец,
Кого терять, теперь я не желаю.
В.Соловьева

Спасибо друг, что посетил
Последний мой приют.
Постой один среди могил,
Почувствуй бег минут.
Ты помнишь, как я петь любил,
Как распирало грудь,
Теперь ни голоса, ни сил,
Чтоб губы разомкнуть.
И воскресают, словно сон,
Былые времена,
И в хриплый мой магнитофон
Влюбляется страна.
Я пел, и грезил, и творил –
Я многое успел,
Какую женщину любил!
Каких друзей имел!
Прощай, Таганка и кино!
Прощай, зеленый мир!
В могиле страшно и темно,
Вода течет из дыр.
Спасибо, друг, что посетил
Приют печальный мой.
Мы здесь все узники могил,
А ты - один живой.
За все, чем дышишь и живешь
Зубами, брат, держись,
Когда умрешь, тогда поймешь,
Какая штука - жизнь…
Прощай! Себя я пережил
В кассете "Маяка".
А песни, что для вас сложил,
Переживут века!
Вл.Высоцкий 23.07. 1980. (ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ)

Распороло солнце небо синь.
Лучевой кинжал пырнул асфальт.
Ошалело носятся такси.
Тяжко дышит дряхлая Москва.
Тяжко дышит, но смелей и злей
Выдыхает углекислый газ.
Залетевший в смог бумажный змей,
Как звезда сгоревшая, погас
А он здесь жил, ходил по этим улицам
С расстроенной гитарой за спиной.
Звенят к заутрене в церквах,
Да ладан курится,
Да воздух пахнет теплым хлебом и сумой.
Все спешат, опущены глаза
На росистый утренний газон.
Словно это 10 лет назад,
Словно это позабытый сон.
На снегу растаяли следы,
Словно не визжали тормоза
На пути от правды до беды
По дороге в "10 лет назад".
Вслед ему пришел второй, другой
Тоже с банжо, или как ее...
Третий безголосый, но крутой.
А потом слетелось воронье.
Каркнули - и тихо как в раю.
Только память в памятниках спит.
Спи мой мальчик, баюшки баю,
Утром встанешь - новенький убит...
Они бредут в толпе по этим улицам.
И каждый болен, но пока живой.
Звонят к заутрене в церквах,
Да ладан курится,
Да воздух пахнет зыбкой славой и тюрьмой.
А.Кудрявцев

Так умирают русские поэты!
Так умирают русские певцы!
Нам оставляя песни и сонеты,
Как мудрость завещают мудрецы.
А жизнь идет. И добрая, и злая.
В зависимости от времени и дней.
И смерть лишь неизбежное свершает,
Когда уносит близких нам людей.
И горько, и тоскливо, и обидно.
Ведь дважды быть уже не суждено.
Я выпью поминальное, я выпью,
Но не заполнит пустоту вино.
Не облегчит, не свяжет, не обманет.
Не скажет вслух покойному: «Живи!»
Гитара ждать хозяина устанет,
Но он ее не снимет со стены.
И вены струн от звуков не набухнут.
Нет пульса, нет аккорда – тишина.
Сейчас в могилу гроб с тобою ухнут,
И на тебя навалиться она.
Холодная, студеная, земная.
Кто знает? Может мир загробный есть!
Ваганьковская доля таковая,
Тебе еще успеет надоесть.
Но здесь попроще. Знаешь, здесь попроще!
Не Новодевичье, сюда любой придет.
И у начала замогильной рощи,
Твою могилу без труда найдет.
Из жизни, из народа, из глубинки,
Тот, для кого и пел ты, и писал.
Прольет слезу – слезу, а не слезинки.
И скажет: «Он Россию понимал!»
Е.Евтушенко
Никита Высоцкий

Пророков нет в отечестве моем,
А вот теперь ушла еще и совесть.
Он больше не споет вам ни о чем,
И можно жить совсем не беспокоясь.
Лишь он умел сказать
И спеть умел,
Чтоб ваших дум в ответ звучали струны.
Аккорд его срывался и звенел,
Чтоб нас заставить мучаться и думать.
Он не дожил, не досказал всего,
Что билось пульсом и в душе звучало.
И сердце отказало от того,
Что слишком долго отдыха не знало.
Он больше на эстраду не войдет
Так просто, вместе с тем так достойно...
Он умер?! Да!!! И все же он поет!
И песни эти не дадут нам спать спокойно.
Июль-август 1980 г. Москва

Вот уж сорок дней, как к могиле мы этой приходим...
И в молчанье стоим, скорбно головы вниз наклоня,
Словно ждем еще песен, которые стонут в народе,
Но, в мозгу одна мысль: "Не услышать нам больше тебя!.."
А на лицах вопрос: "Почему? Отчего так случилось?"
Может мы виноваты и не сберегли?!
Лишь в ответ-тишина...Тихий шепот стихов у могилы...
И у каждого в сердце кусок своей личной, и общей вины!
"Как ты жил? Чем ты жил?"
- Ты с экрана нам улыбался...
Иногда доставался нам в театр на Таганку случайный билет,
И у каждого диск напетый тобою остался...
- Вот и все!
А теперь у нас даже и этого нет!..
Мы приходим сюда, засыпая могилу цветами,
И часами стоим здесь, обиду и боль затая...
Мысли в сердце рифмуются только одними стихами...
- Что еще рассказать всем?
- Что забыли сказать про тебя???
Не обидно ли разве, когда молодыми уходят?!...
В 40 лет человек полон жизни и творческих сил,
И талант - через край! Эх, Володя, Володя!!!
Ведь ты правду любил - значит жизнь ты подавно любил!
Тишина...Тихо падает лист на промокшую землю...
Скорбь природы выплакивается проливным, моросящим
дождем...
Почернела гитара от дождя иль от слез, словно дремля,
Как подруга тоскует о нем! Все о нем и о нем!
Беспощадно время летит...
И часы, и минуты сметает...
Сыновья подрастут, обновится с весною земля!
А дороги к могилам травою, как всегда, зарастают!..
Лишь останется в памяти дней недопетая песня твоя!
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 19 Сен 2017, 12:59 | Сообщение # 36 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | СЕРГЕЙ БЕХТЕЕВ
(07.04. 1879 - 04.05. 1954)

Русский поэт и драматург, белогвардейский офицер, эмигрант первой волны С.С. Бехтеев родился в Орловской губернии. Происходил из старинного дворянского рода. Его гражданская лирика посвящена идеалам монархизма. Был лично знаком с семьей Николая II. Отец, Сергей Сергеевич (старший), был предводителем елецкого дворянства, тайным советником и членом Госсовета. Три родные сестры Бехтеева состояли фрейлинами Царского двора.

В 1903 г. окончил Александровский лицей, где в свое время учился А.С. Пушкин. По его окончании издает сборник стихов, посвященных императрице Александре Федоровне. В том же году поступает служить в подшефный императрице Кавалергардский полк, получает чин офицера. С началом Первой мировой войны служит в действующей армии, получает ранение в голову и попадает в лазарет, где его посещает императрица с великими княжнами. После излечения возвращается на фронт, где его снова ранили - в грудь, опять попадает в госпиталь и получает отпуск. Затем вновь в действующей армии на Кавказе. В октябре 1917 г. на пепелище собственного дома в Липовке пишет ряд патриотических стихов, решив, что его долг - послужить «гибнущей отчизне», и уезжает в Добровольческую армию. Публикуется в ряде военных газет. В ноябре 1920 г. покидает Крым и прибывает в город Нови-Сад в Сербии, где выпускает ряд сборников стихов, редактирует газеты «Русское Знамя», «Вера и Верность» и «Русский Стяг».
Выступает под псевдонимами: С.Терпигорев, «Летописец», «Верноподданный». В 1923 г. в Мюнхене издается первый выпуск стихов «Песни русской скорби и слез». В 1925 г. выходит его роман в стихах «Два письма», в котором Бехтеев пишет о реальных причинах поражения Добровольческой армии.
Со стихотворением «Молитва», была связана удивительная мистическая история. во время расследования Комиссией Н.А. Соколова преступления в Екатеринбурге автограф «Молитвы», сделанный рукой Великой Княжны Ольги, был обнаружен в книге, подаренной ей матерью – Императрицей Александрой Федоровной (на книге сохранилась надпись: «В. К. Ольге. 1917. Мама. Тобольск»). По этой причине долгое время авторство «Молитвы» приписывалось царевне Ольге и в советское время «Молитва» даже публиковалась под ее именем. Эта история и впрямь выглядела очень правдоподобно: царевны при их кротости перед своей гибелью действительно могли молить Господа о прощении их мучителей.
Владыка міра, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый, смертный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов...
В 1927 г. в Новом Футоге было написано стихотворение «Колчак». С конца 1929 г. по 1954-й живет в Ницце. В 1934 г. выходит сборник стихов «Царский гусляр». В 1945, 1950, 1951 и 1952 гг. - четыре сборника его стихов «Святая Русь». До 1946 г. Бехтеев был ктитором храма «Державной Божией Матери». На его средства были устроены два иконостаса: Державной Божией Матери и прп. Серафима Саровского. Основная тематика его произведений - трагедия России. Звучит в его творчестве и мотив «закабаления России «пятой колонной». Многие стихи поэта положены на музыку и исполняются Ж.Бичевской.

Скончался АС.С. Бехтеев в Ницце. Похоронен на местном русском кладбище Кокад. Надпись на могильной плите гласит: «Корнет, лицеист Императорского Александровского Лицея 59 курса, царский поэт и офицер Белой армии».

Ты не думай, все запишется.
Не простится. Ты не жди.
Все неслышное услышится.
Пряча тайное, колышется
Сердце-ладанка в груди.
Умирают дни, и кажется:
Прожитой не встанет прах.
Но Христу вся жизнь расскажется,
Сердце-ладанка развяжется
На святых Его руках.
Жизни наши будут взвешены.
Кто-то с чаши золотой
Будет брошен в пламень бешеный.
Ты ль, хмельная? Я ль, повешенный
Над Россией и тобой?

Среди скорбей, среди невзгод
Всегда я помню мой народ;
Не тот народ, что ближним мстит,
Громит, кощунствует, хулит,
Сквернит святыни, нагло лжет,
Льет кровь, насилует и жжет.
Но тот народ - святой народ,
Что крест безропотно несет,
В душе печаль свою таит,
Скорбит, страдает и молчит,
Народ, которого уста
Взывают к милости Христа
И шепчут с крестного пути:
«Помилуй, Господи, прости!..»
http://litgazeta.dompisatel.ru/archives/747

Была Державная Россия,
Была великая страна
С народом мощным, как стихия,
Непобедимым, как волна.
Но, под напором черни дикой,
Пред ложным призраком "свобод"
Не стало Родины великой
Распался скованный народ.
В клочки разорвана порфира,
Растоптан царственный венец,
И смотрят все державы мира,
О, Русь, на жалкий твой конец!
Когда-то властная Царица,
Гроза и страх своих врагов,
Теперь ты жалкая блудница,
Раба, прислужница рабов!
В убогом рубище, нагая,
Моля о хлебе пред толпой,
Стоишь ты, наша Мать родная,
В углу с протянутой рукой.
Да будут прокляты потомством
Сыны, дерзнувшие предать
С таким преступным вероломством
Свою беспомощную Мать!

В глазах раскинулся широко
Простор безбрежного пути,
И шепчем мы с тоской глубокой:
«Отчизна милая, - прости!»

Не унывай, не падай духом:
Господь рассеет царство тьмы,
И вновь прилежным, чутким слухом
Наш русский гимн услышим мы.
И снова наш Отец Державный
На прародительский Свой трон
Взойдет, как встарь, Самодержавный,
Сынов сзывая на поклон.
И в жалком рубище, нагая,
К стопам великого Царя
Падет в слезах страна родная,
Стыдом раскаянья горя!
И скажет Царь, в уста лобзая
Свою предательницу-дочь:
"Я все простил тебе, родная,
И Сам пришел тебе помочь.
Не плачь, забудь былые ковы;
С тобой я буду до конца
Неси твой крест, твои оковы
И скорбь тернового венца!"

В годины кровавых смут и невзгод
Я верю в Россию! - я верю в народ!
Я верю в грядущее радостных дней
Величья и славы отчизны моей!
Я верю, что годы страданий пройдут,
Что люди свое окаянство поймут,
И буйную злобу и ненависть вновь
Заменит взаимная наша любовь.
Я верю, что в блеске воскресных лучей
Заблещут кресты златоглавых церквей.
И звон колокольный, как Божьи уста,
Вновь будет сзывать нас в обитель Христа.
Я верю - из крови, из слез и огня,
Мы встанем, былое безумье кляня,
И Русью Святой будет править, как встарь,
Помазанник Божий - исконный наш Царь.

Наше Царство теперь
Не от мира сего.
У нас отнято все,
У нас нет ничего.
Нет ни пяди земли,
Нет роскошных палат,
Нет богатств родовых,
Услаждавших наш взгляд.
Все повержено в прах,
Все затоптано в грязь,
И порвалась навек
С жизнью прошлого связь.
Разлетелись, как дым,
Идеалов мечты,
Нет стремлений былых,
Нет былой красоты.
По насмешке шальной
Беспощадной судьбы -
Мы невольники бед,
Лиходеев рабы.
И, в изгнаньи томясь,
Под жестоким крестом,
В край нездешний идем
Мы вослед за Христом.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 04 Окт 2017, 20:46 | Сообщение # 37 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 
Да, это чудо из чудес-
Рязанское раздолье.
Кругом, куда не глянешь - лес,
Куда не глянешь - поле.
Не зря, наверное, не зря
Однажды в день осенний
Дала поэта здесь земля
С красивым именем: Есенин.
Р.Ковалев

Растеклась пелена осенняя,
распогодилась при луне.
Я возьму, перечту Есенина:
"Шаганэ моя... Шаганэ..."
Потеряются между строчками
и хандра моя и печаль.
Листья падают многоточием..
То ли жаль мне их...То ль не жаль...
Растворяется мгла осенняя,
новым чувством волнуя кровь.
Осень - это душа Есенина
и, конечно, его любовь.
С.Семенов

Не надо в осень пожитей весенних,
Без чуда так легко понять сейчас,
Что жив певец земли - Сергей Есенин,
Доступный сердцу каждого из нас.
Советуют равнины и нагорья
Любить, как он, и у судьбы просить
Не глубину есенинского горя,
А широту есенинской Руси.
Мы, как и он - Земли своей растенья
Её, родимой, впитывая кровь.
Россию любим, как любил Есенин
И это - неподдельная любовь.
В.Симонов

Скорей бы, скорей осенний
Уже начался листопад,
Великий Сергей Есенин,
Вернуть бы тебя назад...
Ты смог бы ещё поведать
Нам тайны сего бытия,
Раскрыть бы души секреты,
Тревожась, скорбя и любя...
Писал бы ты вновь о мире,
И Родину бы любил.
Стихи свои золотые
Ты снова бы нам дарил.
Ты был бы таким же грустным,
Но очень понятным нам.
Когда на душе мне пусто,
К твоим прибегаю стихам...
Спасибо, Поэт от Бога!
Нежный, грустный, осенний.
Ты очень открыл нам много,
Великий Сергей Есенин...
Н.Кравченко
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 10 Ноя 2017, 15:26 | Сообщение # 38 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ
(26.10. 1886 - 28.06. 1922)

В.Хлебников - это культ, и не поп-культ, как может показаться на первый взгляд, а культ узко конфессиональный. Но благодаря этому сейчас, больше века спустя, ясно: он оказался самым долгоиграющим поэтом из плеяды российских гениев, заявивших о себе в начале XX в. Великих имён та эпоха оставила множество. Но с Хлебниковым случилась особая история. У него тьма фанатов. Ни один из поэтов Серебряного века не получил такого числа исследователей и внимательных почитателей, как он. Секрет здесь вот в чём: наследие Хлебникова представляется столь сложным и многогранным, что для его постижения требуется гораздо больше интеллектуальных ресурсов, чем для изучения творений Маяковского или какого-либо другого поэта. Велимир в своих безумных дерзаниях вылетал далеко за рамки литературы (некоторые поэты, например, Г.Иванов, вообще не считали его достойным внимания поэтом). Он был больше, чем поэт, больше, чем литератор. Поэтому литературоведы и искусствоведы просто не обладают достаточным инструментарием для полного анализа его трудов, и к делу подключаются математики, физики, историки, лингвисты, психологи, философы. Часто - самые неортодоксальные из них, работающие на грани фола (а то и за гранью).
Часто исследования творчества Хлебникова принимают сугубо специальные, узкопрофессиональные формы, а рядовой массовый читатель как не читал его (в отличие от того же Маяковского), так и не читает. Потому что для массового читателя тексты Хлебникова сложны, не всегда понятны и вообще - слишком уж нетрадиционны.
Большинству образованных людей известны ставшие хрестоматийными «Кузнечик», «Бобэоби», «Смехачи» и, может быть, сверхповесть «Зангези». Плюс-минус пара стихотворений. Ну и два-три термина, которые обычно используют для разговора о его поэзии: «словотворчество», «заумь», «мифотворчество», «будетлянин». Остальное – удел специалистов и поклонников.

Велимир в мордовской шапке. Рис. В.Хлебниковой, 1910-12гг.
Сначала Велимир был близок к символистам - посещал «башню» В.Иванова и «Академию стиха» при журнале «Аполлон». С символистами его роднило увлечение славянской мифологией, историей, эксперименты в области формотворчества (свободный стих, ритмизованная проза). Но вскоре становится ясно, что он вовсе не символист. При всем внимании к прошлому, он слишком ориентирован на будущее. Впрочем, футуристом его тоже до конца назвать нельзя. Во-первых, он не пользовался этим термином, предпочитая собственный неологизм «будетляне», а, во-вторых, его идеи сильно выходили за рамки каких бы то ни было условностей (к числу которых, несомненно, принадлежит деление поэзии на группы и движения). Теснее всего он общался с В.Ивановым, Д.Бурлюком и с Маяковским. Все трое не сомневались в гениальности Хлебникова.
Вспоминает Н.Асеев: «В.Иванов признавал, что творчество В.Хлебникова – творчество гения, но что пройдет не менее ста лет, пока человечество обратит на него внимание. Когда я спросил его, почему он, зная, что уже есть гениальный поэт, не содействует его популярности (в это время отзыв В.Иванова был обеспечением книги на рынке) и не напишет, что его творчество - исключительно, В.Иванов с загадочной улыбкой ответил: “Я не могу и не хочу нарушать законов судьбы. Судьба же всех избранников - быть осмеянными толпой ”».

Хлебников с подругой. Херсон, 1912.
Всех, кто с ним сталкивался, он поражал. Одних – своей рассеянностью, других – своим талантом. Замечательно впечатление Б.Лифшица от одного только вида хлебниковских рукописей. Он рассказывает о них как о беспорядочном ворохе разноформатных бумаг, бумажек и обрывков самого неожиданного происхождения (вплоть до вырванных из бухгалтерской книги). На них мельчайшим бисерным почерком в разных направлениях разлетались, перекрывая одна другую, записи самого разнообразного содержания. Столбцы слов, даты исторических событий, математические формулы, черновики писем, собственные имена, колонны цифр. Во всем этом с большим трудом можно было угадать элементы организованной речи.
«То, что нам удалось извлечь из хлебниковского половодья, - пишет Лифшиц, - кружило голову, опрокидывало все обычные представления о природе слова. Все мое существо было сковано апокалиптическим ужасом, ибо я увидел воочию оживший язык. Дыхание довременного слова пахнуло мне в лицо. И я понял, что от рождения нем. Весь Даль с его бесчисленными речениями крошечным островком всплыл среди бушующей стихии. Она захлестывала его, переворачивала корнями вверх застывшие языковые слои, на которые мы привыкли ступать как на твердую почву. Необъятный, дремучий Даль сразу стал уютным, родным, с ним можно было сговориться: ведь он лежал в одном со мною историческом пласте и был вполне соизмерим с моим языковым сознанием. А эта бисерная вязь на контокоррентной бумаге обращала в ничто все мои речевые навыки, отбрасывала меня в безглагольное пространство, обрекала на немоту. Я испытал ярость изгоя и из чувства самосохранения был готов отвергнуть Хлебникова.
Конечно, это был только первый импульс. Я стоял лицом к лицу с невероятным явлением. Процесс, мыслившийся до сих пор как функция коллективного сознания целого народа, был воплощен в творчестве одного человека. Обнажение корней, по отношению к которому поражавшие нас словоновшества играли лишь служебную роль, было и не могло быть ничем иным, как пробуждением уснувших в слове смыслов и рождением новых. Именно поэтому обречены на неудачу всякие попытки провести грань между поэтическими творениями Хлебникова и его филологическими изысканиями. Во что превратилась бы вся наша живопись, если бы в один прекрасный день мы вдруг проснулись со способностью различать сверх семи основных цветов солнечного спектра еще столько же? Самые совершенные холсты утратили бы свою глубину и предстали бы нам графикой. Все живописные каноны пришлось бы создавать заново. Слово, каким его впервые показал Хлебников, не желало подчиняться законам статики и элементарной динамики, не укладывалось в существующие архитектонические схемы и требовало для себя формул высшего порядка. Механика усложнялась биологией. Опыт Запада умножался на мудрость Востока. И ключ к этому лежал у меня в ящике письменного стола, в папке хлебниковских черновиков. Путь Хлебникова был для меня запретен. Да и кому, кроме него, оказался бы он под силу?»

Автопортрет
В декабре 1912 г. появился программный сборник футуристов «Пощечина общественному вкусу». Тот самый, в котором впервые раздались призывы сбросить Пушкина и Лермонтова с парохода современности, и где были декларированы главные принципы нового искусства. Хлебников, разумеется, в этом поучаствовал. Но в 1915 г. сказал: «Будетлянин – это Пушкин в освещении мировой войны, в плаще нового столетия, учащий праву столетия смеяться над Пушкиным 19 века. Бросал Пушкина «с парохода современности» Пушкин же, но за маской нового столетия».
Для самого Хлебникова программной была, скорее, изданная им в том же 1912 г. книжица «Учитель и ученик». Там в форме диалога между учителем и учеником дан своего рода свод задач, которые поэт ставит перед собой и своим творчеством. Рассуждения о «внутреннем склонении слов» и кое-что о математическом исчислении законов, управляющих историческими событиями. В этом тексте Хлебников, опираясь на разработанный им метод прогнозирования, предсказывает, что в 1917 г. произойдет очередное падение великого государства. Более подробный свод своих вычислений он даёт в трактате «Доски судьбы» (который выглядел настолько дико, что его никто не хотел публиковать).
Великая поэзия перемежается в этой книжке с дикой визионерской прозой и взрывается вихрем математических вычислений и невероятных таблиц, посредством которых Хлебников пытается преподнести человечеству открытые им законы времени.(«Таким я уйду в века - открывшим законы времени», - писал он в одном из писем.) По мнению Хлебникова, исторические события повторяются, как волны. Время циклично. Каждое определенное количество лет появляются в новых телах и культурах все те же личности, которые творят на новом витке истории все те же (но в новых формах) свершения. Например, себя он считал фараоном Эхнатоном, затем – О.Хайямом, а в предыдущем перерождении – Лобачевским.
«Законодательная деятельность» Хлебникова (он объявил себя «Королем Времени» и «Председателем Земного Шара», и писал «законы времени») была во многом, конечно же, лит. игрой. Но было в ней и много научного. Велимир был прекрасно знаком с теорией относительности, а в университете учился на математика. В своих вычислениях опирался на то, что пространство и время это не отдельные категории, а одна, цельная – «пространство-время». «Человек есть местовременная точка», – говорил он. И уточнял: «Жизнь есть частное числа дел и количества времени».

В.ХлеБников, 1913.
Основной тезис Хлебникова сформулирован в «Досках судьбы» так: «Я понял, что время построено на степенях двух и трёх, наименьших чётных и нечётных чисел. Я понял, что повторное умножение само на себя двоек и троек есть истинная природа времени. Там, где раньше были глухие степи времени, вдруг выросли стройные многочлены, построенные на тройке и двойке, и моё сознание походило на сознание путника, перед которым вдруг выступили зубчатые башни и стены никому неизвестного города... Я не выдумывал эти законы: я просто брал живые величины времени, стараясь раздеться донага от существующих учений, и смотрел, по какому закону эти величины переходят одна в другую, и строил уравнения, опираясь на опыт».
Там же Хлебников приводит огромное количество исторических примеров, призванных подтвердить правомерность этого "опытного закона степеней двоек и троек". К сожалению, во многих вычислениях при внимательном рассмотрении обнаруживаются ошибки. Но это ничуть не умаляет величину поэтической интуиции Хлебникова. Ведь то, о чем он говорил (концепция «пространство-времени», волновая природа времени и тому подобные вещи) сейчас стало вполне общепризнанной частью физической науки (например, работы Кондратьева и Чижевского по волнообразным колебаниям социальных сред и другие родственные теории). На языке науки то, чем пытался заниматься поэт, называется спектральным анализом, то есть – выявлением подобий (в данном случае – в истории).
Основанное на этом методе прогнозирование сейчас активно практикуется физиками. Ученые обнаруживают циклические закономерности, проявляющиеся в самых разных средах, и, анализируя эти закономерности, выводят прогнозы, которые часто поражают своей точностью. Просто Хлебников пытался выразить все это слишком поэтически: «Язык человека, строение мяса его тела, очередь поколений, стихии войн, строение толп, решетка множества его дел, самое пространство, где он живет, чередование суши и морей – все подчиняется одному и тому же колебательному закону».
При этом филология, история и математика никогда не были для него чем-то отделенным от поэзии. Все это было тесно переплетено в спонтанных озарениях. И именно это ставит на рискованную грань между безумием и дерзостью любую попытку всерьез рассматривать его историософские концепции и «законы времени» с научных позиций. Однако совсем не замечать этой части деятельности Хлебникова и видеть в нем исключительно автора гениальных стихотворений тоже не вполне правильно. Ведь легендарные словотворческие и мифотворческие свершения, на которых держатся почти все его стихи, имеют один общий корень с его математическими построениями.
Этот корень – попытка открыть всеобщий закон мировой жизни, который позволил бы человеку ощутить свою тождественность со вселенной, уничтожить иллюзорную границу между временем и пространством и познать будущее в настоящем. Настоящее при таком подходе одновременно вмещает в себя и прошлое, и будущее. Что и нашло свое отражение в футуристической концепции преодоления времени. Как писал Маяковский, «Слушайте! / Из меня / слепым Вием / время орет: / Подымите / подымите мне / веков веки!»
Отсюда и интерес к прошлому, к архаике, к мифологии и фольклору, к корням слова и живому взаимодействию с ними. Отсюда и штудирование сборника Афанасьева и странные, на первый взгляд хаотичные путешествия Хлебникова по России. «Словотворчество – враг книжного окаменения языка и, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем», - писал Хлебников в еще одном программном своем тексте – «Наша основа» (пожалуй, самом простом и отлично подходящем для начала знакомства с его теориями). Он по-видимому, все-таки открыл для себя этот всеобщий закон мировой жизни и растворился во времени и мифах, которые сам же и оживил. А та постоянная активность, которую проявляют сейчас его внимательные читатели, делает его самым долгоиграющим и культовым поэтом Серебряного века и неизменно укрепляет мифологическое поле вокруг Председателя Земного Шара и Короля Времени.
Глеб Давыдов, веб-журнал "Перемены"
http://www.peremeny.ru/column/view/930

Когда над полем зеленеет
Стеклянный вечер, след зари,
И небо, бледное вдали,
Вблизи задумчиво синеет,
Когда широкая зола
Угасшего кострища
Над входом в звездное кладбище
Огня ворота возвела,
Тогда на белую свечу,
Мчась по текучему лучу,
Летит без воли мотылек.
Он грудью пламени коснется,
В волне огнистой окунется,
Гляди, гляди, и мертвый лег.

Когда умирают кони - дышат,
Когда умирают травы - сохнут,
Когда умирают солнца - они гаснут,
Когда умирают люди - поют песни.

Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И капля молока.
Да это небо,
Да эти облака!

Мне гораздо приятнее
Смотреть на звезды,
Чем подписывать
смертный приговор.
Мне гораздо приятнее
Слушать голоса цветов,
Шепчущих «это он!».
Когда я прохожу по саду,
Чем видеть ружья,
Убивающих тех, кто хочет
Меня убить.
Вот почему я никогда,
Никогда
Не буду правителем!

Еще раз, еще раз,
Я для вас звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни,
И камни будут надсмехаться
Над вами,
Как вы надсмехались
Надо мной.

Я победил: теперь вести
Народы серые я буду,
В ресницах вера заблести,
Вера, помощница чуду.
Куда? отвечу без торговли:
Из той осоки, чем я выше,
Народ, как дом, лишенный кровли,
Воздвигнет стены в меру крыши.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 13 Дек 2017, 16:45 | Сообщение # 39 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | ИРИНА КНОРРИНГ
(04.05. 1906 - 23.01. 1943)

Ирина Николаевна Кнорринг - известная русская поэтесса и публицист, яркая представительница русской эмиграции - это имя сегодня вспомнили или узнали немногие. Это - русский поэт, век которого был недолгим и окончился вдали от родины.
Россия! Печальное слово,
Потерянное навсегда
В скитаньях напрасно-суровых,
В пустых и ненужных годах.
Туда никогда не поеду,
А жить без неё не могу.
И снова настойчивым бредом
Сверлит в разъярённом мозгу:
Зачем меня девочкой глупой
От страшной родимой земли,
От голода, тюрем и трупов
В двадцатом году увезли?
Она родилась в селе Елшанка Самарской губернии, в родовом поместье отца - Николая Николаевича Кнорринга, русского историка; мать её - Мария Владимировна (урожденная Щепетильникова) была дочерью статского советника. Первые годы жизни Ирина провела в Елшанке; когда отец получил назначение на должность директора гимназии, семья переехала в Харьков.
В 4 года Ирина научилась читать, в 8 появились её первые стихи. Она была ещё гимназисткой, когда её семья вынуждена была поспешно уехать в Ростов-на-Дону. Шёл 1919-й год. Остались позади гимназия, уроки фортепьяно и танцев. Начался период странствий: Туапсе, Севастополь. 13 ноября 1920г. на линкоре «Генерал Алексеев» семья покинула Россию. В Константинополе в числе гражданских лиц семья Кноррингов была переведена на пассажирский пароход «Великий князь Константин», и зимой 1921 г. прибыла в Тунис. Остановились они в Сафьяте - пригороде Бизерты.
Я не умею говорить слова,
Звучащие одними лишь словами.
Я говорю мгновенными стихами,
Когда в огне пылает голова.
Мне слух не ранит острая молва,
Упрек не тронет грязными руками.
А восемнадцать лет - как ураган, как пламя, -
Вступили, наконец, в свои права.
И если кто-нибудь войдет ко мне,
И взглянет мне в глаза улыбкой ясной, -
Он не таким уйдет назад. Напрасно
Он будет думать о своей весне.
Я так беспомощно, так безучастно
Томлюсь в каком-то жутком полусне.
26.05. 1924

Там даль ясна и бесконечна,
Там краски знойны и пестры,
И по долинам в душный вечер
Горят арабские костры.
Там иногда далеко, где-то
Журчит прибой взметенных волн,
Там в синих форменках кадеты
Играли вечером в футбол.
Там счастье было непонятно,
И был такой же серый день,
Как те разбросанные пятна
Арабских бедных деревень.
Там безрассудные порывы
Мешались с медленной тоской,
Оттуда мир, пустой и лживый,
Казался радостной мечтой.
Там сторона моя глухая,
Где горечь дум узнала я,
Пусть ненавистная, пусть злая,
Вторая родина моя.
14.11. 1925
Отец начал преподавать историю культуры в Морском корпусе, Ирина училась в школе, расположенной на броненосце «Георгий Победоносец». Летом 1924 г. она сдала экзамены на аттестат зрелости, а в мае 1925 г. семья переехала во Францию.
Молчу и стыну в тишине пустой.
И сдавлен мозг цепями дум унылых,
Как будто полон дом нечистой силы
И завелся в камине домовой.
Шуршит обоями, стучит по крыше,
Ползет в углу мохнатым пауком…
В осенней мгле шаги, как будто, слышу,
Не где-то бесконечно далеко.
Я подожду, пусть тихий ливень хлынет,
Мне хорошо в осеннем полусне.
Мохнатый домовой сидит в камине
И неутешно плачет обо мне.
09.10. 1925
Воспоминания о растерзанной родине, о родном доме не покидали её. В свои !1 лет Ирина решила вести дневник. Начала его такими словами: "В эту тетрадь я буду писать все, что только можно выразить чернилами и пером. Из отдельных дней у меня выйдет целая повесть, моя собственная повесть обо мне".
Она писала: «Быстро шли мы, хлюпая по мокрому снегу, и вот уже свернули на Пушкинскую улицу. Тут я в последний раз остановилась и глянула на милую Чайковскую, с которой связано было столько воспоминаний. И так ясно запечатлелась она у меня в памяти: тающий снег, широкая поляна, а вдали, едва окутанный легким туманом, – большой красный дом. Как полюбила я его в этот миг».
Именно в этом «большом красном доме» (ул. Чайковская,16), стоящем на краю улицы, у глубокого оврага, в мае-июне 1919 г. была одна из харьковских «чрезвычаек» – концентрационный лагерь ЧК. Эти воспоминания написаны, когда их автору ещё не исполнилось и 14 лет. «В нашем доме будет карательный отряд. Может быть, в наших комнатах будут пытки! Фу! Саенко (товарищ Кина, комендант города) говорил, что людей расстреливать он не будет: пули нужны на войне, а он просто – ножом» (запись от 29 апреля 1919 г.).
Она пишет стихи, пишет много, её охотно печатают в русскоязычных изданиях.
Вдали канонада. Догонят?.. Да?..
Не надо, не надо.
О, никогда!..
Прощальная ласка
Весёлого детства -
Весь ужас Батайска,
Безумие бегства...
Семья жила бедно. Отец работал в Тургеневской библиотеке, читал лекции в Русском народном университете, публиковал свои статьи в русской газете; но этого было недостаточно, и матери пришлось работать на парфюмерной фабрике и вместе с дочерью вязать и вышивать на продажу.
Стучались волны в корабли глухие,
Впивались в ночь молящие глаза.
Вы помните - шесть лет тому назад
Мы отошли от берегов России.
Ирина продолжала своё образование на курсах французского языка, на лекциях, в Русском народном университете, в Сорбонне на русско-филологическом отделении, ходила на собрания поэтов и писателей, где бывали В.Ходасевич, М.Цветаева, В.Иванов. Зимой 1928 г. вышла замуж за Г.Б. Софиева. Венчавший их священник, знавший семью Кноррингов ещё с Бизерты, сказал генералу: «У Ирины... очень поэтическая душа. Но всегда очень грустна её муза. От вас, Юрий Борисович, зависит, чтобы на её лире зазвучали другие ноты».
А её поэзия становилась более грустной от физического недомогания: она не знала, что уже давно страдает от «сахарной болезни» (так раньше называли диабет). Через год у четы Софиевых родился сын, и в стихах появились новые ноты. В 1930-е годы Ирина перестала посещать литературные общества, но стихи продолжала писать и вела дневник. Здоровье её всё ухудшалось.
Ну, что ж? И счастье станет прахом,
И не во сне, и не в бреду -
Я без волнения и страха
Покорно очереди жду.
Она всё более тосковала по родине:
Я верю в Россию. Пройдут года
Быть может, совсем немного,
И я, озираясь, вернусь туда
Далекой, ночной дорогой.
Началась Вторая мировая война. Ю.Софин был мобилизован во французскую армию, после её капитуляции участвовал в движении сопротивления. В своём доме Софиевы укрывали бежавших из плена советских военнопленных и евреев. ...Ирина Кнорринг умерла от диабета 23 января 1943 г., похоронена на кладбище Иври, под Парижем. 7 декабря 1965 г. состоялось перенесение праха на русский участок кладбища Сент-Женевьев де Буа. Церемония была организована братом Ю.Софиева – Львом Оскаровичем Бек-Софиевым. Её родителям выпало горе пережить дочь. Мать умерла в Париже в 1954г. Н.Н. Кнорринг и семья Софиевых вернулись на родину в 1955г. Им разрешено было жить в Алма-Ате.
Дневник И.Кнорринг недавно издан в России под авторским названием «Повесть из собственной жизни». В статье «Поэзия и поэты» на посмертную книгу стихов Кнорринг, вышедшую в 1949, В.Иванов писал: «Покойная Ирина Кнорринг всегда, а в последние годы жизни особенно, стояла в стороне от пресловутого Монпарнаса, не поддерживала литературных связей, одним словом, не делала всего необходимого для того, чтобы поэта не забывали, печатали, упоминали в печати. И поэтому даже ее последняя книга почти никем не была отмечена с вниманием и сочувствием, которые она заслуживает…»
Ирина Кнорринг умерла в возрасте многих истинных поэтов. Её стихи остались, они живут, удивляют, звучат неповторимой музыкой.

Измены нет. Но где-то в тайне,
Там, где душа совсем темна,
В воображаемом романе
Она уже совершена.

И каждый день, и каждый вечер -
Томленье, боль, огонь в крови.
Воображаемые встречи
Несуществующей любви.
А тот - другой - забыт и предан.
(Воображаемое зло)
Встречаться молча за обедом
Обидно, скучно, тяжело.
Круги темнее под глазами,
Хмельнее ночь, тревожней день.
Уже метнулась между нами
Воображаемая тень.

Так, - проводя, как по указке
На жизни огненный изъян -
Ведёт к трагической развязке
Воображаемый роман.

Снова - ночь. И лето снова.
(Сколько грустных лет!)
Я в накуренной столовой
Потушила свет.
Папироса. Пламя спички.
Мрак и тишина.
И покорно, по привычке
Встала у окна.
Сколько здесь минут усталых
Молча протекло:
Сколько боли отражало
Темное стекло.
Сколько слов и строчек четких
И ночей без сна
Умирало у решетки
Этого окна…
В отдаленьи - гул Парижа
(По ночам – слышней).
Я ведь только мир и вижу,
Что в моем окне.
Вижу улицу ночную,
Скучные дома,
Жизнь бесцветную, пустую,
Как и я сама.
И когда тоски суровой
Мне не превозмочь, -
Я люблю окно в столовой,
Тишину и ночь.
Прислонюсь к оконной раме
В темноте ночной,
Бестолковыми стихами
Говорю с тобой.
И всегда тепло и просто
Отвечают мне
Наши камни, наши звезды
И цветы в окне.

Россия − плетень да крапива,
Ромашка и клевер душистый,
Над озером вечер сонливый,
Стволы тополей серебристых.
Россия − дрожащие тени,
И воздух прозрачный и ясный,
Шуршание листьев осенних, –
Коричневых, желтых и красных.
Россия − гамаши и боты,
Гимназии светлое зданье,
Оснеженных улиц полеты
И окон замерзших сверканье.
Россия − базары и цены,
У лавок голодные люди,
Тревожные крики сирены,
Растущие залпы орудий.
Россия − глубокие стоны,
От пышных дворцов до подвалов,
Тревожные цепи вагонов
У душных и темных вокзалов.
Россия − тоска, разговоры,
О барских усадьбах, салазках…
Россия − слова, из которых
Сплетаются милые сказки.
Бизерта, 1924
О творчестве поэтессы положительно отзывались известные поэты и критики:
Анна Ахматова: «По своему высокому качеству и мастерству, даже неожиданному в поэте, оторванном от стихии языка, стихи Ирины Кнорринг заслуживают увидеть свет. Она находит слова, которым нельзя не верить. Ей душно, скучно на западе. Для нее судьба поэта тесно связана с судьбой родины, далекой и даже, может быть, не совсем понятной. Это простые, хорошие и честные стихи. Анна Ахматова. 18 февраля 1962, Комарово».
Владислав Ходасевич: «Кнорринг порой удается сделать “женскость” своих стихов нарочитым приемом – и это уже большой шаг вперед. Той же Ахматовой Кнорринг обязана чувством меры, известною сдержанностью, осторожностью... – вкусом».
Михаил Цетлин: «Стихи Ирины Кнорринг написаны с подкупающей правдивостью. Видно, что они писались не для читателя, а для себя, как пишут Дневник женской души, знавшей много боли, прошедшей через горькие испытания эмиграции».
http://www.stihi.ru/2016/04/22/3029
http://soyuz-pisatelei.ru/forum/46-1022-1
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 30 Янв 2018, 23:13 | Сообщение # 40 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | ЛАРИССА АНДЕРСЕН
(1911 - 2012)

Во Франции, на 102 году жизни, в госпитале старинного городка Ле-Пюи (Верхняя Луара), скончалась одна из самых ярких поэтесс «русского Китая» Л.Андерсен. Она оставалась последней из когорты литераторов восточной ветви русской эмиграции. Единственной, кто уцелел с затонувшей «Русской Атлантиды». И пошли лишь круги по воде...
«Ларисса Андерсен - это Сказки, таинственность волшебных лесов, мудрые деревья, звезды, как костры в темно-синем небе. И отсутствие шаблона. С самого детства. Вероятно, на всю жизнь», - А. Ачаир (Грызов)

Она была на редкость красива и изящна. Синие глаза с длинными ресницами-стрелами, шикарные темные с медным отливом вьющиеся волосы, точеная фигура и поразительная грация. Ларисса не только писала стихи и прозу, она прекрасно танцевала (ее учительницей была Л.К. Дроздова, известный хореограф, причисленная в свое время к российскому императорскому двору), хорошо рисовала и тонко чувствовала мир.
Все меньше красивых женщин,
Все меньше стихов и песен,
И мир, разлукой увенчан,
Стал душен, печален, тесен…
Ах, только ты, Ларисса –
Какой-то отсвет старинный…
Так написал о Лариссе поэт В.Логинов. Она была дамой сердца многих талантливых мужчин. Что же это за женщина? Она - представитель эмигрантских литературных кругов Китая 20–40-х годов прошлого столетия, поэтесса, танцовщица и просто интересная личность. Была знакома со многими признанными поэтами и писателями XX в.
Ларисса родилась в в Хабаровске в семье офицера царской армии. Вместе с родителями 11-летней девочкой покинула Владивосток в 1922 г/ с эскадрой контр-адмирала Старка, отправившись в свое пожизненное эмигрантское плавание. Она держала в руках самовар, обернутый маминым бархатным платьем с соболиной оторочкой. Ее детство и юность прошли в Харбине. Семье, как и тысячам русских беженцев, на первых порах пришлось бедствовать. Лариса рисовала портреты американских актеров, расписывала конфетные коробки. Но именно этому городу суждено было стать культурным центром русского зарубежья в первой половине ХХ в.. Именно здесь возникла знаменитая литературная студия «Молодая «Чураевка» (п/р А.Ачаира), участницей которой стала Л.Андерсен. Ей было 15 лет, когда она опубликовала свое первое стихотворение «Яблони цветут». И оно сразу определило ее судьбу.
Месяц всплыл на небо, золотея,
Парус разворачивает свой,
Разговор таинственный затеял
Ветер с потемневшею листвой…
Ведь совсем недавно я мечтала:
Вот как будут яблони цвести,
Приподнимет мрачное забрало
Рыцарь Счастье на моём пути.
Говорят, что если ждать и верить, -
То достигнешь. Вот и я ждала…
Сердце словно распахнуло двери
В ожиданье света и тепла!
Всё как прежде… Шевелятся тени,
Платье, зря пошитое, лежит…
Только май, верхушки яблонь вспенив,
Лепестками белыми кружит.
Месяц по стеклу оранжереи
Расплескал хрустальный образ свой,
Маленькие эльфы пляшут, рея
Над росистой, дымчатой травой…
Надо быть всегда и всем довольной.
Месяц - парус, небо - звёздный пруд…
И никто не знает, как мне больно
Оттого, что яблони цветут.
Вокруг нее всегда царила атмосфера восхищения и влюбленности. Белая яблонька, Джиоконда, Сольвейг, Печальный цветок - вот лишь неполный список имен, которыми величали Лариссу современники. Ее жизнь можно сравнить с увлекательнейшим романом, увы, почти неизвестным нашим современникам.

У нее была особая, только ей присущая красота: синие глаза, локоны с оттенком благородной меди, чистый овал лица, врожденная грация. Было время, когда Лариссу находили удивительно похожей на знаменитую актрису Вивьен Ли. (В наши дни Л.Андерсен вошла в список самых известных русских красавиц ХХ в.). Она была знакома с удивительными людьми своего времени: с Николаем и Святославом Рерихами, А.Вертинским, И.Одоевцевой, Б.Зайцевым, З.Шаховской. И это был круг равных.
Ветер весенний поет
По большим и пустынным дорогам…
Солнце, протаявший лед -
Это так много, так много!
Как мне об этом сказать?
Как бы пропеть мне об этом?
Надо, чтоб стали глаза
Брызгами яркого света.
Разве глаза у людей
Могут казаться такими?
Белое платье надеть?
Выдумать новое имя?
И закричать, зазвенеть
Ветру, дороге и полю…
Слов человеческих нет
Этому счастью и боли!
В 1934 г. Ларисса познакомилась с Н.Рерихом, который посетил Харбин. Ее представили ему, как подающую большие надежды художницу. А он заметил, что в этой девушке много света. Когда отец устроился на постоянную работу, семья переехала в уютный и лучший район. Лариса вспоминала: «Харбин был особенным городом. Это сочетание провинциального уюта с культурными возможностями, я оценила позднее, когда из него уехала… В Харбине было все, что надо для молодежи: спорт, купания, яхты. Зимою коньки, салазки, переезды через реку по льду на специальных двухместных санках, которые китайцы отталкивали шестом. На другом берегу ждали маленькие теплые рестораны с пельменями или с пирожками. А университетские балы и маскарады! А еще драма, опера, оперетта, концерты, библиотеки! Как много здесь в связи с бегством из России находилось высокообразованных людей: профессоров, писателей, художников. И все это было доступно. Именно там, в эмиграции, особенно среди молодежи, бесклассовое общество получилось само собой…».
В начале 30-х Ларисса переехала в Шанхай, вернее убежала, как от болезни или от наважденья, отмахиваясь и от переживаний, и от писем влюбленных в нее «кружковцев» Двое из них покончили жизнь самоубийством. Ходят разговоры, что именно из-за нее, не выдержав разлуки со своей Сольвейг. До конца жизни она винила себя в такой страшной развязке.
Вот и я стою у порога,
Истекает мне данный срок,
Я надеюсь найти дорогу
На скрещенье твоих дорог.
Чтобы легкой, бесплотной тенью,
Я к тебе подойти смогла.
Попросить у тебя прощенья:
Не сумела спасти от зла.
Первые годы жизни в Шанхае были очень трудными. Она зарабатывала деньги не только танцами, выступая в ночных кабаре и в большом дансинг-холле, она выступала в показе мод французского салона, была лицом рекламы духов и печаталась на обложках журналов. Всё это были разовые заработки, но благодаря случаю (заболела танцовщица балетной труппы) ее пригласили в театр.
«Танцы в моей жизни были самой жизнью, – говорила Андерсен. – Техника может заслуживать самой высокой похвалы, но при этом она мертва, если нет огня, жара души». «Ларисса – вся огонь, вся истома», взрывалась хвалебными статьями пресса. Лучше всего ей удаются зажигательные танцы, как, например, гавайская румба.

Она гастролирует и в 1940 г. становится самой высокооплачиваемой танцовщицей. Сама придумывает танцы, продумывает детали костюмов. Ее выступления шли с аншлагом, но стихи уже стали частью ее жизни. Она продолжает писать. В Шанхае в 1940 г., вышел первый и единственный тоненький сборник ее стихов «По земным лугам», а в 1946-омнесколько лучших стихотворений Андерсен вошли в сборник русских поэтов Китая «Остров». Этот сборник позже назовут «Островом Лариссы». А.Вертинский был большим поклонником ее таланта и красоты. Строки из стихотворения Лариссы «Осень» он выделил сразу, когда слушал стихи местных шанхайских поэтов.
Осень шуршит по чужим садам,
Зябнет у чьих-то ржавых заборов…
Только одна, в пустоте простора
Ежится, кутаясь в дым, звезда.
Только одна в пустоте простора…
Стихотворение было грустное, так как недавно умерла мама Лариссы, оно заканчивалось так:
…В доме, наверно, пылает печь,
Кресло такое, что можно лечь.
Очень радушное в доме кресло,
Счастье с ногами в него залезло.
Счастье в мохнатом, теплом халате…
Там добрая мама и белая скатерть,
И чай с молоком.
Ларисса предполагала, что это стихотворение отозвалось в сердце Вертинского, так как он устал от всех скитаний вдали от Родины и мечтал об уюте дома. Его душа отозвалось на эти строки да и красота девушки мало кого могла оставить равнодушным. Он сравнивал ее с «прекрасным и странным, печальным цветком» и был покорен.

«Если бы Господь Бог не дал Вам Ваших печальных глаз и Вашей Внешности – конечно, я бы никогда в жизни не обратил на Вас такого внимания и не наделал бы столько ошибок, сколько я наделал! – грустно восклицал Вертинский в одном из писем к Лариссе, …Важно, что Вы – печальная девочка с изумительными глазами и руками, с тонкими бедрами и фигурой отрока – пишите такие стихи!»
«Вы мой пленник и гость, светло-серая дикая птица,
Вы летели на Север. Я вас подобрал на снегу
С перебитым крылом и слезой на замерзшей реснице.
Я вас поднял, согрел и теперь до весны берегу…»
Они были созвучны по духу, поэзия их близка по тональности и музыкальности. Появились разговоры об их романе, эта легенда преследовала Лариссу Николаевну до самой смерти, хоть она доказывала ее несостоятельность. Возможно, Вертинский и был влюблен в нее, но безответно. Это ей посвящены строки «Ненужного письма»
Приезжайте. Не бойтесь.
Мы будем друзьями.
Нам обоим пора от любви отдохнуть,
Потому что уже никакими словами,
Никакими слезами ее не вернуть.
Будем плакать, смеяться, ловить мандаринов,
В белой узенькой лодке уйдем за маяк,
На закате, когда будет вечер малинов,
Будем книги читать о далеких краях.
Мы в горячих камнях черепаху поймаем,
Я Вам маленьких крабов в руках принесу.
А любовь похороним, любовь закопаем –
В прошлогодние листья, в зеленом лесу.
И когда тонкий месяц начнет серебриться
И лиловое море уйдет за косу,
Вам покажется белой серебряной птицей
Адмиральская яхта на желтом мысу.
Будем слушать, как плачут фаготы и трубы
В танцевальном оркестре, в большом казино.
А за Ваши печальные, детские губы
Будем пить по ночам золотое вино.
А любовь мы не будем тревожить словами,
Это мертвое пламя уже не раздуть,
Потому что, увы, никакими слезами,
Никакими стихами ее не вернуть.
Ларисса посвятила Вертинскому стихотворение «Печальное вино»:
Это было давным-давно,
Мы сидели, пили вино.
Не шумели, не пели, нет -
Угасал предвечерний свет.
И такая цвела весна,
Что пьянила и без вина.
Темнота подошла тайком,
Голубея лунным цветком,
И укрыла краем крыла,
А печаль все росла, росла,
Оставляя на много лет
Догорающий тихий след.
И, я знаю, никто из нас
Не забыл тот прощальный час,
Что когда-то сгорел дотла…
Так прекрасна печаль была,
Так звенела в ночной тиши,
Так светилась на дне души.
В 1956 г. Ларисса покинула Китай. Она вышла замуж за француза Мориса Шеза, представителя крупнейшей судоходной компании, который влюбился в нее с первого взгляда. Благодаря работе мужа началась волна переездов-путешествий. В Индии Ларисса занималась йогой с учителем Индры Дэви, ее первой наставницы, глубоко интересовалась агни-йогой, теософией, сказочным Востоком. В Индии познакомилась со Святославом Рерихом и его женой. Вела большую переписку с патриархом Кириллом Болгарским.

Она активно и жадно жила – продолжала рисовать, брала уроки вождения автомобиля, осваивала новые индийские танцы, писала. Затем был Индокитай, где Ларисса преподавала йогу, а деньги отдавала в приют слепых девочек и беспризорных мальчиков. Калейдоскоп мест мелькал – Африка, Сайгон, Индия… Но самым любимым местом оказался Таити.
“Только в заводи молчанья может счастье бросить якорь,
Только тихими глазами можно видеть глубину.
Знак молчанья, как присяга, как печать, лежит на всяком,
Кто свернул тропинкой тайной в заповедную страну.
В молчаливый час рассвета, озаренный солнцем ранним,
Там, где синие лагуны спят в оправе синих гор,
Так бросаются с обрыва в синеву летящим камнем,
Замирая, саланганы и вонзаются в простор.
И ни слов, ни размышлений. Как сказать об этом счастье?
Разве можно в миг полета размышлять - куда летишь?
Это может быть молитва. Это может быть - причастье,
Чтобы сердце сохранило эту утреннюю тишь.”
Белоснежные пляжи, бирюзовая вода, купание в прозрачной воде лагуны по утрам, живопись, общество интересных людей. Именно здесь она познакомилась с Евтушенко, который потом напишет, что встреча с ней ошеломила его. Мало того, что набрел в Таити (!) на русскую поэтессу, но к тому же на поэтессу редкостно красивую, в прошлом еще и известную танцовщицу. В это время она увлеклась прозой, ее заметки и очерки публикуются в русских эмигрантских журналах и газетах.
Из дальних стран семья Шезов прибыла в Париж в 1970 г., на новое место службы Мориса. Она вновь «заболела» стихами, Муза была рядом с ней и Ларисса стала писать, но, главным образом, для себя. Через год муж вышел на пенсию, и они перебрались «навсегда» в его родовое поместье в верховье Луары. Это волшебно красивые места, которые Ларисса полюбила сразу. Она с улыбкой вспоминала свою первую встречу со свекровью:
– Что это за девочка влезла на наше дерево?
– Это моя жена.
Лариссе было уже за 40. Она ездила верхом, занималась садом, преподавала йогу, ухаживала за кошками, которых в доме было, порой, больше 10. Иногда стихи «… подступали как слезы / как молоко у кормилицы», часто стихи приходили ночью. «Я думаю, – как-то заметила Ларисса, – что стихи – это как молитва у монахов: если молиться постоянно – то и выходит, а если нет – наступает «сухость» души. И стихи не звучат. А как хорошо, когда они звучат! Словно вот тут-то оно и есть то, для чего живешь…».
Я иду в этой жизни, спокойно толкаясь с другими…
Устаю, опираюсь на чье-то чужое плечо,
Нахожу и теряю какое-то близкое имя…
Похоронив мужа, Ларисса осталась жить в поместье одна.

В этом старом доме
Так скрипят полы
… В этом старом доме
Так темны углы…
Так шуршит и шепчет
Ночью тишина…
В этом старом доме
Я живу одна.
Но она продолжала вкусно жить. «Удовольствий у нее много: стихи, кошки, сигарета после утреннего кофе, прогулка по старой тенистой аллее в своем парке, чай с горячим красным вином и медом на ночь, маски для лица из шампанского с луком, мороженое, стихи, опять стихи… Для меня, приехавшей к Лариссе впервые, было удивительно увидеть все еще красивую женщину (94 года, господа!), чуть богемную в том смысле, что для нее разговоры о впечатлениях важнее разговоров предметных. Она очень хорошо рассказывает, но еще лучше умеет слушать. При этом ее глаза мягко сияют дореволюционной добротой и вниманием к собеседнику» – вспоминает Татьяна Масс.
В час, когда замирает земное согретое лоно,
И звенит тишина, и проходит вечерний Христос,
Усыпляет ягнят, постилает покровы по склонам,
Разливает в степи благовонное миро берез
И возносит луну, как икону…
В 2007 г. (еще при жизни поэтессы) в издательстве «Русский путь» была издана книга стихов, прозы и воспоминаний Лариссы Андерсен «Одна на мосту». Стихотворение «Одна на мосту» появилось после поездки в Россию в 1971 году. Лариса Николаевна сожалела, что эти строки не увидят на Родине. Но судьба распорядилась иначе. Книга все-таки вышла.
На том берегу – хуторок на поляне
И дедушкин тополь пред ним на посту…
Я помню, я вижу сквозь – слезы, в тумане,
Но всё ж я ушла и стою на мосту.
А мост этот шаток, а мост этот зыбок –
От берега деда на берег иной.
Там встретят меня без цветов, без улыбок
И молча ворота захлопнут за мной.
Там дрогнут и хмурятся темные ели,
И, ежась от ветра, мигает звезда…
Там стынут улыбки и стонут метели,
Нет, я не дойду, не дойду никогда!
Я буду стоять, озираясь с тоскою,
На сторону эту, на сторону ту…
Над пастью обрыва с проклятой рекою.
Одна. На мосту.
Ларисса Николаевна Андерсен - одна из самых ярких поэтесс «русского Китая», скончалась в госпитале старинного французского городка Ле-Пюи (Верхняя Луара). “Последний лепесток с восточной ветви русской эмиграции отлетел”. Она ушла легко, на выдохе. Спустя полчаса после того, как завершил обход больных священник, ее сердце остановилось. Она покоиться в фамильном склепе семьи Шез, рядом с мужем (1988 г.) и отцом, полковником русской царской армии. Последние годы он жил с дочерью, умер в 1961 г. В небольшом городке, затерянном в верховьях Луары, природа которой так напоминала ей родину, Дальний Восток: сосны, горы, бурные речушки.
Ларисса (в переводе с греческого - «чайка») не дожила до своего дня Ангела (в России отмечается 8 апреля) несколько дней. С ее уходом завершилась летопись первой волны русской эмиграции в Китае.

Я буду умирать не споря,
Где и как надо хоронить.
Но жаль, что вдалеке от моря
Прервется жизненная нить.
По имени «морская птица»,
Я лишь во сне летать могу,
А хорошо бы очутиться
На том знакомом берегу.
Быть может, та скала большая,
Маяк с проломленной стеной
Стоят, как прежде, не мешая
Индустриальности земной.
И, примирившись с той стеною,
Вдали от пляжей и дорог,
Играет, как играл со мною,
Дальневосточный ветерок.
Там волны шепчутся смиренно
О чем-то мудром и простом,
А меднокудрая сирена
Лукаво шелестит хвостом.
Ведь море было первой сказкой
И навсегда остался след —
Меня прозвали «водолазкой»,
Когда мне было восемь лет.
Вот там бы слечь под крики чаек,
Узнав далекий детский рай,
Последним вздохом облегчая
Уход в потусторонний край.
Меня бы волны покачали,
Препровождая на тот свет,
Где нет ни скорби, ни печали,
Но, может быть, - и моря нет.
http://nasati.ru/larissa-andersen-pechalnye-stihi.html
http://rusoch.fr/ru/tour/larisa-andersen-po-imeni-morskaya-ptica.html

Я еще не изведала горя,
Я еще молода и резва,
И живу я у самого моря -
Предо мной, надо мной - синева!
Я еще никого не любила,
Никого не теряла, любя,
И ничья дорогая могила
Не отнимет меня у тебя.
Я росла для тебя. Между нами
Даже тени не встанут тайком.
Я ребенком играла с волнами,
С золотым побережным песком.
От песка этих кос позолота,
И от волн синева этих глаз.
Говорят, на спине кашалота
Приплыла я в полуденный час.
Это смуглое гибкое тело,
Как жемчужину, я берегла…
Так ему я сказать бы хотела,
Если б заново жить начала.

Посмеиваясь и хитря,
Мне месяц щурится лукаво.
Я все ж стараюсь повторять
Свои суровые уставы.
Но я слаба, как талый снег…
Но я нежна, как влажный ветер…
И… я не знаю, что честней:
Открыться или не ответить?
Ах, новый месяц, юный царь!
Мне страшно снять монашье платье…
Но сердце - молодой бунтарь,
Не думающий о расплате.

Я боюсь своей легкой походки,
И цветов, и стихов, и… вас
Я боюсь нежданной находки
В такой неурочный час.
Я боюсь ожидания чуда
И внезапных припадков слез.
Нет, уж лучше я брать не буду
Этих ваших влюбленных роз.

Нам пели птицы - мы не слушали.
К нам рвался ветер - не проник.
Теперь засушенными душами
Мы ищем высохший родник.
Хлопочем, рыщем, спотыкаемся,
А нажить - грузом на плечах!
Шутя грешим, небрежно каемся
И утопаем в мелочах.
Еще манит земля весенняя,
Зовет кукушка за рекой,
Но нам дороже воскресения
Наш озабоченный покой.

Вчера я маме укрыла
Могилку зеленым мхом,
И стала иной могила,
Словно согрелась в нем.
Я долго лежала рядом
И гладила мох щекой.
Взглянула ночь за ограду
И стала тихой такой…
Застыло вверху распятье,
Глядели белки камней.
И молча, в зеленом платье,
Мама пришла ко мне.

Я думала, Россия - это книжки.
Все то, что мы учили наизусть.
А также борщ, блины, пирог, коврижки
И тихих песен ласковая грусть.
И купола. И темные иконы.
И светлой Пасхи колокольный звон.
И эти потускневшие погоны,
Что мой отец припрятал у икон.
Все дальше в быль, в туман со стариками.
Под стук часов и траурных колес.
Россия - вздох.
Россия - в горле камень.
Россия - горечь безутешных слез.

Короче дни. И жизнь короче,
Нет больше никаких «потом»…
И дождь занудливо бормочет,
И я одна… с моим котом.
И вновь передо мной былое,
Все, что я сделала «не так»…
А время безучастно злое
Сверлит свое - тик-так, тик-так…
Кому нужны мои тревоги,
Мои ошибки и грехи?
Тут, на земле, святые строги,
А в небе ангелы глухи.
Вот если б я могла слезами
Тебя вернуть, тебе помочь -
То я бы плакала годами,
Как в ту злопамятную ночь.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 09 Фев 2018, 22:22 | Сообщение # 41 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | К 181 годовщине со дня гибели...

худ. П.Восновский
Не говорить о Пушкине нельзя,
Он, как звезда Вселенского начала,
Которая плывет, меж звезд скользя,
От Божьего священного причала.
И озаряет светом мрачный мир,
Как Бог своим неповторимым Словом.
Он был из тех мятежников-задир,
Что старое преображали в новом.
Писали кровью чаще, чем пером,
Переполняя чувственностью строки,
И поражали страстью, словно гром,
Ища в себе небесные истоки.
И находили свой священный путь,
Где человека и Вселенной суть.
И Пушкин по природе был из тех,
За кем шагал уверенно успех.
О.Безымянная

худ. А.Е. Алексеев. Предчувствие. Пушкин перед дуэлью
Ссылка. Слава. Любовь. И опять
В очи кинутся версты и ели.
Путь далек. Ни проснуться, ни спать -
Даже после той подлой дуэли.
Вспоминает он Терек и Дон,
Ветер с Балтики, зной Черноморья,
Чей-то золотом шитый подол,
Буйный табор, чертог Черномора.
Вспоминает неконченый путь,
Слишком рано оборванный праздник.
Что бы ни было, что там ни будь.
Жизнь грозна, и прекрасна, и дразнит.
Так пируют во время чумы.
Так встречают, смеясь, командора.
Так мятеж пробуждает умы
Для разрыва с былым и раздора.
Это наши года. Это мы.
Пусть на площади, раньше мятежной,
Где расплющил змею истукан,
Тишь да гладь. Но не вихорь ли снежный
Поднимает свой пенный стакан?
И гудит этот сказочный топот,
Оживает бездушная медь.
Жизнь прекрасна и смеет шуметь,
Смеет быть и чумой и потопом.
Заливает! Снесла берега,
Залила уже книжные полки.
И тасует колоду карга
В гофрированной белой наколке.
Но и эта нам быль дорога.
Так несутся сквозь свищущий вихорь
Полосатые версты дорог.
И смеется та бестия тихо.
Но не сдастся безумный игрок!
Всё на карту! Наследье усадеб,
Вековое бессудье и грусть...
Пусть присутствует рядом иль сзади
Весь жандармский корпус в засаде,—
Всё на пулю, которую всадит
Кто в кого — неизвестно. И пусть...
Не смертельна горящая рана.
Не кончается жизнь. Погоди!
Не светает. Гляди: слишком рано.
Столько дела еще впереди.
Мчится дальше бессонная стужа.
Так постой, оглянись хоть на миг.
Он еще существует, он тут же,
В нашей памяти, в книгах самих.
Это жизнь, не застывшая бронзой,
Черновик, не вошедший в тома.
О, постой! Это юность сама.
Это в жизни прекрасной и грозной
Сила чувства и смелость ума.
П.Антакольский

худ. А.Кувин. Похороны А.С. Пушкина
Сначала не в одной груди
Желанья мстить еще бурлили,
Но прозревали: навредит!
И, образумившись, не мстили.
Летели кони, будто вихрь,
В копытном цокоте: "надейся!.."
То о красавицах своих
Мечтали пьяные гвардейцы...
Все - как обычно... Но в тиши
Прадедовского кабинета
Ломаются карандаши
У сумасшедшего корнета.
Он очумел. Он морщит лоб,
Шепча слова... А трактом Псковским
Уносят кони черный гроб
Навеки спрятать в Святогорском.
Пусть неусыпный бабкин глаз
Следит за офицером пылким,
Стихи загонят на Кавказ -
И это будет мягкой ссылкой.
А прочих жизнь манит, зовет.
Балы, шампанское, пирушки...
И наплевать, что не живет,-
Как жил вчера - на Мойке Пушкин.
И будто не был он убит.
Скакали пьяные гвардейцы,
И в частом цокоте копыт
Им также слышалось: "надейся!.."
И лишь в далеких рудниках
При этой вести, бросив дело,
Рванулись руки... и слегка
Кандальным звоном зазвенело.
Наум Коржавин

худ. И.Репин
Когда ты горю тяжелейшему
Ни в чем исхода не найдешь.
Пошли сочувствующих к лешему:
Ведь не помогут ни на грош.
Но, нестерпимой мукой мучимый,
Проплакав ночи все и дни,
Ты лучше с детских лет заученный
Стих Пушкина читать начни.
Он с первых же двух строк, он вскорости
Такого солнца звон прольет,
Что горе вдруг не горше горести -
Ну той, как журавлей отлет.
Еще лишь третью вот, четвертую
Строку произнесешь потом,
Еще вот стих, что так знаком,
И не прочтешь ты целиком,
А сквозь слезу, с лица не стертую,
Сверкнешь восторга огоньком.
В.Казин

худ. М.П. Клодт
Как точен был он в предсказанье!
Как зорко видел сквозь века:
Не заросла в людском сознанье
К нему народная тропа!
Его поэзию и прозу
Тунгус читает и калмык!
Не подчинён метаморфозам
Великий Пушкинский язык!
Так совершенен - без изъяна!
Не достижим его Парнас!
Родник прозрачный без обмана,
Как воды, те, что пьёт Пегас!
Не долог век, но Провиденьем
Запечатлён был на всегда!
Кумир живущих! Светлый гений!
Пред истинным ничто года!
В.Карпова

...Она скончалась в бедности. По странной случайности гроб ее повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву. (Из старой энциклопедии)
Ей давно не спалось в дому деревянном.
Подходила старуха, как тень, к фортепьянам,
Напевала романс о мгновенье чудном
Голоском еле слышным, дыханьем трудным.
А по чести сказать, о мгновенье чудном
Не осталось грусти в быту ее скудном,
Потому что барыня в глухой деревеньке
Проживала как нищенка, на медные деньги.
Да и, господи боже, когда это было!
Да и вправду ли было, старуха забыла,
Как по лунной дорожке, в сверканье снега
Приезжала к нему - вся томленье и нега.
Как в объятиях жарких, в молчанье ночи
Он ее заклинал, целовал ей очи,
Как уснул на груди и дышал неровно,
Позабыла голубушка Анна Петровна.
А потом пришел ее час последний.
И всесветная слава и светские сплетни
Отступили, потупясь, пред мирной кончиной.
Возгласил с волнением сам благочинный:
"Во блаженном успении вечный покой ей!"
Что в сравненье с этим счастье мирское!
Ничего не слыша, спала, бездыханна,
Раскрасавица Керн, боярыня Анна.
Отслужили службу, панихиду отпели.
По Тверскому тракту полозья скрипели.
И брели за гробом, колыхались в поле
Из родни и знакомцев десяток - не боле,
Не сановный люд, не знатные гости,
Поспешали зарыть ее на погосте.
Да лошадка по грудь в сугробе завязла.
Да крещенский мороз крепчал как назло.
Но пришлось процессии той сторониться.
Осадил, придержал правее возница,
Потому что в Москву, по воле народа,
Возвращался путник особого рода.
И горячие кони били оземь копытом,
Звонко ржали о чем-то еще не забытом.
И январское солнце багряным диском
Рассиялось о чем-то навеки близком.
Вот он - отлит на диво из гулкой бронзы,
Шляпу снял, загляделся на день морозный.
Вот в крылатом плаще, в гражданской одежде,
Он стоит, кудрявый и смелый, как прежде.
Только страшно вырос,- прикиньте, смерьте,
Сколько весит на глаз такое бессмертье!
Только страшно юн и страшно спокоен,-
Поглядите, правнуки,- точно такой он!
Так в последний раз они повстречались,
Ничего не помня, ни о чем не печалясь.
Так метель крылом своим безрассудным
Осенила их во мгновенье чудном.
Так метель обвенчала нежно и грозно
Смертный прах старухи с бессмертной бронзой,
Двух любовников страстных, отпылавших розно,
Что простились рано, а встретились поздно.
П.Антокольский

Распахнув сюртук свой, на рассвете
Он вдыхал все запахи земли.
Перед ним играли наши дети,
Липы торжествующе цвели.
Бабочки весенние порхали
Над его курчавой головой.
Светлая задумчивость печали
Шла к нему, и был он как живой.
Вот таким с собою унесли мы
И хранили в фронтовой семье
Образ нам родной, неповторимый, -
Юношу на бронзовой скамье.
И когда в дыму врага, в неволе
Задыхался мирный городок,
Ни один боец без тайной боли
Вспомнить об оставшемся не мог.
Где теперь он? Что в плену с ним сталось?
Может быть, распилен на куски?
Увезен?.. И не глухая жалость -
Злоба нам сжимала кулаки.
Пробил час наш. Мы пришли с боями.
Смял врага неудержимый вал.
В парке нас, где бушевало пламя,
Встретил опустевший пьедестал.
Но легенд светлей иные были!
Словно клад бесценный в глубь земли,
Руки друга памятник зарыли
И от поруганья сберегли.
.............................................
Мы копали бережно, не скоро,
Только грудь вздымалась горячо.
Вот он! Под лопатою сапера
Показалось смуглое плечо.
Голова с веселыми кудрями,
Светлый лоб — и по сердцам людским,
Словно солнце, пробежало пламя,
Пушкин встал - и жив и невредим.
Вс.Рождественский

худ. М.Копьев
Читая кладезь песнопений,
Что нам оставил русский Гений
В стихах, поэмах или драме,
В чудесных сказках и романе,
И в прозах чудных повестей,
Публицистических страстей,
Шедеврах многих мудрых критик
И пугачёвских аналитик,
В походных дневниках Кавказа
И в письмах, что родятся сразу...
Забудешь время и дела -
Тебя Душа Его взяла:
К тебе Он, в возрасте любом,
Войдёт своим в душевный дом.
А.Беличенко

худ. В.В. Матэ
Потомкам Вас не позабыть.
Ведь стали Вы для них звездою!
Не каждому дано судьбою
Духовность русскую хранить.
Не меркнет славы ореол:
Пройдут века, тысячелетья -
Сердца людей на белом свете
Жечь будет также Ваш глагол!
С.Белов

худ. И.Котова
Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,
И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечер скоротечный;
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я.
А.С. Пушкин, 1816
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 04 Апр 2018, 17:57 | Сообщение # 42 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | ИВАН ПЕТРОВИЧ МЯТЛЕВ
(28.01. 1796 - 13.02. 1844)

самый весёлый русский поэт. Встречаются в отечественной словесности лица оригинальные, от которых, однако, остается вроде бы совсем немного - домашнее имя, две-три строки. В лучшем случае - какой-нибудь куплет без привязки к автору. Такова судьба И.Мятлева. Или Ишки Мятлева, как звали его современники. Самые знаменитые его строки звучат у Тургенева, в стихотворении в прозе из цикла «Senilia»: «Как хороши, как свежи были розы…». Тургенев то ли действительно забыл, то ли сделал вид, что забыл, что так начинается элегия Мятлева «Розы» (1834). Промчав сквозь годы, эти свежие розы появились у И.Северянина, уже в горько-трагическом контексте:
…Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
Они же выбиты эпитафией на могиле Северянина в Таллинне. Друг Сверчка, Асмодея и Светланы, богатый барин и веселый версификатор, человек светский, аристократ, любимец литературных салонов и лиц, облеченных властью, он прожил жизнь не слишком долгую, но насыщенную событиями, в том числе и историческими. И вполне благополучную жизнь. Корнет Белорусского гусарского полка, он участвовал в войне с Наполеоном. Демобилизовался по болезни. На гражданской службе дослужился до действительного статского советника и камергера и вышел в 1836 г. в отставку. Располагая средствами, отправился путешествовать по Европе. Вернулся в Петербург, написал по следам своих путешествий про госпожу Курдюкову, издал последний том поэмы и умер. Как говорилось в одном некрологе, «он ставил честолюбие гораздо ниже каламбура, почитав первую потехою - жить честно, благородно и первым делом смеяться безвредно над всем, начиная с самого себя, - кончил веселую книгу и с последнею шуткой бросил перо и жизнь вместе, как вещи отныне впредь ненужные…»
Бесконечное, возбужденно-нервное его остроумие - есть такой тип всегда острящих, каламбурящих и рифмующих людей!- выглядело бы болезненным, не будь он столь добродушен и (внешне, по крайней мере) простодушен. Хотя порой мятлевские штучки могли показаться чрезмерно экстравагантными. Так, на балу, где присутствовал сам Николай I, веселый поэт порезал меленько-меленько букет своей соседки, маркизы де Траверсе, заправил цветами салат и отправил блюдо адъютанту наследника, в которого маркиза была влюблена. Или еще: в одном доме сын хозяина полюбил играть с щегольской шляпой Мятлева. Это поэту надоело, и, не желая, чтобы его замечательную шляпу спутали с чьей-нибудь другой, он написал внутри нее стишок: «Я Мятлева Ивана, а не твоя, болвана. Свою ты прежде поищи! Твои, я чай, пожиже щи». Грубовато, надо сказать… Душа литературных салонов, великолепный чтец и импровизатор, Мятлев, особенно после бокала – другого, нанизывал рифмы виртуозно. «…он просто говорил стихи, и всегда говорил наизусть, беззаботно рассказывал в стихах, беседовал стихами; … Он говорил этими стихами по целым часам», - свидетельствует современник. Провинциалы, прибывшие в Петербург, непременно хотели попасть «на Мятлева». Особенно он часто выступал там, где все друг друга знают и друг над другом мило так подшучивают - оттого почти все его стихи домашние. Однако социальный статус участников этих собраний весьма высок - это был междусобойчик людей знатных. Что придавало в исторической перспективе - альбомным, домашним сочинениям особый шарм и размах.
Русская критика, в отличие от посетителей салонов, Мятлева не особенно жаловала. Белинского, только начавшего входить в силу, этот штукарь просто раздражал: строгий критик чуял в стихах Мятлева безответственное веселье аристократа. Снисходительной похвалы Белинского удостоился лишь «Разговор барина с Афонькой», тоже, стоит отметить, довольно легкомысленный. Какое-то время (незадолго до смерти) Мятлев издавал «Листок для светских людей». Там была, например, такая картинка. Молодой офицер спрашивает у дамы: «В каком ухе звенит?» -«В левом»,- отвечает дама. «Откуда вы знаете?» - изумляется офицер… Люди серьезные возмущались подобной пошлостью. Дам, вдохновляющих его на стихи, Мятлев ласково называл своей «парнасской конюшней». Среди «лошадок» были С/Карамзина, Н/Пушкина и роковая женщина российского Парнаса - А/Смирнова-Россет. С последней Мятлева связывали особо теплые, но исключительно дружеские отношения.

Женщина она была своеобразная. Князь Вяземский, цинический острослов с язвительно-едким умом, восхищался: «Обыкновенно женщины худо понимают плоскости и пошлости; она понимала их и радовалась им, разумеется, когда они были не плоско-плоски и не пошло-пошлы». Моралист Иван Аксаков, напротив, сетовал: «…я до сих пор не видел в ней теплоты эстетического ощущения, никакого сердечного движения… Среди «Шинели», в самых чудесных местах она вдруг по поводу какого-нибудь квартального вспомнит какие-нибудь глупые стихи Мятлева и скажет или пропоет: «Напился, как каналья, пьян»… - и т.п., всегда с особенным удовольствием».
Смирнова-Россет представляла собой женский вариант того характернейшего типа эпохи, который в чистом виде воплощал сам Мятлев, как, впрочем, и его знаменитые сверстники - князь Вяземский, Пушкин, Грибоедов/ Тип этот вскоре исчезнет, и уже младший Вяземский напишет, не без дидактизма и морализма: «Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула» видели во всей этой эстетической и поведенческой лихости «последние проявления заживо схороняемой самобытной жизни».
Пушкин посвятил Мятлеву известное стихотворение: «Сват Иван, как пить мы станем…» (1833). Но особенно был близок с Мятлевым, возился с ним и с его стихами князь Вяземский, удовлетворяя таким образом свою страсть (усиленную ирландской кровью) к дурацким шуткам. Троице этой – Пушкину, Вяземскому и Мятлеву – принадлежит знаменитое коллективное «Надо помянуть, непременно надо» (1833) - сочиненье насколько абсурдно-безумное в своей дурной бесконечности, настолько и смешное. Со слегка меняющимся рефреном: «Надо помянуть, помянуть непременно надо…». Вяземский, посылая этот дикий стишок Жуковскому, писал, что Мятлев «в этом случае был notre chef d’ecole» (переводим: «нашим наставником»). А.Смирнова-Россет, в свою очередь, вспоминает, как Гоголь «научил Пушкина и Мятлева вычитывать в «Инвалиде», когда они писали памятки. У них уже была довольно длинная рацея:
Михаил Михайловича Сперанского
И почт-директора Еромоланского,
Апраксина Степана,
Большого болвана,
и князя Вяземского Петра,
Почти пьяного с утра.
Любимый жанр Мятлева - стихи на случай. Он мог запросто посвятить генералу Ермолову абсолютно пустую фантазию «на день наступающего тысяча восьмисот четвертого года», выдержанную в игривом и бессмысленном духе:
Коль пройдет мадам Эстер
Ле канкан де ля Шольер -
Весь театр набит народом…
Поздравляю с Новым годом!
(«Новый 1944. Фантазия»)
Несоответствие поэтического пустяка статусу адресата - его высокопревосходительству - Мятлева ничуть не смущало. Впрочем, все это вполне соответствовало нормам и духу времени. Так же сильно, как дамы, цари и князь Вяземский, полюбил Мятлева Лермонтов: «Вот дама Курдюкова, / Ее рассказ так мил, / Я от слова до слов / Его бы затвердил…» На что Мятлев отвечал, может быть, не слишком изящным, но, несомненно, искренним стихом «Мадам Курдюкова Лермонтову»:
«Мосье Лермонтов, вы пеночка,
Птичка певчая, времан!
Ту во вер сон си шарман…»
(перевод: «Поистине! Все ваши стихи так прекрасны…»)
Кажется, поэтическое честолюбие Мятлева (если оно вообще у него было) вполне удовлетворялось вот такими милыми пустяками и любовью окружающих. Первые два сборника его стихов вышли без имени автора, сопровождаемые симпатично-простодушным уведомлением: «Уговорили выпустить» (1834 и 1835), что соответствовало действительности. Однако его ждало и чуть ли не всенародное ха-ха-ха и хи-хи-хи после выхода в свет «Сенсаций и замечаний госпожи Курдюковой за границею, дан л’этранже» с карикатурами Василия Тимма . Местом издания в шутку значился Тамбов, где жила госпожа Курдюкова.

Здесь Мятлев дал полную волю своей страсти к макароническому стиху, приводившему в бешенство пуристов от языка. «Сенсациям и замечаниям…» предшествовал ёрнический эпиграф: «Де бон тамбур де баск / Дерьер ле монтанье» с пояснением: «Русская народная пословица» (перевод: «Славны бубны за горами»). Но ведь и жил поэт в эпоху лингвистической диффузии, во времена «двуязычья культуры» (Юрий Лотман). При всем своем легкомыслии Мятлев был глубоко верующим человеком. «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой…» критика восприняла без юмора. Как эмблему русской провинции, над которой смеются столицы. Но решили, что «лицо Курдюковой - лицо замечательное: оно принадлежит к клоунам или шутам Шекспира, к Иванушкам, Емелюшкам-дурачкам наших народных сказок». Да, конечно, шутки, пустяки, причуды барина, искусство для искусства… Меж тем бывал он истинно поэтичен в обычной речи: «Завернулась в кусочек неба, да и смотрит, как ангел…» - в стихах это вышло несколько хуже (см.: «Что я видел вчера», 1840). Меж тем он - автор прелестных «Фонариков» (1841):
Фонарики-сударики,
Скажите-ка вы мне,
Что видели, что слышали
В ночной вы тишине…
Фонарики-сударики
Горят себе, горят,
А видели ль, не видели ль -
Того не говорят…
«Под именем фонариков сочинитель разумел чиновников, состоящих в государственной службе», - значилось на одной из копий стихотворения. Ну да, чиновники да сановники, которым дела нет до «горестей людских». Так или иначе, но «Фонарики» попадали в сборники подпольной поэзии. И даже, кажется, понравились Герцену.
... И Козьма Прутков, и Д.А. Пригов, и Тимур Кибиров, и другие сочинители ловили (и поймали) лучи, летящие от стихов этого беспечного шута русской литературы. И его немыслимые ха-ха-ха и хи-хи-хи… «Не нравится - не читайте», - так переводится эпиграф.
Виктория Шохина
http://www.peremeny.ru/blog/7013

Звезда, прости! Пора мне спать,
Но жаль расстаться мне с тобою,
С тобою я привык мечтать,
А я теперь живу мечтою.
И даст ли мне тревожный сон
Отраду ложного виденья?
Нет, чаще повторяет он
Дневные сердцу впечатленья.
А ты, волшебная звезда,
Неизменимая, сияешь,
Ты сердцу грустному всегда
О лучших днях напоминаешь.
И к небу там, где светишь ты,
Мои стремятся все желанья,
Мои там сбудутся мечты...
Звезда, прости же! До свиданья!

П.А.Г
Залетное, небесное виденье,
Дай весточку о родине твоей!
Надолго ль ты рассталось с ней,
Твое надолго ль посещенье?
От сердца горе отлегло,
Я вдруг помолодел душою,
Мне стало так легко, светло,
Когда я встретился с тобою.
Скажи, там, в синих небесах,
Знакома ль ты с моей звездою?
Она в сияющих звездах
Светлее всех - сходна с тобою!
Как ты среди земных утех,
Среди пиров земного мира
Светлей, видней, милее всех, -
Так и она среди эфира!
Как ты, чудесно хороша
Моя звезда, одно с тобою;
Вся заливается душа
При вас любовью и тоскою.
Как стану я на вас смотреть,
Мой взор не может отделиться,
И плакать хочется, и петь,
И богу хочется молиться.
Твой взгляд, как дивный с неба луч,
Вливает в душу упоенье,
Среди туманных жизни туч
Мне говорит, как откровенье.
Как шестикрылый серафим,
Как непорочный житель рая,
Ты улыбаешься моим
Стихам, бессмыслицам внимая.
Я позабыл про небеса,
Уж в них очей не устремляю,
Твоя мне светит здесь краса,
И бога я благословляю!
Но отчего ж пленился я
Так страстно, светлый небожитель,
Скажи, не ты ль звезда моя,
Не ты ли ангел мой хранитель?
7 февраля 1842, С.-Петербург

«Приди, приди!» - Куда зовешь
Ты, соловей, меня с собою?
О чем неведомом поешь,
О чем беседуешь с душою?
«Приди, приди!» - Ужели ты
В краю, куда мои просились
Всегда заветные мечты
И все желания стремились?
«Приди, приди!» - Но досказать
Не можешь ты всего, что знаешь,
Велишь ты сердцу уповать,
Зовешь с собой и умоляешь.
«Приди, приди!» - Но я без крыл,
Не улететь мне за тобою;
Тоску ты только заронил
Мне в сердце песней неземною.

Я ошибся, я поверил
Небу на земле у нас,
Не расчислил, не измерил
Расстояния мой глаз.
И восторгу я предался,
Чашу радости вкусил,
Опьянел и разболтался,
Тайну всю проговорил!
Я наказан, без роптанья
Должен казнь мою сносить,
Сиротой очарованья
Век мой грустный пережить.
Мне мгновенно засияла
Между туч одна звезда,
Сердцу небо показала
И сокрылась навсегда!
Но вот там, за облаками,
Я найду ее опять...
Там не расстаются с вами,
Там вы можете сиять.
РУССКИЙ СНЕГ В ПАРИЖЕ
Здорово, русский снег, здорово!
Спасибо, что ты здесь напал,
Как будто бы родное слово
Ты сердцу русскому сказал.
И ретивое запылало
Любовью к родине святой,
В груди отрадно заиграло
Очаровательной мечтой.
В родных степях я очутился,
Зимой отечества дохнул,
И от души перекрестился,
Домой я точно заглянул.
Но ты растаешь, и с зарею
Тебе не устоять никак.
Нет, не житье нам здесь с тобою:
Житье на родине, земляк!

Лес дремучий, лес угрюмый,
Пожелтелые листы,
Неразгаданные думы,
Обманувшие мечты!
Солнце жизни закатилось,
Всё прекрасное прошло,
Всё завяло, изменилось,
Помертвело, отцвело.
Всё состарилось со мною,
Кончен мой разгульный пир,
Охладевшею душою
Я смотрю на светлый мир.
Мир меня не разумеет,
Мир мне сделался чужой,
Не приманит, не согреет
Ни улыбкой, ни слезой.
То ли в старину бывало!
Как любил я светлый мир!
Опыт сдернул покрывало...
И разбился мой кумир.
Как в ненастье, завыванье
Ворона в душе моей...
Но есть тоже соловей
Сладкозвучный - упованье!

П.А. Плетневу
России ангел облачился
В кусочек неба и слетел
В концерт, где русских рой толпился
И где Итальи гений пел.
И я смотрел на то виденье,
На тот небесный, дивный лик,
И чудное гремело пенье,
И взором в небо я проник.
Осуществилась мысль поэта,
Душа святыней обдалась...
Но песнь чудесная допета,
И ангел вдруг исчез из глаз.
Так недосказанной умчалась
Святая тайна в небеса!
Но ангела в душе осталась
Залогом дивная краса.
В ней вижу рая обещанье,
Награду жизни скорбных дней,
И благодать, и упованье
Теперь живут в душе моей.

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
Как я берег, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, в них расцветала радость,
Казалось мне, любовь дышала в них.
Но в мире мне явилась дева рая,
Прелестная, как ангел красоты,
Венка из роз искала молодая,
И я сорвал заветные цветы.
И мне в венке цветы еще казались
На радостном челе красивее, свежей,
Как хорошо, как мило соплетались
С душистою волной каштановых кудрей!
И заодно они цвели с девицей!
Среди подруг, средь плясок и пиров,
В венке из роз она была царицей,
Вокруг ее вились и радость и любовь.
В ее очах - веселье, жизни пламень;
Ей счастье долгое сулил, казалось, рок.
И где ж она?.. В погосте белый камень,
На камне - роз моих завянувший венок.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 05 Июн 2018, 23:56 | Сообщение # 43 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | К 219- летию со дня рождения А.С. Пушкина

худ. Н.Ульянов. Пушкин в садах лицея
О ты, чья дружба мне дороже
Приветов ласковой молвы,
Милее девицы пригожей,
Святее царской головы!
Огнем стихов ознаменую
Те достохвальные края
И ту годину золотую,
Где и когда мы - ты да я,
Два сына Руси православной,
Два первенца полночных муз,-
Постановили своенравно
Наш поэтический союз.
Пророк изящного! забуду ль,
Как волновалася во мне,
На самой сердца глубине,
Восторгов пламенная удаль,
Когда могущественный ром
С плодами сладостной Мессины,
С немного сахара, с вином,
Переработанный огнем,
Лился в стаканы-исполины?
Как мы, бывало, пьем да пьем,
Творим обеты нашей Гебе,
Зовем свободу в нашу Русь,
И я на вече, я на небе!
И славой прадедов горжусь!
Мне утешительно доселе,
Мне весело воспоминать
Сию поэзию во хмеле,
Ума и сердца благодать.
Теперь, когда Парнаса воды
Хвостовы черпают на оды
И простодушная Москва,
Полна святого упованья,
Приготовляет торжества
На светлый день царевенчанья,-
С челом возвышенным стою
Перед скрижалью вдохновений*
И вольность наших наслаждений
И берег Сороти пою!
Н.Языков
______________________________
* Аспидная доска, на которой стихи пишу.
(Примеч. Н.М. Языкова.)

Его стихи читая - точно я
Переживаю некий миг чудесный:
Как будто надо мной гармонии небесной
Вдруг понеслась нежданная струя…
Нездешними мне кажутся их звуки:
Как бы, влиясь в его бессмертный стих,
Земное всё - восторги, страсти, муки -
В небесное преобразилось в них!
А.Майков

худ. Б.Диодоров
О Пушкин, Пушкин! Кто тебя
Учил пленять в стихах чудесных?
Какой из жителей небесных,
Тебя младенцем полюбя,
Лелея, баял в колыбели?
Лишь ты завидел белый свет,
К тебе эроты прилетели
И с лаской грации подсели...
И музы, слышал я, совет
Нарочно всей семьей держали
И, кончив долгий спор, сказали:
"Расти, резвись – и будь поэт!"
И вырос ты, резвился вволю,
И взрос с тобою дар богов:
И вот, блажа беспечну долю,
Поёшь ты радость и любовь,
Поёшь утехи, наслажденья,
И топот коней, гром сраженья,
И чары ведьм и колдунов,
И русских витязей забавы...
Склонясь под дубы величавы,
Лишь ты запел, младой певец,
И добрый дух седой дубравы,
Старинных дел, старинной славы
Певцу младому вьет венец!
И всё былое обновилось:
Воскресла в песне старина,
И песнь волшебного полна!
И боязливая луна
За облак дымный хоронилась
И молча в песнь твою влюбилась...
Всё было слух и тишина:
В пустыне эхо замолчало,
Вниманье волны оковало,
И мнилось, слышат берега!
И в них русалка молодая
Забыла витязя Рогдая,
Родные воды – и в луга
Бежит ласкать певца младого...
Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!..
Ф.Глинка

худ. Д.Белюкин
Читано автором в Москве, в день открытия памятника Пушкину, в I заседании Общества Любителей Российской Словесности, 6 июня 1880 года.
Пушкин - это возрожденье
Русской Музы, - воплощенье
Наших трезвых дум и чувств,
Это - незапечатленный
Ключ поэзии, священный
В светлой области искусств.
Это - эллинов стремленье
К красоте и лицезренье
Их божеств без покрывал,
Это - голос Немезиды,
Это девы Эвмениды
Окровавленный кинжал…
Это - вещего баяна
Струнный говор… свист Руслана…
И русалок голоса…
Это - арфа Серафима,
В час, когда душа палима
Жаждой веры в небеса.
Это старой няни сказка,
Это молодости ласка, -
Огонёк в степной глуши…
Это - слёзы умиленья…
Это - смутное влеченье
Вечно жаждущей души…
II
Свой в столицах, на пирушке,
В сакле, в таборе, в лачужке,
Пушкин чуткою душой
Слышит друга голос дальний, -
Песню Грузии печальной…
Бред цыганки кочевой…
Слышит крик орла призывный,
Слышит ропот заунывный
Океана в бурной мгле, -
Видит небо без лазури
И, - что краше волн и бури, -
Видит деву на скале…
Знает горе нам родное…
И разгулье удалое, -
И сердечную тоску…
Но не падает усталый -
И, как путник запоздалый,
Сам стучится к мужику.
Ничего не презирая,
В дымных избах изучая
Дух и склад родной страны,
Чуя русской жизни трепет,
Пушкин - правды первый лепет,
Первый проблеск старины…
III
Пушкин — это эхо славы
От Кавказа до Варшавы,
От Невы до всех морей, -
Это - сеятель пустынный,
Друг свободы, неповинный
В лжи и злобе наших дней.
Это - гений, всё любивший,
Всё в самом себе вместивший -
Север, Запад и Восток…
Это - тот «ничтожный мира»,
Что, когда бряцала лира,
Жёг сердца вам, как пророк.
Это - враг гордыни праздной,
В жертву сплетни неотвязной
Светом преданный, - враждой,
Словно тернием, повитый,
Оскорбленный и убитый
Святотатственной рукой…
Поэтический Мессия
На Руси, он, как Россия, -
Всеобъемлющ и велик…
Ныне мы поэта славим -
И на пьедестале ставим
Прославляющий нас лик…
Яков Полонский

худ. Е.Е. Моисеенко
Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.
А.Ахматова

худ. Н.Н. Репин
Есть имена, как солнце! Имена –
Как музыка! Как яблоня в расцвете!
Я говорю о Пушкине: поэте,
Действительном, в любые времена!
Но понимает ли моя страна –
Все эти старцы, юноши и дети, -
Как затруднительно сказать в сонете
О том, кем вся душа моя полна?
Его хвалить! – пугаюсь повторений…
Могу ли запах передать сирени?
Могу ль рукою облачко поймать?
Убив его, кому все наши вздохи?
Дантес убил мысль русскую эпохи,
И это следовало бы понять…
И.Северянин

худ. Б.А. Тальберг
Поклон тебе, поэт!
А было время, гнали
Тебя за речи смелые твои,
За песни, полные тревоги и печали,
За проповедь свободы и любви.
Прошли года.
Спокойным, ясным взором
История, взглянув в былые времена,
Ниц пала пред тобой,
покрыв навек позором
Гонителей суровых имена…
А ты пред нами здесь
один царишь над троном,
Тебе весь этот блеск восторженных очей,
Один ты окружен бессмертным ореолом
Неугасающих лучей!
В.Гиляровский

От бомбы дрогнули в окне
Стропила мирной комнатушки,
А человек стоял в окне,
А человек взывал: "Ко мне!
Тут книги у меня. Тут Пушкин!"
Ему кричали: "Выходи!"
Но книг оставить не хотел он,
И крепко прижимал к груди
Он томик полуобгорелый.
Когда ж произошел обвал
И рухнул человек при этом,
То и тогда он прижимал
К груди создание поэта.
В больнице долго он, без сил,
Лежал, как мертвый, на подушке.
И первое, что он спросил,
Придя в сознание: "А Пушкин?"
И голос друга, поспешив,
Ему ответил: "Пушкин жив".
Вера Инбер. 1943

худ. Е.А. Устинов
Здравствуй, Пушкин!
Просто страшно это -
словно дверь в другую жизнь открыть -
мне с тобой, поэтом всех поэтов,
бедными стихами говорить.
Быстрый, шаг и взгляд прямой и быстрый -
жжет мне сердце Пушкин той поры:
визг полозьев, песни декабристов,
ямбы ссыльных, сказки детворы.
В январе тридцать седьмого года
прямо с окровавленной земли
подняли тебя мы всем народом,
бережно, как сына, понесли.
Мы несли тебя - любовь и горе -
долго и бесшумно, как во сне,
не к жене и не к дворцовой своре -
к новой жизни, к будущей стране.
Прямо в очи тихо заглянули,
окружили нежностью своей,
сами, сами вытащили пулю
и стояли сами у дверей.
Мы твоих убийц не позабыли:
в зимний день, под заревом небес,
мы царю России возвратили
пулю, что послал в тебя Дантес.
Вся Отчизна в праздничном цветенье.
Словно песня, льется вешний свет,
Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый гений!
С днем рожденья, дорогой поэт!
Ярослав Смеляков
Посвящается С.С. Гейченко

худ. В.Блинов
От надоевших разговоров,
И бесконечной суеты
Уеду в Пушкинские Горы,
В страну щемящей красоты.
В страну, где осень золотая,
Просторы шире и светлей,
Где вьется Сороть голубая,
Средь живописнейших полей.
Там помнят рощи и опушки,
Дорожки вековых алей,
Как Александр Сергеич Пушкин
Встречался с Музою своей.
Там все о нем напоминает:
Скамьи, беседки и пруды,
И незаметно оживают
Его знакомые черты.
И кажется, он где-то рядом
Гуляет сторонясь от нас,
И вдруг – увижу за оградой
Прищур его веселых глаз.
И я от счастья одурею,
Паду в осеннюю траву,
Воскликну: «Александр Сергеич!»,
И он откликнется: «Ау-у-у!»
Отыщем глиняную кружку,
Нальем шипучего вина,
Помянем нянюшку-подружку
И приумолкнем у окна.
В.Федоров-Вишняков
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 26 Июн 2018, 06:30 | Сообщение # 44 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | НАУМ МОИСЕЕВИЧ КОРЖАВИН
(14.10. 1925 - 22.06. 2018)

Настоящая фамилия – Мандель. Поэт, драматург, переводчик и прозаик. Его мать работала врачом. В 2006 г. был удостоен специального приза от проекта «Большая книга». В 2016 г. получил национальную премию «Поэт».
Родился в Киеве. Увлёкся поэзией рано. Учился в школе Киева. Перед войной был исключён: в качестве причины назывался конфликт с директором. Н.Асеев заметил молодого поэта ещё в Киеве. Именно он рассказал о юноше в литературной среде Москвы. Когда началась война, поэт из Киева эвакуировался. Из-за сильной близорукости не попал в армию. В 1944 г. отправился в Москву. В 1945 г. поступил в Литинститут им. А.М. Горького. Среди соседей в общежитии у него были В.Тендряков и Р.Гамзатов. В 1947 г. в разгар сталинской кампании, целью которой была «борьба с космополитизмом», молодой поэт был арестован. Около 8 месяцев провел в изоляторе КГБ СССР и в Институте Сербского. Был признан «социально опасным элементом», осуждён согласно постановлению Особого Совещания при МГБ и приговорен к ссылке. Осенью 1948 г. Коржавина выслали в Сибирь. Около 3 лет он провёл в селе Чумаково. С 1951 по 1954 год отбывал ссылку на территории Караганды. В это время он закончил обучение в горном техникуме.
В 1953 г. получил диплом штейгера. После амнистии отправился в Москву. В 1956 г. был реабилитирован. Восстановился в институте и окончив его в 1959 г. на жизнь зарабатывал переводами. Во времена «оттепели» начал печатать стихи в различных журналах. Широкую известность принесла ему публикация подборки произведений на страницах поэтического сборника «Тарусские страницы»

В 1963 г. вышла его книга «Годы», куда вошли стихи, написанные за период с 1941 по 1961 год. В 1967 г. Театр им. Станиславского ставит его пьесу «Однажды в двадцатом». Кроме официальных публикаций, творчество поэта имело и подпольную составляющую. Многие стихи распространялись в списках самиздата. В 1960 годах поэт выступил в защиту «узников совести» Галанскова и Гинзбурга, Даниэля и Синявского. Эти обстоятельства стали причиной запрета на печать его произведений. Н.Коржавин вступил в конфликт с властями государства, который непрерывно обострялся. В 1973 г. после допроса в прокуратуре он подал заявление, где просил разрешения покинуть страну. Свой шаг он объяснил «нехваткой воздуха, необходимого для жизни». Поэт отправился в США. Поселился в Бостоне. Был включён Максимовым в число участников редакционной коллегии «Континента». Продолжал поэтическую работу. В 1976 г. во Франкфурте-на-Майне вышел его сборник стихов «Времена».
В 1981 г. издана книга «Сплетения». В постперестроечное время у Коржавина появилась возможность ездить в Россию, ему было разрешено проведение поэтических вечеров. Он приехал в Москву первый раз, получил личное приглашение Окуджавы. Было это в 80-е годы. Первое место, где прошло его выступление, - Дом Кино. Зал был полностью заполнен. На боковые балкончики поставили дополнительные стулья, которые были взяты из кабинетов работников. Когда Окуджава и Коржавин появились на сцене, весь зал поднялся и аплодировал стоя. Поэт уже плохо видел и Окуджава, наклонясь к нему, сообщил, что зал приветствует их стоя. Коржавин очень смутился. Потом он читал стихи и отвечал на различные вопросы, все это он делая по памяти. Из зала на сцену начали выходить актёры, которые пришли на встречу как зрители. Без подготовки они читали по книге любое из стихотворений, на котором в случайном порядке открывали сборник. Как поэт, Н.Коржавин оценивается по-разному. Вольфганг Казак называет его лирику плотной, скупой на образность. При этом его произведения обретают нравственную и политическую силу благодаря абстрактности. Казак подчеркивает, что творчество поэта возникло из увиденной им тьмы и подлости, а также веры в свет и благородство.
Первой женой поэта была Валентина Мандель. Также у него есть дочь Елена. Второй женой нашего героя стала Любовь Семёновна, ушедшая из жизни в 2014 г. Они состояли в браке с 1965 г. Любовь Семёновна была филологом. В 1961 г. вышла книга «16 стихотворений». В 1962 г. Коржавин издал поэму «Рождение века». В 1976 г. появилась книга «Времена», в 1981 г. «Сплетения». В 1991 была опубликована книга «Письмо в Москву», в которую вошли поэмы и стихи. В 1992 г. был издан сборник «Время дано». В 2008 г. была написана книга «На скосе века». Авторству нашего героя принадлежат эссе «В защиту банальных истин», «Лирика Маршака», «Поэзия А. К. Толстого», «Судьба Ярослава Смелякова», «Опыт поэтической биографии».
Наум Коржавин представлен в нескольких картинах. В 2003 г. вышел фильм «Портреты эпохи». В 2005 г. была снята картина «Они выбирали свободу». В 2011 г. появилась лента «Эмка Мандель с Колборн Роуд, 28». В 2015 г. на экраны вышла картина «Наум Коржавин. Время дано…». Как актер Наум Моисеевич появляется в роли шпрехшталмейстера константинопольского цирка в знаменитом фильме Алова и Наумова 1970 года "Бег" (номинация на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского МКФ) - по Булгакову.
Скончавшегося в США на 93-м году жизни после продолжительной болезни поэта, согласно его последней воле, похоронят в России.
http://www.elentur.com.ua/naum-korzhavin-biografiya/
«Умер в тишине, мире и спокойствии»

22 июня в США на 93-м году жизни скончался выдающийся поэт Н.Коржавин. Он прошел ГУЛАГ, вынужден был эмигрировать в США, прожил тяжелейшую и счастливую жизнь. В 2016 г. вышел прекрасный и тонкий документальный фильм «Наум Коржавин. Время дано», а в 2010-ом - «Эмка Мандель с Колборн Роуд». Снял их кинорежиссер П.Мирзоев, с которым уникального поэта нашего времени связывала не только съемочная площадка. Он ему был как дедушка. На фотографии - Наум Моисеевич за несколько дней до сложнейшей операции, фактически между жизнью и смертью. Мы поговорили с П.Мирзоевым после того, как пришла трагическая весть.
- После выхода фильма вы поддерживали отношения?
- В последние годы Наум Коржавин был уже не очень коммуникабелен. Он фактически не мог общаться. У него ушла речь. Знаю, что он видел наш последний фильм, хотя скорее - слышал его. Он был слепой. Поскольку он в последние годы уже не владел речью, возможности общения был лишен. Для меня его уход - грандиозная утрата. Но мне кажется, что это потеря и для всей нашей культуры, и для страны. Он был классическим поэтом, крупнейшей личностью, оказавшей влияние на сотни людей, которые его знали и любили. Все, кто оказывались с ним рядом, грелись от него, как от солнца. И нет такого человека, с которым бы он общался, и не оказал на него огромного влияния своей харизмой, умом, юмором и нравственной чистотой. Он же для меня - не просто герой фильмов. Он мне был как дед. Я его считаю одним из близких для себя людей. Конечно, ему было уже много лет, но тем не менее, когда дорогой тебе человек уходит, это очень тяжело.
- Какое счастье, что вы успели снять Н.Коржавина и оставили нам эти поразительные кадры. Когда вы приступили к съемкам?
- Материала, который мы отсняли, хватило на две картины. А снимали мы в 2010 г. Это был последний год, когда Коржавина можно было снимать, когда это было прилично. Судьба, какие-то обстоятельства жизни меня на это дело вывели. Мы сделали фильм без поддержки Минкультуры, в котором денег на картину не давали. И кроме меня некому было ее сделать. Это грандиозная честь, что именно на меня выпал такой жребий.
- Что значит выпал жребий? Коржавин к себе никого не подпускал?
- Выпал жребий в том смысле, что Наум Моисеевич по сути был моим дедом. Большая часть моего подросткового возраста и юношества прошла рядом с ним. Он же жил у нас дома. Не знаю, подпускал он к себе кого-то или нет, но предпринимались попытки его снимать. Но не было человека, который одновременно был бы ему близок, фактически родственник, и при этом занимался бы кино. Так что все совпало. Понятное дело, что было и мое желание. Коржавин - большой поэт, но несправедливо забытый. Я это осознавал, и мне хотелось как-то изменить ситуацию. Не знаю, в какой степени удалось. То, что было в моих силах, я сделал.
- Как случилось, что Н.Коржавин жил в вашем доме?
- Это сложная семейная история. Еще до эмиграции моя матушка стала фактически его приемной дочерью. Никакого кровного родства здесь нет, но так получилось, что она воспитывалась фактически им. Близко дружили семьи. Когда началась перестройка, и Коржавин стал приезжать в Россию, мы были самыми близкими для него людьми в Москве, и он жил у нас дома. Мне тогда было 19 лет. А приезжал он к нам надолго, останавливался по полгода каждый год. Пока был в состоянии, половину своего времени проводил в Москве. Будучи подростком и еще не вполне сформировавшимся человеком, я напитывался от него — взглядами на жизнь, эстетическими установками, харизмой, и это произвело на меня формирующее воздействие.
- Кто-то был рядом с ним в последнее время?
Да, конечно. Он был с дочерью и умер в ее в доме. Дочь его сильно любила. Коржавин долгие годы жил с женой в Бостоне, но она умерла в 2012 г. После этого он переехал к дочери в Чапел-Хилл и находился под ее присмотром все последние годы. Он умер в тишине, мире и спокойствии, рядом со священником и дочерью.
Похоронят Наума Коржавина в Москве. Панихида пройдет 24 июня, в воскресенье, в Церкви Покрова Богородицы в Красном селе, где он бывал.
Светлана Хохрякова
22.06. 2018. МК
http://www.mk.ru/culture....in.html

Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
И какие бы взгляды вы
Ни старались выплескивать,
Генерал Милорадович
Не узнает Каховского.
Пусть по мелочи биты вы
Чаще самого частого,
Но не будут выпытывать
Имена соучастников.
Мы не будем увенчаны...
И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.
1944

Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день - едва ли
Им было до календаря.
Все переоценилось строго,
Закон звериный был как нож.
Искали хлеба на дорогу,
А книги ставили ни в грош.
Хотелось жить, хотелось плакать,
Хотелось выиграть войну.
И забывали Пастернака,
Как забывают тишину.
Стараясь выбраться из тины,
Шли в полированной красе
Осатаневшие машины
По всем незападным шоссе.
Казалось, что лавина злая
Сметет Москву и мир затем.
И заграница, замирая,
Молилась на Московский Кремль.
Там, но открытый всем, однако,
Встал воплотивший трезвый век
Суровый жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.
1945

От дурачеств, от ума ли
Жили мы с тобой, смеясь,
И любовью не назвали
Кратковременную связь,
Приписав блаженство это
В трудный год после войны
Морю солнечного света
И влиянию весны...
Что ж! Любовь смутна, как осень,
Высока, как небеса...
Ну, а мне б хотелось очень
Жить так просто и писать.
Но не с тем, чтоб сдвинуть горы,
Не вгрызаясь глубоко, -
А как Пушкин про Ижоры -
Безмятежно и легко.
1947

Стопка книг... Свет от лампы... Чисто.
Вот сегодняшний мой уют.
Я могу от осеннего свиста
Ненадолго укрыться тут.
Только свист напирает в окна.
Я сижу. Я чего-то жду...
Все равно я не раз промокну
И застыну на холоду.
В этом свисте не ветер странствий
И не поиски теплых стран,
В нем холодная жуть пространства,
Где со всех сторон - океан.
И впервые боюсь я свиста,
И впервые я сжался тут.
Стопка книг... Свет от лампы... Чисто...
Притаившийся мой уют.
1950

Что же! Здравствуй, Москва.
Отошли и мечты и гаданья.
Вот кругом ты шумишь,
вот сверкаешь, светла и нова
Блеском станций метро,
высотой воздвигаемых зданий
Блеск и высь подменить
ты пытаешься тщетно, Москва.
Ты теперь деловита,
всего ты измерила цену.
Плюнут в душу твою
и прольют безнаказанно кровь,
Сложной вязью теорий
свою прикрывая измену,
Ты продашь все спокойно:
и совесть, и жизнь, и любовь.
Чтоб никто не тревожил
приятный покой прозябанья -
Прозябанье Москвы,
освященный снабженьем обман.
Так живешь ты, Москва!
Лжешь, клянешься,
насилуешь память
И, флиртуя с историей,
с будущим крутишь роман.
1952

Все, с чем Россия
в старый мир врывалась,
Так что казалось, что ему пропасть, -
Все было смято... И одно осталось:
Его неограниченная власть.
Ведь он считал,
что к правде путь тяжелый,
А власть его сквозь ложь
к ней приведет.
И вот он - мертв.
До правды не дошел он,
А ложь кругом трясиной нас сосет.
Его хоронят громко и поспешно
Ораторы на гроб кося глаза,
Как будто может он
из тьмы кромешной
Вернуться, все забрать
и наказать.
Холодный траур,
стиль речей высокий.
Он всех давил
и не имел друзей...
Я сам не знаю,
злым иль добрым роком
Так много лет
он был для наших дней.
И лишь народ
к нему не посторонний,
Что вместе с ним
все время трудно жил,
Народ в нем революцию
хоронит, хоть, может,
он того не заслужил.
В его поступках
лжи так много было,
А свет знамен
их так скрывал в дыму,
Что сопоставить это все
не в силах -
Мы просто слепо верили ему.
Моя страна!
Неужто бестолково
Ушла, пропала вся твоя борьба?
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче вся твоя судьба?
А может, ты поймешь
сквозь муки ада,
Сквозь все свои кровавые пути,
Что слепо верить
никому не надо
И к правде ложь
не может привести.
Март 1953

Девушка расчесывала косы,
Стоя у брезентовой палатки...
Волосы, рассыпанные плавно,
Смуглость плеч туманом покрывали,
А ступни ее земли касались,
И лежала пыль на нежных пальцах.
Лес молчал... И зыбкий отсвет листьев
Зеленел на красном сарафане.
Плечи жгли. И волосы томили,
А ее дыханье было ровным...
Так с тех пор я представляю счастье:
Девушка, деревья и палатка.
1954

В наши трудные времена
Человеку нужна жена,
Нерушимый уютный дом,
Чтоб от грязи укрыться в нем.
Прочный труд и зеленый сад,
И детей доверчивый взгляд,
Вера робкая в их пути
И душа, чтоб в нее уйти.
В наши подлые времена
Человеку совесть нужна,
Мысли те, что в делах ни к чему,
Друг, чтоб их доверять ему.
Чтоб в неделю хоть час один
Быть свободным и молодым.
Солнце, воздух, вода, еда -
Все, что нужно всем и всегда.
И тогда уже может он
Дожидаться иных времен.
1956

Уже июнь. Темней вокруг кусты.
И воздух - сух. И стала осень ближе.
Прости меня, Господь... Но красоты
Твоей земли уже почти не вижу.
Всё думаю, куда ведут пути,
Кляну свой век и вдаль смотрю несмело,
Как будто я рождён был мир спасти,
И до всего другого нет мне дела.
Как будто не Тобой мне жизнь дана,
Не Ты все эти краски шлешь навстречу...
Я не заметил, как прошла весна,
Я так зимы и лета не замечу.
Причастности ль, проклятья ль тут печать
Не знаю... Но способность к вдохновенью
Как раз и есть уменье замечать
Исполненные сущности мгновенья.
Чтоб - даже пусть вокруг тоска и зло, -
Мгновенье то в живой строке дрожало
И возвращало суть, и к ней влекло,
И забывать себя душе мешало.
Жизнь все же длится - пусть в ней смысл исчез.
Все ж надо помнить, что подарок это:
И ясный день, и дождь, и снег, и лес,
И все, чего вне этой жизни нету.
Ведь это - так...
Хоть впрямь терпеть нельзя,
Что нашу жизнь чужие люди тратят,
Хоть впрямь за горло схвачены друзья,
И самого не нынче завтра схватят.
Хоть гложет мысль, что ты на крест идешь,
Чтоб доказать... А ничего не будет:
Твой светлый крест зальет, как море, ложь,
И, в чем тут было дело, - мир забудет.
Но это - так... Живи, любя, дыша:
Нет откровенья в схватках с низкой ложью.
Но без души - не любят... А душа
Всевластьем лжи пренебрегать не может.
Все рвется к правде, как из духоты.
Все мнится ей, что крылья - в грязной жиже.
Мне стыдно жить, не видя красоты
Твоей земли, Господь... А вот - не вижу.
1972
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 27 Июн 2018, 23:56 | Сообщение # 45 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | ПАМЯТИ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА
26 июня 2018 г. "Виражи времени" остановились. Не стало поэта Андрея Дементьева...

Сегодня не стало русского поэта, нашего коллеги А.Дементьева. Литератору было 89 лет. Ранее сообщалось, что Дементьев был госпитализирован после ухудшения самочувствия. О его госпитализации стало известно 10 июня. Родился А.Дементьев 16 июля 1928 г. Среди наиболее известных его стихотворений "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком не простая штука" и многие другие. Песни на его стихи пели Л.Зыкина, В.Мулерман, С.Ротару и мн.др. На "Радио России" Андрей Дмитриевич много лет вёл программу "Виражи времени".
Замгенерального директора "Радио России" Г.Москвичёв:
Очень сложно говорить, подобрать слова, трудно… Тот редкий случай, когда, наверное, не надо бояться банальностей. Это действительно огромная потеря, утрата для культурной жизни страны и, конечно, для нас – для "Радио России", потому что с марта 2001 г. еженедельно по субботам наши радиослушатели слышали полюбившиеся им позывные программы "Виражи времени". За эти годы невероятно профессионально еженедельно, почти всегда в прямом эфире Андрей Дмитриевич заходил в эту студию, садился к микрофону и встречал здесь своих гостей, говорил с ними на самые обычные, самые человеческие, самые востребованные, самые необходимые темы, которые нужно было обсудить. И говорил на равном языке. Среди его гостей были за эти годы И.Кобзон, И.Глазунов, Л.Рошаль, М.Плисецкая, З.Церетели, М.Горбачёв, И.Крутой, В.Жириновский, С.Степашин. Андрей Дмитриевич действительно беседу строил всегда очень на равных. С большинством своих гостей он был в дружеских отношениях. Это была очень тёплая, душевная, проникновенная беседа и программа. Думаю, что уход программы "Виражи времени" из нашего эфира, потому что скончался Андрей Дмитриевич, это, к сожалению, большая потеря для нас.
Гости эфира: Тема «Памяти Андрея Дементьева»
– российский певец, исполнитель романсов, педагог, Народный артист России - ОЛЕГ ПОГУДИН
– народный артист России, известный пианист, композитор, актёр и телеведущий – Левон Оганезов.
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/60510/episode_id/1830589/
ГАВАНЬ ЕГО ЛЮБВИ
Не стало поэта Андрея Дементьева

Ушел из жизни А.Д. Дементьев. Ушел, не дожив до своего 90-летия 20 дней. А почему-то была уверенность, что и этот свой юбилей он отметит новой книгой и грандиозным концертом, на который, как это всегда было на его феерических выступлениях, придут тысячи поклонников его стихов и песен. Часто приходилось слышать от снобов разных мастей, что стихи его - не поэзия, что это, мол, для невзыскательной публики, но вот ведь в чем штука... Однажды не будет на свете этих снобов, и никто о них не никогда вспомнит, а поэтические строки Дементьева, воплощенные в песнях, переживут многие и многие поколения. И такие простые слова:
Ты прости меня, любимая,
За чужое зло,
Что мое крыло
Счастье не спасло.
Ты прости меня, любимая,
Что весенним днем
В небе голубом, как прежде,
Нам не быть вдвоем.
- будут звучать и звучать в сердцах и вызывать слезы, когда не останется памяти о многих даже очень хороших поэтах. А почему? Это вопрос, на который нет ответа, или ответ этот настолько прост, что ничего снобам не объяснит. Год назад, когда я записывался на его радиопередаче (вести свою передачу в таком возрасте - это ли не чудо!), он подарил мне свою последнюю книгу. По дороге в метро я стал ее читать и - ахнул! Все - все! - стихотворения этой довольно объемной книги были об одной женщине, его любимой жене, его верной подруге и незаменимой помощнице Анне! Если мужчина способен в почти девяностолетнем возрасте так любить свою женщину - это что-то о нем говорит! На сцену к своим поклонникам он взлетал, как птица и 4 часа держал аудиторию. На ужине в его родной Твери, где он каждый год устраивал поэтический конкурс молодых талантов со всей страны "Зеленый листок", он просто сказал о секрете своего долголетия: "Я никогда никому не завидовал". Почему-то я крепко это запомнил, эти такие простые, но удивительно мудрые слова. И почему-то подумал, что пушкинский Сальери наверняка недолго прожил после Моцарта. Завистники не живут долго.
Я не буду говорить о его стихах, в этом нет смысла. Нет смысла разбирать стихи, которые любят и поют люди. Люди плохие стихи петь не будут. Они, кстати, не поют даже очень хорошие стихи. А те, которые они поют, это стихи редкие и какие-то, на мой взгляд, совершенно особенные... Он был искренним рыцарем своего поэтического поколения - Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы, Высоцкого, Ахмадулиной, Казаковой, Соколова... В Твери он основал Дом поэзии, прежде всего для молодых стихотворцев, и возле него теперь стоит памятник этому поколению в виде сложенных книг. Когда я был там по его приглашению на финале конкурса "Зеленый листок", кто-то рядом со мной шепнул: "Это нескромно!" То есть нескромно открывать на своей родине Дом поэзии своего имени. Не знаю... Андрей Дмитриевич из жизни ушел, а Дом поэзии в Твери остался. В самом центре старинного русского города. Без инициативы Андрея Дмитриевича там сейчас был бы какой-нибудь скромный... банк. От него исходила невероятная энергия и жизнелюбие, которым можно было завидовать только белой завистью. Многие стареют и вянут душой и умом, не прожив и половины его жизни. Думаю, не только своими стихами, но и этой душевной личной энергией он покорял своих многочисленных поклонников. Глядя на него, хотелось жить, не унывать, а главное - не стареть. Как-то же ему это удавалось... Есть у него такое стихотворение:
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за всё вам - усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство…
Не жалейте, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте -
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте -
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.
При мне на радио ему кто-то позвонил по прямой линии и стал спорить с этой строкой: "Никогда, никогда ни о чем не жалейте..." Меня поразило с какой яростной энергией он вдруг стал отстаивать эту свою позицию, свое жизненное кредо! Мне-то эти стихи прежде казались все-таки риторическими, но - нет, он искренне в это верил и он так жил! И правда - что жалеть о прошлом? Живи и благодари Бога за то, что живешь, что можешь любить, можешь сделать что-то и еще исправить...
Светлая память!
Справка "РГ":
А.Д. Дементьев родился в Твери 16 июля 1928 г. Отец - Дмитрий Никитич, мать - Орлова Мария Григорьевна. Окончил среднюю школу № 6 в 1946 г. Начал литературную деятельность в 1948 - стихотворение "Студенту", "Пролетарская правда" (город Калинин). Учился на 1-м курсе историко-филологического факультета КГПИ (1948-1949), затем в Литературном институте им. Горького (1949-1952). Член ВКП(б) с 1950 г. Литературный сотрудник отдела сельского хозяйства "Калининской правды" (1953-1955), завотделом комсомольской жизни областной газеты "Смена" (1955-1958), член СП СССР (1959), инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ (1967). С 1967 г. жил в Москве. Был редактором отдела поэзии издательства "Молодая Гвардия", замглавного редактора (1972), а затем главным редактором журнала "Юность" (1981-1992). В 1997 году был назначен на должность директора ближневосточного представительства РТР в Израиле. В 2003-2006 годах был ведущим программы "Народ хочет знать" на канале ТВЦ. Вел авторскую программу "Виражи времени" на Радио России с июля 2001 г. Издано более 50 книг стихов поэта, не считая многочисленных сборников избранных и лучших стихов разных лет.
Павел Басинский
26.06.2018. РГ
АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА ПОХОРОНИЛИ НА КУНЦЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ В МОСКВЕ

Как рассказала его вдова Анна Пугач, у Дементьева там похоронен сын, трагически погибший 22 года назад. Кроме того, сам поэт неоднократно говорил о том, что предпочитает упокоиться рядом с Дмитрием.
Пресс-служба правительства Тверской области: «Улица в Твери будет носить имя А.Д. Дементьева. Память о нем, его творчестве - это память о целой эпохе. Мы также учредим премию им.Андрея Дементьева, которая будет вручаться лучшим молодым поэтам - участникам конкурса „Зеленый листок“. Он проводится в Доме поэзии ежегодно по инициативе Андрея Дмитриевича».
http://www.ntv.ru/novosti/2040960/
АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ О СЕБЕ И "ЮНОСТИ"
В студии Руслан Быстров, Андрей Дементьев, Анастасия Борисова
Без масок и условностей: поэт Андрей Дементьев рассказывает о себе и своей карьере в программе "Личный фактор на радио "Вести FM".
- Всем здравствуйте. Это программа "Личный фактор" – программа, в которую мы приглашаем известных людей, и пытаемся понять, что же за личность скрывается в том или ином человеке. У нас сегодня замечательный гость – поэт Андрей Дементьев. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Как и вы, я уроженец Твери и мне настолько приятно, что у меня есть такой прекрасный земляк, и я с детства это знаю и горжусь.
- Ой, как приятно…
- Вы сами часто бываете в Твери сейчас?
- Да, очень, постоянно. Там, знаете, открыли Дом поэзии три года назад. Конечно (а я худрук этого дома), я там все время бываю. Вот не так давно мы открыли памятник поэтам-шестидесятникам, который сотворил мой друг – великий наш художник, скульптор З.Церетели. И приехало много знаменитостей: Кобзон, Лещенко, И.Николаев и ОЛЕГ ПОГУДИН, и М.Аверин – ну много-много, и даже В.Терешкова, которая с нами как-то так дружит. Этот памятник Зураб подарил нашему городу, Дому поэзии. И прилетел даже из Америки Е.Евтушенко, выступал. Все это было, народу было много, это был такой праздник, знаете. Я потом, на другой день и на третий там я оставался еще и потом приезжал. Люди, значит, едут на машинах, останавливаются, фотографируются около этого памятника. Конечно, там не все уместились, можно сказать, корешки книг там в основном, не все уместились из тех, кто относится к поэзии 60-х годов. Скажем, В.Соколов – тоже тверской, яхославльский, Н.Рубцов, там Р.Казакова. Но мы думаем создать еще Сквер поэзии, чтобы были цитаты, стихи и так далее. Вот это все только начало. Ну, кроме того, это просто мой родной город, я там учился, школу кончил, там учился в пединституте, там похоронены мои родители, там у меня много друзей, там всё начиналось.
- А из родственников кто-то остался там сейчас?
- Ну практически никого, совсем нет. Годы ведь прошли. Я уехал потом после литинститута, я закончил его после педагогического и вернулся в Тверь. 15 лет проработал в Твери в редакциях газет, главным редактором издательства нашего калининского, тогда еще был город Калинин. И только спустя 15 лет вернулся в Москву, уже я там работал, и вскоре после того я получил приглашение Б.Полевого. Тоже наш земляк, он был главным редактором журнала "Юность" после Катаева, и он мне предложил быть своим первым замом. Я с радостью согласился, проработал с ним 9 лет, а потом 12 лет был главным редактором уже журнала, который мы довели, с нашим коллективом довели до тиража 3 млн. 300 тысяч. Такого тиража в мире литературного журнала не было.
- Но это уже была веха вообще.
- Вот, это была веха, конечно. Вы знаете, и вышли оттуда очень многие.
- Я вот как раз хотел вас спросить: а как вам удавалось там публиковать запрещенных авторов? Это же был вызов.
- Вы знаете, если рассказать, как удавалось, то получается, что ты хвалишь себя и своих товарищей. Но без этого не обойтись, потому что мы действительно вели огромную работу и большую, такую, знаете, яростную борьбу с цензурой. Тогда цензура была (вы-то молодые люди, вы не знаете), цензура была такая, что я, когда поставил там одну поэму нашего великого поэта одного (я уже называл), то остановили машины, журнал остановили, всё остановили. Меня вызвали на самый верх, где я должен был доказывать, что это не антисоветское произведение, а что это честное произведение человека, который пишет о себе, о своей жизни, о своих современниках...
Полная версия:http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/43179
14.01. 2017. Радиостанция «Вести ФМ»
«К ЛЕРМОНТОВУ У МЕНЯ ОСОБАЯ ЛЮБОВЬ»
И есть загадка: какая у него была улыбка?
Это интервью с одним из знаменитых поэтов-шестидесятников состоялось во время пребывания А.Дементьева в Пятигорском музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова. Андрей Дмитриевич почтительно ходил по комнатам легендарного домика под камышовой крышей, с трепетом прикоснулся к столу Лермонтова, осторожно, с разрешения музейщиков, сел в старинное кресло, принадлежавшее мятежному поручику, и долго сосредоточенно о чём-то думал. Все вокруг замерли, боясь шелохнуться, потому что это был момент общения двух великих поэтов…

– Андрей Дмитриевич, для поэтов и литераторов прошлого был век Серебряный и золотой. В каком веке живут поэты современности?
– Время наших современников, таких как Вознесенский, Бродский, Пастернак, Евтушенко, Ахмадулина, Окуджава, Рубцов, Казакова, Рейн, можно тоже назвать золотым веком. Со многими я был дружен, посвящал стихи.
Пять легендарных имён,
Пять гениальных поэтов,
Вышли они из времён
Пушкина, Тютчева, Фета.
И, породнившись с судьбой,
С их поэтической силой,
Стали самими собой,
Как и задумано было.
Рядом их книги стоят,
Белла с Андреем и Роберт,
Женя и грустный Булат,
Час их бессмертия пробил.
Как одиноко теперь
Жене, с кем все начинали,
Возле нежданных потерь,
Около горькой печали.
Пять легендарных имён,
Пять гениальных поэтов,
Вспыхнул вдали небосклон
Пушкина, Тютчева, Фета.
Я неслучайно поставил рядом эти имена. Поэзия XIX в. и наш золотой век близки друг другу. Бог не обидел талантом и сегодняшних поэтов. Они тоже проповедуют в своих книгах, стихах самое дорогое для человека: правдивость, совестливость, милосердие, порядочность, любовь к земле, родине, женщине – всё это присутствует в их поэзии так же, как в поэзии Пушкина и Лермонтова.
– Однажды вы сказали, что для вас важно было посидеть в кресле Лермонтова. Почему?
– Лермонтов – мой любимый поэт. Ему я посвятил книгу «Всё полно здесь имени его». В ней собраны стихи о нём, о его жизни, творчестве, друзьях, о его времени. Лермонтов для меня – бог поэзии! Я понимаю, что Александр Сергеевич – наше всё, что он гений! Но к Лермонтову у меня особая любовь. Вы подумайте только: в 22 года написать пьесу «Маскарад», после – «Герой нашего времени», а в 26 уйти из жизни… Это непостижимо! Я уже не говорю о стихах, таких как «Бородино», «Я не унижусь пред тобою», «Погиб поэт! – невольник чести». Это гениальные стихи, и в то же время они просты, в них нет выкрутасов, которые используют наши модернисты, жаждущие завоевать внимание, выделиться, поэтому пишут заумно и малоинтересно. А русский язык мстит, когда с ним небрежно, невежливо обращаются, если его не чувствуют, не понимают. Русский язык – один из немногих языков, богатых синонимами, диалектизмами, непреходящим восполнением самого себя. Всё это можно и нужно использовать поэтам, если они хотят, чтобы их читали. Сколько прошло времени, а сборники произведений Лермонтова, Пушкина, Тютчева, Мандельштама, Маяковского, Пастернака всё идут и идут в тираж, и так будет всегда. Потому, что это не просто Богом одаренные, невероятные поэты, а они были и есть часть нашей жизни. Самое главное для поэта – чтобы люди чувствовали, что он с ними одно целое, что он – часть этой земли, страны, воздуха, невзгод, тревог и радостей; чтобы слова поэта находили отклик в их сердцах. И чем крупнее поэт, тем большее число людских дум он выражает. Этим сильна поэзия, этим она бессмертна.
– Вы говорили, что благодаря Лермонтову у вас особое отношение к Пятигорску…
– Да, приезжая в Пятигорск, я счастлив, что дышу этим воздухом, хожу по земле, по которой ходил гений, представляю, как он читал стихи, ухаживал за женщинами. Я пытаюсь найти хоть один портрет с улыбающимся Лермонтовым, мне интересно, какая у него была улыбка. Заразительный смех Пушкина передают рисунки его современников, он улыбался, когда читал свои произведения, а вот улыбки Лермонтова никто не запечатлел… Наверное, потому что его жизнь была трудной.
Внутренний огонь преображал и Пушкина, и Лермонтова, любого настоящего поэта. Не поразиться, не почувствовать, не восторгаться этим невозможно. Однако Лермонтов был скрытным человеком, мрачноватым. К тому же ему не везло в любви, а в 24–25 лет это серьёзный повод для переживаний и уныния. Не всегда он был понят, не всегда ответными были его порывы, что, конечно, накладывало на него определённый отпечаток. Нельзя забывать, что он был военным человеком, участвовал в Кавказской войне, видел смерть, кровь, страдания. За храбрость был награждён золотым оружием. Надевая форму и беря оружие, солдат тем не менее не перестаёт быть человеком, он испытывает сострадание к другому, сомнения, переживания и всё же становится жёстче. Лермонтов был таким, а Пушкин – нет, он другой, он лёгкий. Ещё мне кажется, что Лермонтов предчувствовал свою смерть, поэтому торопился жить. Вообще я верю в предчувствие. Вспоминаю замечательного композитора и певца Е.Мартынова, с которым мы сделали не одну песню. Когда я написал «Натали» о Н.Н. Пушкиной на его замечательную музыку, он пришёл ко мне, увидел текст, сел за фортепьяно и спел её три раза подряд. Я подумал: «Почему он мне ничего не говорит, неужели не понравилось?» Текст писался три месяца, я вложил в него своё отношение к Пушкину, к Наталье Николаевне, вообще к этой теме. Женя закончил играть, подошёл ко мне и грустно сказал: «Андрей Дмитриевич, это лучшее, что вы написали, теперь я могу и умереть». Вскоре его не стало…Мне рассказали историю о потрясающем артисте Г.Буркове. Когда он умирал, сказал жене, что видит себя в какой-то каюте рядом с Эдиком (они дружили с Э.Стрельцовым, футболистом из «Торпедо»). Георгий умер, а через три дня умер Эдик, и они похоронены рядом. Так их «каюты» оказались рядом. Что это, если не предчувствие?.. И в Михаиле Юрьевиче оно было.
– Андрей Дмитриевич, вы сказали, что отрицательное влияние на творчество Лермонтова оказали его сложные отношения с женщинами. Что, с вашей точки зрения, для поэта значат женщины и любовь?
– Я думаю, всё! Лермонтов, будучи человеком несчастливым в любви, писал стихи именно об этом. И они были поразительные, в них столько боли, столько мужского уязвлённого самолюбия, гордости. Он ведь не думал о своей гениальности, он был просто молод. Поэты очень люди ранимые, они вникают в жизнь других через свои переживания, через свою интуицию. И в этом смысле Михаил Юрьевич был несчастным человеком. Он неслучайно написал драму «Маскарад», показав в ней удивительные человеческие отношения, причём на таком уровне, какой мало кто достигает в 16 лет. Подумайте – в 16 лет! Я в эти годы и строчки не мог придумать. Любовь для Лермонтова, думаю, была слишком значима в жизни, творчестве, поэтому он так остро переживал её отсутствие и неудачи на любовном фронте. Почему я говорю, что женщина – всё?! Потому что прежде всего с женщины, с мамы мы начинаемся. А где женщина, там и самое прекрасное чувство – любовь…У меня есть книга, первый том которой называется «Всё начинается с любви». В ней я пишу, что кому-то очень везёт, как, например, С.Говорухину (он встретил свою Галю много лет назад, так они и идут по жизни вместе), а другим – нет...
– А как вы сами решились позволить себе во второй половине жизни новую любовь?
– Решился и не жалею: это моя единственная любовь, настоящая. Как человек, воспитанный в старых традициях, я считал, что, если гуляешь с девушкой, она влюблена и ты влюблён, надо жениться. Поэтому в свой первый брак вступил в 19 лет. Это была самая красивая девчонка в Твери. Мы познакомились в восьмом классе и сразу после школы поженились. Я пошёл на этот шаг ещё и по той причине, что её отец служил за границей, брат погиб на войне, а мама умирала и очень переживала, что дочь в 18 лет останется одна. Мы расписались, и женщина умерла успокоенной. К сожалению, совместная жизнь с Алисой у нас не сложилась. Однако уже сейчас, после многих романов, убеждён, что любая женщина, с которой вас связывала влюблённость, дарила тебе счастье. И ты уже не имеешь права думать и говорить о ней плохо. Поэтому о своих бывших жёнах я вспоминаю с теплотой, тем более что они подарили мне детей, и за это я им низко кланяюсь. А то, что не сложилось, – так все мы люди, у всех есть слабости, все совершают ошибки. Аню, мою последнюю жену, я знал ещё 16-ей девочкой, студенткой МГУ. Она пришла в журнал «Юность», когда я был там замглавного редактора. Наблюдая за ней, её работой, почувствовал, насколько она умный и глубокий человек. Это показали её интервью с В.Аксёновым, Ф.Горенштейном, В.Максимовым, с диссидентами, которые уехали из нашей страны, с писателями, которых, можно сказать, изгнали. И после одного интервью, которое было потрясающим по удивительному проникновению в литературу, я сделал её заведующей сразу двух отделов и членом редколлегии. После этого понял, что она не просто красивая девчонка, а ещё и глубокий человек, тонкий, умный, воспитанный, деликатный. Она уже была влюблена в меня, но не показывала этого, так как я тогда был женат. И я влюбился, увидев, какое это духовное богатство, сокровище характера, душевных женских начал. Я пошёл навстречу этим ощущениям. Несмотря на разницу в годах, мы прекрасно понимали друг друга. Дальше уже всё было просто.
– А как вы поняли, что встретили любовь? Ведь вы сказали, что Анна, по сути, единственная любовь в вашей жизни?
– Во-первых, возникло взаимопонимание. Я даже в стихах писал, что мы едва ли не читаем мысли друг друга. Удивительное, интуитивное, тонкое, через какие-то флюиды, идущие друг к другу, одинаковое ощущение жизни, людей. Это редко встречается. Я уверился, что она единственная в мире женщина, созданная для меня. А я – для неё. Она была единственной, кто поддержал меня в трудный период, когда пришлось уйти из журнала. Ни жена, ни коллеги, ни друзья, а именно Аня дала мне силы пережить те дни. Какой бы я ни был сильный мужик, сколько бы мне ни было лет, как бы ни был известен, но я – человек, и мне нужна поддержка, доброе слово. А этого не было. Аня это почувствовала, она готова была пойти за мной куда угодно. И я знал, что пойду за ней. Я позвонил ей как-то вечером из дома, у неё был грустный голос. На мой вопрос «Что с тобой?» Аня ответила, что очень больна, что ей плохо. Я почувствовал, что она действительно заболела, но не только физически, а еще душевно: ей одиноко, тяжело, потому что к ней не может прийти любимый человек. И тогда сказал: «Сейчас приеду». Взял бритву, зубную щетку, уехал и остался у Ани навсегда. Утром позвонил жене и сказал: «Прости, я ушёл».
– Жизнь человека нуждается не только в любви, она требует смелости и не терпит малодушия. В своё время вам удавалось публиковать в журнале авторов в общем-то неугодных власти. Хотя проще было отойти в сторону, сделать вид, что у редакции нет возможности, нет условий. Откуда вы брали мужество помогать этим людям, мужество, актуальное во все времена?
– Опять-таки от любви. Понимаете, я люблю талантливых людей. У них могла быть та или иная судьба, но они были талантливы. И о них должны были узнать все, кому этот талант посвящался: их книги, стихи, романы, повести, статьи. Это всё должно быть достоянием тех людей, к кому был обращён их труд. Ведь всё их творчество было адресовано другим, чтобы помочь им понять себя, определиться в этой жизни, которая была и остаётся во многом, извините, сволочной. Поэтому я старался, чтобы справедливость восторжествовала. У меня были хорошие помощники, замечательные сотрудники в редакции, с которыми мы были настоящими единомышленниками, иначе журнал не получился бы. Что касается мужества, я никогда о нём не думал, а считал всё, что делаю, простым исполнением долга. Я люблю свой труд, профессию, литературу, свой журнал. Я знал, что свою любовь должен доказывать не восторженными словами, а делом: печатая людей, которые заслужили право говорить и быть услышанными. Если попадались люди, которые этому мешали, я мог их уговорить, убедить – по-разному, иногда даже стукнув кулаком по столу. Дело часто доходило до политбюро – всякое было. Я не хочу об этом рассказывать, потому что для меня самое главное – результат. Выходил журнал, и в нём печатались лучшие произведения времени, например, повесть «Завтра была война» Б.Васильева. И я понимал, что одержана победа не только над цензорами, одержана победа в принципе. Талант победил – это было важно. Однажды хотел, хлопнув дверью, уйти из журнала, когда мне не разрешили печатать «Собачье сердце» М.Булгакова. И это после публикации Войновича, Горенштейна, Васильева, Рейна и всех других, которые были в «Метрополе», публиковались у Вознесенского и Жванецкого. В это время мне позвонил Г.Бакланов, мой однокашник по литинституту, возглавлявший журнал «Знамя», и сказал: «Андрюш, не сердись на меня, но мне позвонили и сказали, что хотят, чтобы «Собачье сердце» вышло в моём журнале». Я обрадовался, сказал, что главное, чтобы повесть пришла к людям. А он: «Знаешь, почему тебе не хотят разрешать печатать? У тебя тираж невероятный: 3 300 000, а у меня...» На что я засмеялся: «Да они не понимают, что всё на ксерокопиях разойдётся так, что им и не снилось. Печатай!»
Как я находил интересных авторов? Однажды пришёл на Арбат, куда часто захаживал посмотреть картины, молодых ребят – своего рода уличный клуб протеста. Послушал их песни, какие-то стихи дурацкие, наивные, но достаточно смелые и пригласил зайти в редакцию журнала «Юность». Они все пришли! И я их напечатал, эту компанию «Вертеп». Печатал и группу оппозиционеров: Искренко, Жданова, Ерёменко, Бунимовича, Годлевского. Потом были письма, по подборке которых сделали спектакль. Я дико гордился, что дал им площадку для выступления, потому что они были запрещены, но популярны. Прочитав как-то рецензию корреспондента Хромакова в «Комсомольской правде», придя в восторг от его умной и острой статьи, я пригласил его заведующим отделом в редакцию. Придя сюда, Миша придумал «Двадцатую комнату». У нас там такое творилось: хиппи, рокеры, панки приходили, сидели на полу, высказывались. Мы их печатали, встречались с ними. Это было потрясающе, это была такая жизнь! И каждые четыре-пять месяцев мы устраивали выставки молодых художников, прямо в журнале, в редакции, а потом печатали репродукции со статьями. Заходил к нам посмотреть выставку работ своего друга Ю.Григоряна великий композитор А.Хачатурян, с авоськой бродил по выставочному залу актёр Б.Андреев, «Мысли вслух» которого позже напечатали в журнале. Был С.Бондарчук, а Л.Гурченко даже отказалась печатать свою повесть в «Юности», когда узнала о моём уходе…Это были лучшие 20 лет моей жизни. Да, я умирал от этой работы, я почти не писал стихов, потому что был занят журналом, но это было потрясающе.
– Нынешние демократы говорят, что советский период истории страны – это было время тоталитарной несвободы, цензуры, подавления. Это так?
– Конечно, так. Тем не менее это было интересное время. Есть такой поэт Л.Кривощёков, мой однокашник по литинституту, он написал очень хорошее стихотворение. Человек идёт, а навстречу ему сильный ветер, и он идёт, нагнувшись вперёд. Ветер закончился, он упал. Вот такая была жизнь, мы все так шли – против ветра, нас было много. Мы брались за руки и шли, зная, что всё равно пройдём. Не дай бог, кончится ветер – мы упадём. Он кончился, и много людей попадало. Но многие и выстояли.
Беседу вели Елена Куджева, Зоя Выхристюк
11.07. 2018. Литературная газета
http://www.lgz.ru/article....-lyubov
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 30 Июн 2018, 22:47 | Сообщение # 46 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 
В любви мелочей не бывает.
Все высшего смысла полно...
Вот кто-то ромашку срывает.
Надежды своей не скрывает.
Расставшись -
Глядит на окно.
В любви мелочей не бывает.
Все скрытого смысла полно...
Нежданно печаль наплывает.
Улыбка в ответ остывает,
Хоть было недавно смешно.
И к прошлым словам не взывает.
Они позабыты давно.
Так, значит, любовь убывает.
И, видно, уж так суждено.
В любви мелочей не бывает.
Все тайного смысла полно...

Выхода нет.
Есть неизбежность...
Наша любовь -
Это наша вина.
Не находящая выхода нежность
На вымирание обречена.
Выхода нет.
Есть безнадежность
И бесконечность разомкнутых рук.
Мне подарил твою нежность художник,
Чтобы спасти меня в годы разлук.
Видимо, ты опоздала родиться.
Или же я в ожиданье устал.
Мы - словно две одинокие птицы -
Встретились в небе,
Отбившись от стай.
Выхода нет.
Ты страдаешь и любишь.
Выхода нет.
Не могу не любить.
Я и живу-то еще
Потому лишь,
Чтобы уходом тебя не убить.

Грядущее не примирить с минувшим.
Не подружить «сегодня» и «вчера».
Я кораблем остался затонувшим
В той жизни, что, как шторм, уже прошла.
Но память к кораблю тому вернулась.
Рискованная, как аквалангист.
Она вплыла в мою былую юность,
И снова я наивен, добр и чист...

Когда любовь навек уходит,
Будь на прощанье добрым с ней.
Ты от минувшего свободен,
Но не от памяти своей.
Прошу тебя,
Будь благороден.
Оставь и хитрость, и вранье.
Когда любовь навек уходит,
Достойно проводи ее.
Достоин будь былого счастья,
Признаний прошлых и обид.
Мы за былое в настоящем
Должны оплачивать кредит.
Так будь своей любви достоин.
Пришла или ушла она.
Для счастья
Все мы равно стоим.
У горя — разная цена.

Даже если ты уйдешь,
Если ты меня покинешь, -
Не поверю в эту ложь,
Как весною в белый иней.
Даже если ты уйдешь,
Если ты меня покинешь, -
О тебе напомнит дождь,
Летний дождь и сумрак синий.
Потому что под дождем
Мы, счастливые, ходили.
И гремел над нами гром,
Лужи ноги холодили.
Даже если ты уйдешь,
Если ты меня покинешь, -
Прокляну тебя... И все ж
Ты останешься богиней.
Ты останешься во мне,
Как икона в божьем храме.
Словно фреска на стене,
Будто розы алой пламя.
И пока я не умру,
Буду я тебе молиться.
По ночам и поутру,
Чтоб хоть раз тебе присниться.
Чтоб проснулась ты в слезах.
И, как прежде, улыбнулась...
Но не будет знать мой прах,
Что любимая вернулась.

Мы на земле живем нелепо!
И суетливо... Потому
Я отлучаюсь часто в небо,
Чтобы остаться одному.
Чтоб вспомнить то,
Что позабылось,
Уйти от мелочных обид,
И небо мне окажет милость -
Покоем душу напоит.
А я смотрю на землю сверху
Сквозь синеву,
Сквозь высоту -
И обретаю снова веру
В земную нашу доброту.
И обретаю веру в счастье,
Хотя так призрачно оно.
Как хорошо по небу мчаться,
Когда вернуться суждено.
Окончен рейс...
Прощаюсь с небом.
Оно печалится во мне.
А все вокруг покрыто снегом,
И пахнет небом на земле.
И жизнь не так уж и нелепа.
И мир вокруг неповторим.
То ль от недавней встречи с небом,
То ль снова от разлуки с ним.

Я ехал мимо дачных станций
На электричке ясным днем.
И словно чьи-то руки в танце,
Березы плыли за окном.
И я не знал, куда я еду:
В печаль, в надежду, в торжество?
То ли спешу навстречу лету,
То ль убегаю от него.
А электричка мне казалась
Судьбой изменчивой моей,
Где все меня тогда касалось
И все мне виделось светлей.
Еще я думал, что, пожалуй,
Тебя скрывает этот лес.
И поезд наш опережало
Мое предчувствие чудес.
А потому я взял и вышел
К березам, в тишину полей.
И поезд даже не услышал
Нежданной радости моей.

Приходит опыт, и уходят годы...
Оглядываясь на неровный путь,
Чему-то там я улыбаюсь гордо,
А что-то бы хотел перечеркнуть.
Все было в жизни -
Поиски и срывы...
И опыт постоянно мне твердит,
Что дарит мать птенцу
В наследство крылья,
Но небо за него не облетит.
Пусть юность и спешит, и ошибается.
Пусть думает и рвется напролом...
Не принимаю осторожность паинек,
Входящих слепо в мир с поводырем.

Спасибо за то, что ты есть.
За то, что твой голос весенний
Приходит, как добрая весть
В минуты обид и сомнений.
Спасибо за искренний взгляд:
О чем бы тебя ни спросил я -
Во мне твои боли болят,
Во мне твои копятся силы.
Спасибо за то, что ты есть.
Сквозь все расстоянья и сроки
Какие-то скрытые токи
Вдруг снова напомнят - ты здесь.
Ты здесь, на земле. И повсюду
Я слышу твой голос и смех.
Вхожу в нашу дружбу, как в чудо.
И радуюсь чуду при всех.

Листаю жизнь твою, как книгу…
И с незаполненных страниц
Я вновь тебе в былое крикну:
«В непредсказуемость вернись!»
Здесь без тебя так одиноко,
Как одинок наш старый дом…
И тишина глядит из окон,
Как будто спит он мертвым сном.
Я помню – детство в нем носилось.
Вился над крышей синий дым.
Тогда еще нам не грозила
Разлука взглядом неземным.
Я думал, что так вечно будет.
Ты – рядом. А года не в счет.
Но ты ушел… И неподсуден
Твой неожиданный уход.

Среди печали и утех
Наверно, что-то я не видел.
Прошу прощения у тех,
Кого нечаянно обидел.
Когда бы это ни случилось -
Вчера лишь... Иль давным-давно
Ушла обида иль забылась, -
Прошу прощенья все равно...
Прошу прощенья у любви -
Наедине, не при народе,
Что уходил в стихи свои,
Как в одиночество уходят.
И у наставников своих
Прошу прощенья запоздало,
Что вспоминал не часто их,
Затосковал, когда не стало.
А вот у ненависти я
Просить прощения не стану.
За то, что молодость моя
Ей доброту предпочитала.
Не удивляйтесь, что сейчас,
Когда судьба мне время дарит,
Прошу прощения у вас.
Но знаю я - последний час
Обычно не предупреждает...

Когда отпустит мне судьба
Последние три дня,
На миг забуду я тебя,
Но ты прости меня.
Свой первый день - один из трех -
Друзьям своим отдам.
Пусть в дом придет веселый смех
С раздумьем пополам.
С детьми второй день проведу,
Я очень виноват
За то, что много дней в году
Далек был от ребят.
А свой последний, третий день
Пробуду я с тобой,
Чтоб не узнала ты меж дел,
Что жизнь дает отбой.
Чтоб было все с тобой у нас,
Как много лет назад:
В последний раз,
Как в первый раз, -
Улыбка, слово, взгляд.
Хочу, чтоб я с собой унес
Сокровища двоих.
Не соль и горечь тихих слез,
А сладость губ твоих.
Чтобы навек в родных глазах -
(Ты забывать не смей!) -
Не боль осталась и не страх,
А свет любви моей.

Я прожил нелегкую жизнь:
Репрессии, голод, война…
Мне сердце шептало:
«Держись!
Иные придут времена…»
Пришли…
Но не те, что я ждал.
Пришли времена «воротил»,
Эпоха ворюг и менял,
И вновь этот мир мне не мил.
А нас – ту великую часть,
Что держит страну на плечах,
Ввергают, как прежде, в напасть,
Чтоб свет в наших душах зачах…
Я прожил нелегкую жизнь.
И злобится память моя.
А сердце мне шепчет:
«Держись…»
Держусь за таких же, как я.

Как бы нам тяжело ни жилось
И какие бы нас
ни встречали невзгоды,
Не копите в душе
ни обиду, ни злость.
Постарайтесь держаться
достойно и гордо.
Как бы нам тяжело ни жилось,
Не теряйте надежд
возле горькой печали...
Жизнь длинна...
Есть предел и у чёрных полос.
Поменяется мрак
на рассветные дали.
Так со мною случалось не раз.
Вопреки неудачам,
ошибкам, заботам
Наступал долгожданный
и праведный час,
Когда жизнь восходила
к счастливым высотам.
Потому что и в самые
чёрные дни
Не терял я надежды
и веры бессрочной
В то, что мы на земле
все душою сродни.
И в нелёгкую пору
Кто-то выйдет помочь нам.
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 03 Окт 2018, 08:36 | Сообщение # 47 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 123 года со дня рождения Сергея Есенина

худ. О.Рытман
Рюрик Ивнев
Нам не надо памяти тревожить,
Чтобы вспомнить о тебе сейчас.
Образ твой и в суете дорожной
И в тиши не покидает нас.
Так, с годами - глубже и яснее,
Не старея, мы осознаём,
Почему вошёл Сергей Есенин
В наше сердце, словно в отчий дом.

худ. Ю.Алексеев
Есенина нет, но горячее сердце
Забилось сильнее при думе о нем.
Оно помогает мне снова согреться
Есенинским неугасимым огнем.
И вот, будто горечь желая рассеять
И новое солнце зажечь в облаках,
Отбросив полвека, как листик осенний,
Застрявший в петлице его пиджака,
Веселый и юный вернулся Есенин
И мне протянул новый свой акростих.
Невиданной встречей вконец потрясенный,
Над этим листком я смущенно затих.
И мне захотелось, чтоб все повторилось,
Но только без грустных начал и концов.
Чтоб новое имя пред нами забилось,
Как бьются сердца годовалых птенцов.
Чтоб было бы все не похоже на муки,
Которые в наше сознанье вошли.
Я вновь вспоминаю свиданья, разлуки
Пред тем, как навечно отплыть от земли.
Осень 1980, Сретенка, Москва

Я не слыхал роднее клича
С детских лет, когда вдали
По заре степной, курлыча,
Пролетали журавли.
Этот клич такой желанный,
Он сводил меня с ума.
И, заслышав зов гортанный,
Верил крепко: в наши страны
Не воротится зима.
Верил также - в криках стаи
Есть понятные слова.
И следил, пока густая
Не скрывала синева.
Ныне стаи реже, глуше
Или жизнь пошла ровней,
Но по смерть готов я слушать
Эти песни журавлей.
Вот вчера, в час вешней лени,
Вдруг на небе как штрихи...
И от них такое пенье,
Будто вновь Сергей Есенин
Мне читал свои стихи.
В.Наседкин
Светлана Пересветова

худ. А.Денисов
Зашуршат листки воспоминаний
Тех далеких, призрачных годов...
Как в кино, проходят перед нами
Айседора, Райх, Мариенгоф...
Как в кино... Но в годы те лихие
Все не так казалось, как сейчас.
Были буйны кудри золотые
И огни веселых синих глаз.
Только взгляд со временем потух,
Стало много в нем тоски и грусти...
Погоди немного, милый друг!
Может, боль со временем отпустит?
Не спеши! На розовом коне
Ты по жизни проскакал недолго.
Да уж.. В нашей матушке-стране
Ожидать не следует иного...
Может, поздно, может, слишком рано,
Только ты ушел, недосказав.
Грусть и боль шального хулигана
Отразилась в чувственных стихах.
Жизнь твоя прошла, как фейерверк,
В скопище людском, в угаре пьяном.
Только не забудем мы вовек
Юного поэта-хулигана!
Да уж, наша матушка-Рассея
Будет помнить много-много лет,
Кто такой здесь был Сергей Есенин,
Молодой, прославленный поэт!

худ. Э.Вохидов
Зачем же ты родимый дом оставил?
Зачем покинул голубую Русь?
Но знаешь, все же ты ее прославил,
Излив в стихи березовую грусть.
Была Москва в угаре буйном, пьяном;
Европа танком по тебе прошла,
Но помнил ты всегда свои курганы,
Россия в сердце у тебя была.
Да... Много говорят сейчас потомки,
И каждый осудить тебя спешит,
Не замечая душ СВОИХ обломки,
Не видя ширь и мощь ТВОЕЙ души!
Русь - это ты, поэт златоголовый,
Твои родные, милые поля,
Твоя избенка, крытая соломой,
Твоя, Сергей, рязанская земля!

Я не хотела уезжать оттуда,
Из края лип, черемух и берез.
Тебя я, Русь, вовеки не забуду!
Есенин, ты ведь славу ей принес!
Наполнен воздух запахом черемух,
А низкий дом твой ждет тебя, поэт.
Простые избы, крытые соломой,
И милый дворик был тобой воспет.
Все вроде здесь, как при тебе когда-то:
Березы, избы, петухи, плетень...
И с постамента ты глядишь куда-то,
Утратив глаз былую голубень.
Но все не так... И Русь уж не былая,
И лишь сирень по-прежнему цветет.
Не слышно пса заливистого лая,
Что ждал тебя когда-то у ворот.
И все же здесь свободней и теплее,
А небо это чуточку синей.
И нету в мире лучше и милее
Твоих простых бревенчатых сеней!

худ. Б.Кулагин
Стекает желтый воск в пшено,
Тревогу в сердце льет сопрано.
Наверно так предрешено,
Что лучшие нас оставляют рано.
Но ты среди невинных пал,
Приняв удар судьбы жестокой,
Не расстеряв души запал,
От поднебесного истока.
Ты напоил ручьем любви,
Забытых братьев наших меньших.
Мой друг, твои ли соловьи,
Искрят, напевами согревши?!
Среди лугов, среди полей,
Ты сеял семена надежды...
Не сломят стойких тополей -
Могучие ветра, как прежде.
Ведь в мир губительных пучин,
Бушующих лавин порока
Привнёс ты тёплые лучи,
В бескрайне нежных, добрых строках...
Теперь ушёл ты навсегда -
В края, откуда нет возврата,
Но вновь и вновь твоя звезда
Нам машет, искоркой крылатой!
К.Хвостов

худ. В.Панов
Сергей Есенин! Это имя -
В степях разбуженной России,
В березах розовых и синих,
В зеленых с проседью осинах,
хлебах из золота осенних,
В твоих стихах, Сергей Есенин!
Под их задумчивою сенью
Мужаем мы в бетонных кельях,
Под их томительное пенье
Твоим мы пенимся весельем!
Твоя любовь, твоя тоска,
Твои непонятые слезы
Струятся к нам в твоих стихах
Как сок из срубленной березы…
А.Коваль

худ. В.Храпун
Ну, конечно, лет прошло немало,
И пора, взглянув по сторонам,
Вспомнить все, что время отнимало,
Что так щедро приносило нам.
И средь тех, кто распрощался с ношей
Жизненных трудов, встаете Вы,
Тот, кого по-дружески - Сережей
Называли улицы Москвы.
И легко представить, что в награду
За любовь, хранимую года,
Вдруг сейчас на эту вот эстраду
Вы легко вбежите. И тогда
Стих заблещет утренним востоком
И такой крылатый вспыхнет жест,
Что навстречу ринется потоком
Молодежь, сорвавшаяся с мест.
И опять звенеть тугим гитарам,
И кипеть черемухам весной...
Невозможно Вас представить старым
С тусклым взглядом, с важной сединой.
И не нужно лишних опасений,
Время взвесит труд Ваш и житье.
Есть Россия. Есть Сергей Есенин,
Без оглядки веривший в нее.
С.Спасский

Я стою у могилы Сергея Есенина.
И ромашки печально кладу на плиту.
Он любил их при жизни.
И рвал их рассеянно.
И воспел эту землю -
В дождях и цвету.
А.Дементьев
|
| |
| |
| Анастасия | Дата: Четверг, 29 Ноя 2018, 22:37 | Сообщение # 48 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 236
Статус: Offline | 29 ноября 2010 г. в Переделкино на 74-м году жизни скончалась Б.Ахмадулина. Первым о смерти поэтессы сообщил писатель Е.Попов: "Час назад умер великий русский поэт Белла Ахмадулина. Вечная память! Других слов пока нет", - написал он. Позднее информацию о ее кончине подтвердили радиостанции "Эхо Москвы" в ЦДЛ. Свои соболезнования по этому поводу уже выразили президент РФ Д.Медведев и премьер-министр В.Путин.
"Умерла Белла Ахмадулина. Невосполнимая утрата. Ее творчество - классика русской литературы. Скорбим", - написал Медведев в своем Twitter'е. По словам писателя В.Войновича, Ахмадулина в последние годы жизни страдала от тяжелой болезни. "Она очень мало писала в последнее время, так как почти ничего не видела, практически жила наощупь. Но, несмотря на очень тяжелый недуг, никогда не жаловалась, всегда была приветлива". Белла Ахатовна скончалась в скорой по дороге в больницу. Ей неожиданно стало плохо, Б.Мессерер вызвал скорую помощь, но ее не успели довезти до Москвы из Одинцовского района, где она проживала.
http://www.utro.ru/articles/2010/11/29/940587.shtml

Б.Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 г. в Москве. Стихи писала с детства, занималась в литобъединении при ЗИЛе. Сразу после школы поступила в Литинститут им. Горького. Во время учебы публиковала стихи в литературных журналах и в рукописном журнале "Синтаксис". Занималась журналистикой, писала очерки. В 1959 г. была исключена из института за отказ участвовать в травле Б.Пастернака, но затем восстановлена. В 1960 г. окончила институт с отличной оценкой дипломной работы. В 1962 г. была издана первая ее книга "Струна", вслед за которой последовали сборники "Озноб", "Уроки музыки", "Стихи", "Свеча", "Метель". За сборник "Сад" Ахмадулина была удостоена Госпремии СССР. В 1964 г. снялась в роли журналистки в фильме "Живет такой парень". Участвовала в создании литературного альманаха "Метрополь". Ее перу принадлежат воспоминания о поэтах-современниках, эссе о А.С. Пушкине и М.Ю. Лермонтове. Она по праву считалась одним из наиболее ярких поэтов, начинавших свой творческий путь во время "оттепели". Наряду с А.Вознесенским, Е.Евтушенко и Р.Рождественским ее называли "поэтом эстрады", тем самым обозначая не столько поэтический строй, сколько способ общения с читателем. Ахмадулина много переводила грузинских поэтов. Она - автор многочисленных эссе о В.Набокове, А.Ахматовой, М.Цветаевой, А.Твардовском, П.Антокольском, В.Высоцком.
Елена_Фёдорова:
Б.Ахмадулину похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами поэта М.Луконина и В. Черномырдина. После гражданской панихиды, которая прошла утром в ЦДЛ и собрала сотни поклонников творчества выдающейся поэтессы, траурный кортеж направился к Новодевичьему кладбищу.«Пробок траурный кортеж не почувствовал – его сопровождали машины ГИБДД и скорой помощи. На кладбище впереди процессии несли фотопортрет Беллы Ахатовны работы Ю.Роста, сделанный 13 лет назад. Речей уже никто не произносил. Гроб открыли еще раз и с Ахмадулиной тихо простились самые близкие», – рассказал пресс-секретарь СП Москвы А.Герасимов.Отдать дань творческому и нравственному таланту Беллы Ахатовны на гражданскую панихиду пришли сотни поклонников, а также коллеги по писательскому цеху и многие известные деятели культуры. Среди них были А.Кабаков, А.Ширвиндт, А.Арканов, Е.Рейн, М.Розовский, Н.Солженицына, В.Войнович, Т.Друбич, О.Митяев, С.Соловьев и мн. др.
03.12. 2010. Фонтанка.ру
http://www.fontanka.ru/2010/12/03/100/

Юрий Нагибин ( из дневника (1960 г.): Я так гордился, так восхищался ею, когда в битком набитом номере она читала свои стихи нежно-напряженным, ломким голосом и любимое лицо ее горело, - я не отважился сесть, так и простоял у стены, чуть не падая от странной слабости в ногах, и мне счастливо было, что я ничто для всех собравшихся, что я - для нее одной…
Евгений Евтушенко: … Мы часто ссорились, но быстро и мирились. Мы любили и друг друга, и стихи друг друга. Одно новое стихотворение, посвященное ей, я надел на весеннюю ветку, обсыпанную чуть проклюнувшимися почками, и дерево на Тверском бульваре долго махало нам тетрадным, трепещущим на ветру листком, покрытым лиловыми, постепенно размокающими буквами. Взявшись за руки, мы часами бродили по Москве, и я забегал вперед и заглядывал в ее бахчисарайские глаза, потому что сбоку была видна только одна щека, только один глаз, а мне не хотелось потерять глазами ни кусочка любимого и потому самого прекрасного в мире лица. Прохожие на нас оглядывались, ибо мы были похожи на то, что им самим не удалось…

Из глубины моих невзгод
молюсь о милом человеке.
Пусть будет счастлив в этот год,
и в следующий, и вовеки.
...........................
Не ведая, как наугад
я билась головою оземь,
молясь о нем - средь неудач,
мне отведенных в эту осень.
Б. Ахмадулина

Так и живем - напрасно маясь,
в случайный веруя навет.
Какая маленькая малость
нас может разлучить навек.
Так просто вычислить, прикинуть,
что без тебя мне нет житья.
Мне надо бы к тебе приникнуть.
Иначе поступаю я.
Припав на жесткое сиденье,
сижу в косыночке простой
и направляюсь на съеденье
той темной станции пустой.
Иду вдоль белого кладбища,
оглядываюсь на кресты.
Звучат печально и комично
шаги мои средь темноты.
О, снизойди ко мне, разбойник,
присвистни в эту тишину.
Я удивленно, как ребенок,
в глаза недобрые взгляну.
Зачем я здесь, зачем ступаю
на темную тропу в лесу?
Вину какую искупаю
и наказание несу?
О, как мне надо возродиться
из этой тьмы и пустоты.
О, как мне надо возвратиться
туда, где ты, туда, где ты.
Так просто станет все и цельно,
когда ты скажешь мне слова
и тяжело и драгоценно
ко мне склонится голова.
- Я помню свой ранний возраст памятью нюха и зрения. Первое воспоминание: сильный запах мокрого песка, из которого велено что-то лепить иль выпекать с помощью омерзительной «формочки», штучки такой, до сих пор ненавижу. Отворачиваюсь, оборачиваюсь - и вижу ярко-светлый дом в глубине темного сада. Да уж не в усадьбе ли все это происходит? Представьте и поверьте - да, в городской усадьбе прошлого времени. Эти дом и сад на Садовом кольце существуют и поныне, там обитает какое-то учреждение. В одной из комнат бывшего особняка, вместе с семьей моей, обитала и я первые три года жизни. Потом я узнаю, теперь мне кажется, что и тогда я знала, какие непоправимые несчастья постигали соседей. Как ребенок, если не урожден тупицей или убийцей, может не чувствовать, не знать? Нет у него такой возможности. Тогда же: поднимаю одинокое лицо и вижу красный воздушный шар, не долетевший до синего неба, нитка не допустила, зацепилась за ветку дерева. Дерево - сохранно; проезжая по Садовому кольцу, я вижу дом, деревья, дерево, ребенка, отвлекшего лицо от насильной песочницы, красный воздушный шар, не долетевший до вольной синевы. Детей и всех посторонних навряд ли теперь пускают за эти ворота, а воздушные шары давным-давно не летают. В скобках замечу: следующий красный воздушный шар я увижу после войны. Дорого обошелся он моей бабушке. Но вот он, вернее - вон, упущенный мной (или отпущенный?), в синеве неба над белым Большим театром. Там тогда обитал владелец и укротитель грозди вожделенных своевольных сокровищ. Безутешность потери и прибыль: счастье его, шара, свободы. Воздушные шары - до сих пор предмет моего обожания. Мои дети не видели воздушных шаров, чья своевольная одушевленность стремится прочь, учит руки - не владеть, отпустить. Закрыв условные скобки, возвращаюсь в первый мой возраст, в мое «до войны». Дважды обитает в моем сознании это время. Уверена, что всеобщая трагедия, не тронувшая меня впрямую, наотмашь, соответствует урожденной неспособности человека и в младенчестве быть лишь ее соседом, о не участником. Нечаянное соучастие это потом содеет или изначально содеяло печальное содержание моих зрачков. Но как дарительно поощряло мои глаза разноцветное сверкание мира, питало и воспитывало всё, из чего и поныне состоит мой взгляд на этот мир, из чего я состою.
Тогда же: за ночь расцветают тюльпаны в саду, и впервые превозмогая всё затмение предыдущего молчания, связно говорю: «Я такого не видала никогда». С тех пор жизнь моя шла, проходит, снова смотрю на семицветие белого света - лучших слов для похвалы ему не придумала. Я признаюсь в этих первых ощущениях лишь затем, что знаю - раннее детство и зрелость человека находятся в таинственном соответствии, замыкают третий круг, приблизительной словесной геометрией приписывая развитие личности.
Б.Ахмадулина
ЧУДО ПО ИМЕНИ БЕЛЛА...
http://www.superstyle.ru/20mar2008/bella
Сегодня восемь лет, как не стало Беллы Ахмадулиной
Она плела стихи как нити тонко,
следить за ней не успевали руки,
Быть может,у нее была гребенка
И в волосы ее вплетались звуки,
там мысли про любовь и про измены,
Все чувства юной девы обломались,
И строчки кровоточат словно вены.
что на века в ее словах остались...
Лилия Леонова

Не трактир, так чужая таверна.
Не сейчас, так в столетье любом.
Я молюсь на тебя суеверно,
На коленях и до полу лбом.
Родилась ты ни позже, ни раньше,
Чем могла свою суть оценить.
Между нами, дитя-великанша,
Протянулась ничтожная нить.
Эта нить - удивленье и горечь, -
Сколько прожито рядом годов
В гущине поэтических сборищ,
Где дурак на бессмертье готов!
Не робей, если ты оробела.
Не замри, если ты замерла.
Здравствуй, Чудо по имени Белла
Ахмадулина, птенчик орла!
П.Антокольский

Напрасно спрашивать у справочной:
не дозвонится телефон.
В моё окно влетела бабочка
вчера. Теперь живём вдвоём.
Несчастная была ниспослана
с небес ко мне в постой, в мой быт,
за кем мне некогда ухлёстывать.
Не знаю даже, как с ней быть.
Повадилась крылами взмахивать,
кружить, летать вокруг меня.
Я стал то вскакивать, то вздрагивать
при ней, бояться, как огня,
её. Она такая хрупкая,
[не опалила бы себя]
ещё вчера, должно быть, в куколке
укромной сонная спала.
Бог сотворил бедняжку пёстрой
затем, чтобы весною куст
черёмухи за ней ухлёстывал,
как я о бабочке пекусь.
Она красивая и лёгкая
парит на воздухе. О том
не знает белая черёмуха,
что с бабочкой живём вдвоём.
Кружится бабочка по комнате,
так только, разве что, на льду
танцуют вальс. На подоконнике
сижу, на бабочку смотрю,
как машет крыльями изящными.
И ей совсем не тяжело
махать вверх-вниз. Тебя, несчастную,
как занести ко мне могло?
Летала бы и не страдала бы
в саду, в овраге, на лугу
в каком-нибудь. Не хочешь, стало быть.
Живи, что сделать я могу.
Моя красивая, несчастная,
не осчастливленная мной,
не навлеку ли я напраслину
на этот скорбный образ твой?
Канат Канака

Лечу под облаками, словно птица ,
А руки мои – крылья за спиной.
И всё вокруг загадочно искрится
В дыму из краски бледно – голубой.
Я вижу сны – в них замки утопают
В густой листве, фонтанах и цветах…
Но над землёй я не одна летаю –
Чужих я заприметила во снах.
Они вошли во сны мои незвано,
Чтоб помешать мне думать и мечтать,
Но я бояться их едва ли стану
И буду вновь летать, летать, летать!
И буду вновь свободной и счастливой,
Во сне никто не сможет цепь надеть.
На мои мысли, на стихи и на мотивы
В моей душе - я буду, буду петь!
Летать и петь! И жить, не подчиняясь
Законам злым и пагубным для всех,
Летать и петь, с зарёй соприкасаясь
И верить, верить, верить в свой успех!
И верить в то, что сны не даром снятся
И в то, что я однажды удивлюсь,
Что наяву они осуществляются
Когда весенним утром я проснусь.
И.Радужная
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 28 Янв 2019, 16:54 | Сообщение # 49 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | Афанасию Фету

Есть в природе бесконечной
Тайные мечты,
Осеняемые вечной
Силой красоты.
Есть волшебного эфира
ени и огни,
Не от мира, но для мира
Родились они.
И бессильны перед ними
Кисти и резцы.
Но созвучьями живыми
Вещие певцы
Уловляют их и вносят
На скрижаль веков.
И не свеет, и не скосит
Время этих снов.
И пока горит мерцанье
В чарах бытия:
«Шепот. Робкое дыханье,
Трели соловья»,
И пока святым искусствам
Радуется свет,
Будет дорог нежным чувствам
Вдохновенный Фет.
К.Фофанов
Памяти М.Ю. Лермонтова...

Тянутся горы далекою цепью,
Коршун в лазури кружится над степью,
Ветер качает ковыль,
Ветер повеял вечернею лаской,
В сердце воскресла волшебною сказкой
Старая быль.
Здесь у подножья горы-великана,
В зареве молний, во мгле урагана,
Пал он - певец молодой,
Там, где пышней разрослася осока,
Высится в горной степи одиноко
Камень седой.
Люди в стремленье к наживе упорном
Путь проложили к вершинам нагорным,
Грозный разрушив оплот;
Умер Кавказ непокорный и дикий,
Пали твердыни, - один лишь великий
Гений поэта - живет.
О.Чюмина
Памяти Ф.И. Тютчева...

Ни у домашнего, простого камелька,
Ни в шуме светских фраз и суеты салонной
Нам не забыть его, седого старика,
С улыбкой едкою, с душою благосклонной!
Ленивой поступью прошел он жизни путь,
Но мыслью обнял все, что на пути заметил,
И перед тем, чтоб сном могильным отдохнуть,
Он был как голубь чист и как младенец светел.
Искусства, знания, событья наших дней -
Все отклик верный в нем будило неизбежно,
И словом, брошенным на факты и людей,
Он клейма вечные накладывал небрежно...
Вы помните его в кругу его друзей?
Как мысли сыпались нежданные, живые,
Как забывали мы под звук его речей
И вечер длившийся, и годы прожитые!
В нем злобы не было. Когда ж он говорил,
Язвительно смеясь, над жизнью или веком,
То самый смех его нас с жизнию мирил,
А светлый лик его мирил нас с человеком!
А.Апухтин, между 1873 и 1875.

Оттого ль, что в божьем мире
Красота вечна,
У него в душе витала
Вечная весна;
Освежала зной грозо
И, сквозь капли слез,
В тучах радугой мелькала,-
Отраженьем грез!..
Оттого ль, что от бездушья,
Иль от злобы дня,
Ярче в нем сверкали искры
Божьего огня,-
С ранних лет и до преклонных,
Безотрадных лет
Был к нему неравнодушен
Равнодушный свет!
Оттого ль, что не от света
Он спасенья ждал,
Выше всех земных кумиров
Ставил идеал...
Песнь его глубокой скорбью
Западала в грудь
И, как звездный луч, тянула
В бесконечный путь!..
Оттого ль, что он в народ свой
Верил и - страдал,
И ему на цепи братьев
Издали казал, -
Чую: дух его то верит
То страдает вновь,
Ибо льется кровь за братьев,
Льется наша кровь!..
Я.Полонский
Памяти Иннокентия Анненского...

К таким нежданным и певучим бредням
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
Из царскосельских лебедей.
Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.
Десяток фраз, пленительных и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространство безымянных
Мечтаний - слабого меня.
О, в сумрак отступающие вещи
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи!
В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза,
А там, над шкафом, профиль Эврипида
Слепил горящие глаза.
Скамью я знаю в парке; мне сказали,
Что он любил сидеть на ней,
Задумчиво смотря, как сини дали
В червонном золоте аллей.
Там вечером и страшно и красиво,
В тумане светит мрамор плит,
И женщина, как серна боязлива,
Во тьме к прохожему спешит.
Она глядит, она поет и плачет,
И снова плачет и поет,
Не понимая, что всё это значит,
Но только чувствуя - не тот.
Журчит вода, протачивая шлюзы,
Сырой травою пахнет мгла,
И жалок голос одинокой музы,
Последней - Царского Села.
Н.Гумилев, 1911.
На смерть Николая Гумилева...
Кровь ключом захлещет на сухую
Пыльную и мятую траву...
Н.Гумилев

рис. И.Одоевцевой
Нет, ничем, ничем не смыть позора,
Даже счастьем будущих веков!
Был убит Шенье 8-го термидора,
23-го августа - Гумилев.
И хотя меж ними стало столетье
Высокой стеною звонких дней,
Но вспыхнули дни - и в русском поэте
Затрепетало сердце Шенье.
Встретил смерть и он улыбкой смелой,
Как награду от родной земли.
Грянул залп - и на рубашке белой
Восемь роз нежданно расцвели.
И, взглянув на небосклон туманный,
Он упал, чуть слышно простонав,
И сбылись его стихи, - и раны
Обагрили зелень пыльных трав.
Все проходит - дни, года и люди -
Точно ветром уносимый дым.
Только мы, поэты, не забудем,
Только мы, поэты, не простим.
Стефан Грааль-Арельский (Петров)
Анне Ахматовой

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на Вашу первозданность.
А ошибусь, - мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.
Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге.
Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.
Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.
По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
Ветвей, и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.
Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор -
Ночная даль под взглядом белой ночи.
Таким я вижу облик Ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи,
Но, исходив от Ваших первых книг,
Где крепли прозы пристальной крупицы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.
Б.Пастернак
Памяти Александра Блока...

рис. Ю.П.Анненкова. А.Блок в гробу. 1921.
А Смоленская нынче именинница,
Синий ладан над травою стелется,
И струится пенье панихидное,
Не печальное нынче, а светлое.
И приводят румяные вдовушки
На кладбище мальчиков и девочек
Поглядеть на могилы отцовские,
А кладбище-роща соловьиная,
От сиянья солнечного замерло.
Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее,
Александра, лебедя чистого.
А.Ахматова, август 1921.
Марине Цветаевой...

худ. А.З. Давыдов
"Что же, в тоске бескрайной
Нашла ты разгадку чуду,
Или по-прежнему тайна
Нас окружает всюду?"
- Видишь, в окне виденье...
Инеем все обвешано.
Вот я смотрю, и забвеньем
Сердце мое утешено.
"Ночью ведь нет окошка,
Нет белизны, сиянья,
Как тогда быть с незнаньем?
Страшно тебе немножко?"
- Светит в углу лампадка,
Думы дневные устали.
Вытянуть руки так сладко
На голубом одеяле.
"Где же твое покаянье?
Плач о заре небесной?"
- Я научилась молчанью,
Стала душа безвестной.
"Горько тебе или трудно?
К Богу уж нет полета?"
- В церкви бываю безлюдной.
Там хорошо в субботу.
"Как же прожить без ласки
В час, когда все сгорает?"
- Детям рассказывать сказки
О том, чего не бывает.
Аделаида Герцык, 1913. Москва
Анне Ахматовой...

К воспоминаньям пригвожденный
Бессонницей моих ночей,
Я вижу льдистый блеск очей
И яд улыбки принужденной:
В душе, до срока охлажденной,
Вскипает радостный ручей.
Поющим зовом возбужденный,
Я слышу темный плеск речей
(Так звон спасительных ключей
Внимает узник осужденный)
И при луне новорожденной
Вновь зажигаю шесть свечей.
И стих дрожит, тобой рожденный.
Он был моим, теперь ничей.
Через пространство двух ночей
Пускай летит он, осужденный
Ожить в улыбке принужденной,
Под ярким холодом очей.
Б.Садовской
|
| |
| |
| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 11 Фев 2019, 16:56 | Сообщение # 50 |

Группа: Администраторы
Сообщений: 7545
Статус: Offline | 
рис. Бруни
Я видел гроб его печальный,
Я видел в гробе бледный лик
И в тишине, с слезой прощальной,
Главой на труп его поник.
Но пусть над лирою безгласной
Порвется тщетная струна
И не смутит тоской напрасной
Его торжественного сна.
Последний звук с нее сорвется,
Последний звук струны моей,
Как вестник смерти, пронесется
И, может быть, в сердцах людей
На тайный вздох их отзовется;
И мир испуганный вздрогнет,
И в тихий час залогом славы,
В немой тоске, на гроб кровавый
Слезу печали принесет.
Но тесный гроб, добычи жадный,
Не выдаст мертвого певца.
Он спит; ему в могиле хладной
Не нужно бренного венца.
Молчит цевницы звук приветный,
Уснула сладкая мечта,
И, как могила, безответны
Его холодные уста.
В немой тоске, вдали от света,
В своей незнаемой глуши,
Я приношу на гроб поэта
Смиренный дар моей души -
Простой листок в венке лавровом.
Простая дань души простой
Не поразит могучим словом,
Не тронет сердца красотой.
Нет! В грустный час томящей муки
Мне сладких песен не дано;
Мне облекать в живые звуки
Моей тоски не суждено!
Но над могилою кровавой
Я брошу блеклый мой листок,
Пока сплетет на гробе славы
Другой певец - другой венок.
А ты!.. Нет, девственная лира
Тебя, стыдясь, не назовет,
Но кровь певца в скрижали мира
На суд веков тебя внесет.
Влачись в пустыне безотрадной
С клеймом проклятья на челе!
Твоим костям в могиле хладной
Не будет места на земле!
Не знай надежды светозарной,
Чуждайся неги сладких снов
И в глубине души коварной
Таи проклятия веков!
Когда же, горькими слезами
В предсмертной муке принята,
Молитва грешными словами
Сойдет на грешные уста, -
Тогда проникнет к ложу муки
Немая тень во тьме ночной
И окровавленные руки
Судом поднимет над тобой!
27 февраля 1837. Э.Губер - первый русский переводчик «Фауста» Гёте, который был хорошо знаком с Пушкиным и сильно переживал его смерть.

худ.Лев Нецветаев
Итак, товарищ вдохновенный,
И ты! - а я на прах священный
Слезы не пролил ни одной:
С привычки к горю и страданьям
Все высохли в груди больной.
Но образ твой моим мечтаньям
В ночах бессонных предстоит,
Но я тяжелой скорбью сыт,
Но, мрачный, близ жены, мне милой,
И думать о любви забыл…
Там мысли, над твоей могилой!
Смолк шорох благозвучных крыл
Твоих волшебных песнопений,
На небо отлетел твой гений;
А визги желтой клеветы
Глупцов, которые марали,
Как был ты жив, твои черты,
И ныне, в час святой печали,
Бездушные, не замолчали!
Гордись! Ей-богу, стыд и срам
Их подлая любовь! - Пусть жалят!
Тот пуст и гнил, кого все хвалят;
За зависть дорого я дам.
Гордись! Никто тебе не равен,
Никто из сверстников-певцов:
Не смеркнешь ты во мгле веков,—
В веках тебе клеврет Державин.
24 мая 1837. Вильгельм Кюхельбекер

худ. В.Шухаев
Известно мне: доступен гений
Для гласа искренних сердец.
К тебе, возвышенный певец,
Взываю с жаром песнопений.
Рассей на миг восторг святой,
Раздумье творческого духа
И снисходительного слуха
Младую музу удостой.
Когда пророк свободы смелый,
Тоской измученный поэт,
Покинул мир осиротелый,
Оставя славы жаркий свет
И тень всемирный печали,
Хвалебным громом прозвучали
Твои стихи ему вослед.
Ты дань принес увядшей силе
И славе на его могиле
Другое имя завещал.
Ты тише, слаще воспевал
У муз похищенного галла.
Волнуясь песнею твоей,
В груди восторженной моей
Душа рвалась и трепетала.
Но ты еще не доплатил
Каменам долга вдохновенья:
К хвалам оплаканных могил
Прибавь веселые хваленья.
Их ждет еще один певец:
Он наш - жилец того же света,
Давно блестит его венец;
Но славы громкого привета
Звучней, отрадней глас поэта.
Наставник наш, наставник твой,
Он кроется в стране мечтаний,
В своей Германии родной.
Досель хладеющие длани
По струнам бегают порой,
И перерывчатые звуки,
Как после горестной разлуки
Старинной дружбы милый глас,
К знакомым думам клонят нас.
Досель в нем сердце не остыло,
И верь, он с радостью живой
В приюте старости унылой
Еще услышит голос твой,
И, может быть, тобой плененный,
Последним жаром вдохновенный,
Ответно лебедь запоет
И, к небу с песнию прощанья
Стремя торжественный полет,
В восторге дивного мечтанья
Тебя, о Пушкин, назовет.
Дм.Веневитинов

Бедной няни душа всё просила апостола: «Выпусти!..
Я вернусь, лишь беду от него отведу поутру!
Белый ангел – он спит, он, наверное, с вечера выпивши.
Чёрный ангел крылами трепещет – видать, не к добру…»
Но апостол суров: «Не проси, не терзайся ты попусту.
Ты ведь знаешь – порядок такой, и у нас, и внизу:
Будет так, как Он скажет, а мы лишь простые апостолы.
Успокойся и жди – уже скоро». И вытер украдкой слезу.
А душа всё металась, тоской и тревогою маялась.
Что ей райские кущи, когда ненаглядный – в беде!..
Уж она б защитила его, с окаянным бы справилась –
Пусть пришлось бы потом вместе в пламени адском гореть…
И не радует скорая встреча – она преждевременна.
Пусть бы мальчик дожил до законных преклонных годов…
Пусть бы жил и творил, и жену снова делал беременной –
Так, глядишь, и отвыкла б она от проклятых балов…
Обессилев, душа ожидала ужасного срока,
Лишь казнила себя за бессилье любимцу помочь.
То роптала она, то молила всесильного Бога.
Только Он не услышал её в ту последнюю ночь…
…Над землёю рассвет сам себя из сугробов вытаскивал:
Новый день, обречённый навечно быть чёрным, тужил.
Просыпалась надежда, не зная, что станет напрасною.
Чёрный ангел в потёмках над Чёрною речкой кружил…
Е.Федорова

Каков? - Таков: как в Африке, курчав
и рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблен - опасен, зол в речах.
Когда весна - хмур, нездоров, рассеян.
Ужасен, если оскорблен. Ревнив.
Рожден в Москве. Истоки крови - родом
из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс - бешеный. Куда там нильским водам!
Гневить не следует: настигнет и убьет.
Когда разгневан - страшно смугл и бледен.
Когда железом ранен в жизнь, в живот -
Не стонет, не страшится, кротко бредит...
Б.Ахмадулина

Не представляю Пушкина без падающего снега,
бронзового Пушкина, что в плащ укрыт.
Когда снежинки белые посыплются с неба,
мне кажется, что бронза тихо звенит.
Не представляю родины без этого звона.
В сердце ее он успел врасти,
как его поношенный сюртук зеленый,
железная трость и перо - в горсти.
Звени, звени, бронза. Вот так исогреешься.
Падайте, снежинки, на плечи ему...
У тех - всё утехи, у этих - всё зрелища,
а Александр Сергеича ждут в том дому.
И пока, на славу уставнадеяться,
мы к благополучию спешим нелегко,
там гулять готовятся господа гвардейцы,
и к столу скликает «Вдова Клико»,
там напропалую, как перед всем светом,
как перед любовью - всегда правы...
Что ж мы осторожничаем?
Мудрость не в этом.
Со своим веком можно ль на «вы»?
По Пушкинской площади плещутстрасти,
трамвайные жаворонки, грех и смех...
Да не суетитесь вы!
Не в этом счастье...
Александр Сергеич помнит про всех.
Б.Окуджава

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.
В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель -
Она с величием, он с разумом в очах -
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.
Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.
А.С. Пушкин

"Здесь похоронена Ланская..."
Снега некрополь замели.
А слух по-прежнему ласкает
Святое имя - Натали.
Как странно, что она - Ланская.
Я не Ланской цветы принес,
А той, чей образ возникает
из давней памяти и слез.
Нам каждый день ее был дорог
До той трагической черты,
До Черной речки, за которой
Настало бремя суеты.
Как странно, что она - Ланская.
Ведь вслед за выстрелом сама
Оборвалась ее мирская,
Ее великая судьба.
И хорошо, что он не знает,
Как шли потом ее года.
Она фамилию сменяет,
Другому в церкви скажет "да".
Но мы ее не осуждаем.
К чему былое ворошить...
Одна осталась - молодая,
С детьми, а надо было жить.
И все же как-то горько это. -
Не знаю, чья уж тут вина, -
Что для живых любовь поэта
Так от него отдалена.
А.Дементьев

Ты рассыпаешься на тысячи мгновений,
Созвучий, слов и дум.
Душе младенческой твой африканский гений
Опасен как самум.
Понятно, чьим огнем твой освящен треножник,
Когда в его дыму
Козлиным голосом хвалы поет безбожник
Кумиру твоему.
Б.Садовской

Старик тунгус, приехавший на съезд,
Задет лучами праздничного света.
Он теплый бублик на морозе ест
И ходит не спеша вокруг поэта,
Который шляпу комкает в руке.
Старик глядит на памятник высокий
И на родном тунгусском языке
Тихонько шепчет пушкинские строки.
Лев Озеров
|
| |
| |